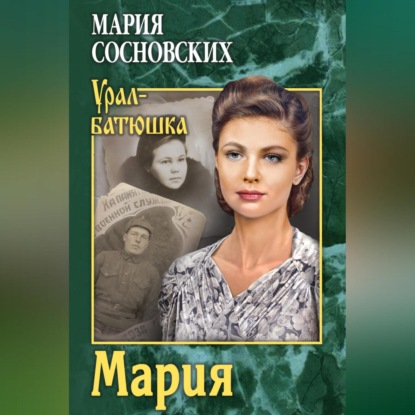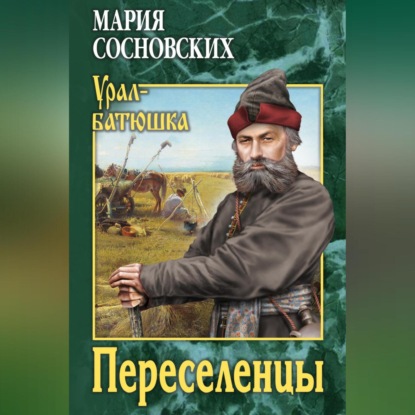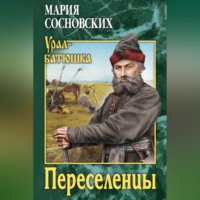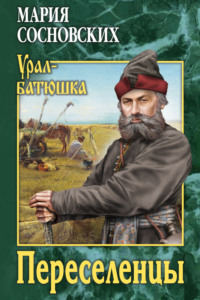Полная версия
Мария
– Теперь ты, куманёк, и ты, кумушка, и все вы – Люба, Костя, Вася и Маня – к нам в гости через две недели пожалуйте, вот к Александру на свадьбу, – кивнул он на сына, – невеста уж высватана. И Иван с Ульяной, и сам жених тоже всех приглашают!
По такому случаю ещё раз присели перед дорогой. Всем, конечно, не терпелось узнать, кто невеста, чья и откуда, но дядя Немнон, подмигнув, ответил:
– Молва донесёт! А на свадьбе и сами всё узнаете.
После обеда погода стала меняться. «Золотая осень» кончалась: с северной стороны натянуло морок[61], посеял нудный бусенец.
…На свадьбу к Александру Немноновичу отец с матерью поехали вдвоём. Сразу после отъезда родителей к Любе пришла подруга Лиза, а к братьям пришли товарищи. Много в тот день было съедено семечек, выпито квасу, но ещё больше было веселья.
– Петька, сыграй «Махоньку», да побыстрее! – попросил Мишка.
Петро стал играть, и Мишка вышел на круг – развёл руки и в такт, прищёлкивая пальцами, пошёл, пошёл, припевая: «Ох, хонька, махонька моя! Полюбила ты тихонько меня. Потихоньку, тихонечку, помаленьку, маленечку. Пойду выйду в чисто поле далеко, не моя ли махонька идёт? Не моя ли махонька идёт? Не моя ли возлюбленная?»
Лиза не могла усидеть на месте, вихрем закружилась вокруг танцора и запела: «Старичёнко на вечерку приходил, полну пазуху парёнок приносил! Мне парёночек хочется, старика любить не хочется…»
Выходили на круг и остальные. Плясали до пота, до изнеможения, пока гармонист не перестал играть. Но веселилась в тот вечер, наверное, больше всех я – скакала, кривлялась и даже, когда меня прогоняли с круга, я не переставала баловаться и дразниться. «Манька, хватит диковаться[62], иди спать», – уже много раз говорила мне Люба. Но я продолжала своё.
Василий, который стеснялся при других людях подать голос или выйти на круг, тоже дурачился не меньше других. Он подавал мне руку и пел: «Моя милая сестра! Вот тебе моя рука!» И мы с ним скакали в паре, не слушая музыку.
Во всех домах уж давно погасли огни, а в нашем доме всё ещё продолжалось веселье без вина и пива.
Девки в тот вечер так и не садились за прялицу, плясали и пели до полуночи.
Когда все разошлись, Люба подозвала меня и шепнула:
– Манька, ты ничего не говори мамке с тятей, что сёдни у нас парни были.
– Если дашь конфет, не скажу, – не теряясь, выпалила я.
– Господи! Да где же я их возьму, ведь праздник-то давно прошёл? На вот семечек!
– На что мне семечки?! Их и так в амбаре полный мешок, я завсегда там сама возьму. Ты лучше сними верхний сундук, а в нижнем, на дне, вот в том углу есть урюк, мне его надо!
– Да ты чё, сдурела? Ведь мама-то увидит, что мы брали урюк.
– Тогда я всё скажу и тяте, и маме, и что кавалеры тут были, и вообще всё! Кто с кем ходит… всё-всё… А урюк я всё равно достану. Ваську подговорю, – я стала беззастенчиво шантажировать сестру.
Скрепя сердце Люба пообещала мне назавтра достать урюк, и я, безмерно довольная, согласилась идти спать.
Утром ко мне подошёл Васька и, скорчив таинственное лицо, прошептал:
– Маньша, а я ночью чертей видел…
– Врёшь! – воскликнула я, побледнев от страха.
– Когда я тебе врал-то, – с обидой протянул Васька, – они у нас в голбце живут: страшные, чёрные, с красными глазами, и во рту у них огонь.
– Давай голбец на клюку закроем, – быстро сориентировалась я, – они выйти не смогут.
– Нет… Для нечистой силы ни двери, ни клюка не причина, – с озабоченным видом произнёс брат, – если они захотят выйти, то всё равно выйдут. Я вот уйду на улицу и прикажу им выйти. И они тебя к себе в голбец утащат.
Услышав такое, я не выдержала и заревела. Я была готова отдать брату все накопленные конфеты и даже указать место, где мама прячет сахар и урюк.
С этого дня я всегда была настороже: если взрослых не было дома, то я надевала шаль, пимы, свой маринак и была готова в любой миг, как только появятся из голбца черти, выбежать на улицу.
Вечером к Ваське пришёл его задушевный дружок Яшка Еварестов. Пошептавшись с другом в прихожей, Васька сказал мне: «Сиди тут! Мы сейчас придём!»
Я осталась в избе одна. И такой на меня напал страх, что я, не помня себя, быстро оделась и вышла на улицу. Я представила чертей в голбце с красными глазами и с огнём во рту.
Походила, походила по ограде, и мне стало страшно – вдруг черти из дома выскочат. С рёвом я выскочила на дорогу. Василия нигде не было видно – улица была пуста. Темнело.
– Маньша, ты чё тут стоишь? – я подняла голову и увидела тётю Домну, которая вышла из своих ворот.
– Васька ушёл, не знаю куда, а в голбце у нас черти, и я их бою-ю-юсь, – всхлипнула я.
– Какие черти? – с удивлением спросила Домна. – Кто тебе такую глупость сказал? Про чертей-то? Небось, Васька? Ну ладно, пойдём к нам.
Четыре дня, которые пробыли на свадьбе родители, мне показались целой вечностью, никогда ещё я так не страдала. Я до того поддалась страху, что боялась оставаться дома даже днём. Ночью мне снились ужасные сны, и я с криком то и дело просыпалась.
– Маньша-то у нас чё-то напужалась, соскакивать стала и туросить[63] по ночам, – говорила мама, – придётся, однако, нароком[64] ехать к Калипатре.
Однако причина скоро выяснилась. Как-то вечером мы с ней лежали, грелись на голбце.
– Мама, скажи правду, черти у нас в голбце живут? – набравшись смелости, спросила я.
– Какие ещё черти? Чё ты ерунду-то мелешь?
– С красными глазами и с огнём во рту? Вася говорил…
– Ну и дурак же этот Васька, какую он тебе глупость внушил. Никаких чертей нет! Запомни это! – строго ответила мать.
– Нет, мама, есть! Ведь в книжке написано и даже вон как страшно нарисовано. Да и Фёкла-то послушница виденье видела, черти и демоны грешников в ад тащат. Да и сама ты тоже говорила, что если будешь обманывать кого или ругаться, то демоны тут как тут.
Мама помолчала, подумала и сказала:
– Демоны-то действительно есть, но ведь Боженька дом хранит. Вон на божнице икон-то сколь, а где в дому есть иконы, там нечистому духу делать нечего. Да и на нас на всех нательные кресты надеты. Так что враг рода человеческого к нам не подступится! А сейчас мы с тобой воскресную молитву выучим от нечистой силы. Слушай и запоминай: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением…»
…В детстве я думала, что родители живут между собой очень дружно, никогда не ругаются. Но как стала повнимательнее присматриваться, стала замечать, что их отношения бывали натянутыми.
Как-то отец заколол годовалого бычка и повёз на рынок мясо продавать. Домашние ждали, что отец расщедрится на подарки, на какие-никакие обновы… Оказалось, что ждали напрасно.
Когда отец вошёл в дом, я втихомолку сидела в горенке и что-то шила для своих кукол. До меня вдруг донеслось:
– Ну, совсем обжаднел! Уж не с ума, видно, деньги-то копишь? Нет чтобы из ребят кому хоть по шапке купить – ребята наши-то уж хуже Филипповых одеты… Ведь не живать нам богато, дак чё не по силам-то кожилиться?![65]
– Ты, мать, не ругайся, – буркнул в ответ отец. – Знаешь ведь: деньги за мясо не пропил, не прогулял, как другие-некоторые! Иной с рынка-то всё лёжа едет, упасть боится, и шапку дорогой потеряет… А для кого стараюсь – для вас же, для семьи!
Мать была за то, чтобы получше одевать ребят, а отец ратовал за другое: чтобы сначала отстроиться, завести добрых лошадей, скотины прикупить. А главное – чтобы были необходимые в хозяйстве плуги, бороны и прочее.
Помню, как из города отец привёз двухлемешный плуг. Он был покрашен ярко-зелёной краской, но после первой пахоты отвалы его засияли вогнутыми зеркалами, и мы, ребятишки, часто гляделись в них, хохоча над собственными искривлёнными рожицами.
Отец в разговорах с мужиками нахваливал железные бороны-зигзаги: лёгкие и в то же время хорошо разрыхлявшие землю, выдиравшие из пашни коренья зловредных сорняков.
Перед севом у нас не было борноволока[66], пришлось нанимать со стороны. Каин Овчинников предложил в работники своего сына Ваську.
– Мы-то не лишка сеем, – говорил он отцу, – вот и бегает мой оголец[67] всю весну без толку, ветер пинает… Пусть уж боронит, всё же какая-никакая работа! Ну как, возьмёте Ваську?
Отец согласился, и назавтра десятилетний Каинов сынишка пришёл к нам работать на всю весеннюю страду. Его кормили, справили кое-какую одежонку. После сева отец рассчитался со старшим Овчинниковым, однако Васькой-борноволоком остался крепко недоволен:
– Ленивый парнишка-то, – махнув рукой, сказал он матери, – голимый батюшка растёт… А уж для лошадей – прямо палач! Не надо мне больше такого! На будущую весну Маньшу приучать стану…
– Куда ж таку малу – да в борноволоки?! – ахнула мама.
– Любашка тоже сызмала боронить начала, – возразил отец, – хуже нет, чем чужих нанимать. Свой робёнок есть свой. Его и отлупасить на поле не грех, коли чё не так сделал; поучил легонько, да опять на лошадь!
Что ответила мать, могу только догадываться: при детях наши родители старались не спорить и тем более не ругаться.
А препирались они всегда почти об одном и том же. Мама изо всех сил стремилась приодеть старших ребят, чтоб они не хуже других выглядели и не было стыдно за них перед людьми, но отец думал только о хозяйстве.
Как-то мама, ничего не сказав отцу, пешком по худой дороге пошла в деревню Долматову, унеся с собой на продажу яйца. Сдала их в сельпо и на выручку купила два метра сатина: тёмно-синего, отцу и парням на рубашки, и розового – Любе на кофточку. Сатин был широкий – «покройный» – сказала мама, так что из лоскутов набралось на кофточку ещё и мне. Только самой маме сатина не досталось, и холщёвину, в которой она ходила, сменить ей было нечем.
Швейной машины у нас не было. Рубашки-косоворотки мама шила по ночам. На вороте и по низу сделала вышивки красными и чёрными нитками по канве.
Отец немного поворчал на мамино самоуправство: «Нечего было в Долматову ходить, и у нас на рынке можно было яйца-то продать, да подороже».
И сразу начал о своём:
– Красного леса хочу купить. На амбаре крышу тесовую надо делать, пол в завозне настлать, – отец стал загибать на левой руке пальцы… Неожиданно его лицо просветлело, и он мечтательно произнёс: – В этом году новую кошёвку думаю прикупить… А вам всё обновы подавай… Обновы обновами, а хозяйство – главнее!
– Ты бы, наверное, с неба звезду схватил! – сердилась мама. – Из грязи – да в князи! Чё ты так стараешься? В кулаки выбиться, чё ли, хочешь? Вон в Харловой сколь богатых-то хозяев раскулачили, всё отобрали – в чём были из домов повыгоняли и сослали неизвестно куда!
– Кого это где повыгоняли?
– Стихина, Вершинина, Ксенофонта, Белобородова…
– Дак оне люди были торгующие, богатые, и у них каменные дома двухэтажные, магазины. Спокон веков на них сколь людей робило… А мы? Сравнила тоже… Все поди-ка знают, что всё своим трудом… Из батраков, из самой что ни на есть бедности… Чичас уже то время прошло – середняка, брат, не трогают… Трудись и жить будешь!
Каин
В самый разгар лета, в Петровки[68], к нам зашёл Михаил Комаров. Увидав отца на ограде, поздоровался и сказал:
– Дядя Панфил, сёдни я был в Долматовой, велено тебе ехать в город за солью для потребиловки[69], говорят, по списку ваша очередь подошла.
– Ладно! Спасибо, что сказал, а то я сам-то с зимы в лавке не бывал. Всё некогда.
«Вот так незадача, а я завтре хотел на третий ряд пары пахать! – сокрушался Панфил. – И лошадь будет занята, и два дня пропадёт. Такая жарина, а ехать всё одно надо. Хорошо, хоть не в страду. Сенокос прошёл, а жнитво ещё не поспело».
В городе Панфилу повезло – соль он успел получить ещё до обеда. Погрузил мешки в телегу и потихоньку выехал в сторону дома.
Ни ветерка, ни дуновения. Дорога шла среди полей поспевающей ржи. Солнце палило нещадно. Густой патокой растекалась жара. Рыжко сразу взмок от тяжести гружёного воза… Панфил шёл рядом, вытирая с лица пот рукавом рубахи. «Скорее бы кончились эти поля, – думал он, – побыстрей бы подняться на Ерзовскую гору и там отдохнуть до вечера в тени деревьев».
Добравшись до горы, Панфил выпряг лошадь, пустил пастись, а сам лёг под телегу – какая благодать: ветерок поддувает, не то что в низине. «Ни одного комарика, хотя кругом лес и травы для лошади сколь хочешь. Отдохнём тут, а по холодку незаметно и до Берёзовки докатим. Уж больно там у пожарницы в колодце вода хороша, – думал он, доставая хлеб, лук и картофельную лепёшку».
«Но! Но! Милая! Ишо немного!» – вдруг раздался невдалеке мужской голос. Через некоторое время Панфил увидел невзрачного пьяненького мужичка, понукающего неказистую лошадёнку, тянувшую из последних сил гружёную телегу.
– Путём-дорожкой! – крикнул путник.
– Здорово! – ответил Панфил.
– Уф! Жарина! Сил нет! Нельзя ли и мне тут остановиться, добрый человек?
– Останавливайся, чего тут ещё – места всем хватит.
– Соль вот везу для Харловского сельпо, – поделился с Панфилом мужичок.
– И я соль. Как я тебя не видел, когда получал?
– И я тебя не видал, – широко улыбнулся мужик, – вот хорошо-то, что попутчика встретил, ты ведь харловский, а я пьяновский, Абунтием меня звать… Я тебя-то сразу признал. Вижу, знакомый человек, – мужичок быстренько достал из телеги кошель с провизией, из кармана четушку[70] с водкой и, сияющий, предложил отцу: – Вот, Панфил Иванович, у меня и водочки малость есть, да стакашка-то нет. Не обессудь уж, глони прямо из горлышка.
– Нет! Чё ты? Я уж поел. Да и не надо мне, и так жарко! Да и совсем не пью водку, голова у меня больная, ранен я на фронте ещё в германскую.
– Дело твоё, силой не неволю… Кому можно, а кому и нет. Чё же поделаешь? – Абунтий жадно приложился к четушке, закусил хлебом и луковицей и стал ещё словоохотливее. – Ну вот и всё! Из пустой посудинки не пьют, не едят, под гору валят! – удостоверившись, что в бутылке водки больше ни капли, мужичонка отбросил четушку к своей телеге. – Значит, по нездоровью не употребляешь?
– Да, не пью и не курю, потому как осколок застрял в голове.
– А к дохтурам не обращался?
– Да нет… Тогда я раненый в плен попал… А кто же в плену нашего брата лечить-то стал? Так и остался… Зарос… А потом почти пять лет мытарился по разным странам. А домой пришёл, не до того стало. Вот так и хожу…
– А ты с какого года? – спросил Абунтий, затянувшись самосадом.
– С 1886‑го, – ответил Панфил.
– Ну а я на два года помоложе тебя буду. Я в плену не был, но тоже перенёс немало: и ранение, и тиф. Домой пришёл в начале 1919‑го, а тут, будь он не ладен, Колчак, и дёрнул же меня нечистый идти в красный отряд… У красных тогда шибко худо дело было: ни ружей, ни патронов, ни продовольствия. Ох! И натерпелись мы! Под Ирбитским заводом жестокий бой приняли, и осталось нас от всего отряда человек пятнадцать, а пополнение не идёт, и патронов нет. В Крутихе взяли нас белые в плен. Затворили в завозню – трое суток ни еды, ни воды не давали. Чё выжидают, не знаем.
Вот, наконец, на исходе третьего дня выгнали нас из завозни. Построили. Перед строем здоровенный краснорожий детина чапается[71], видно, под турахом[72]. Смотрю, рожа-то знакома. Ваш, харловский – Каин. Я на него гляжу, а он меня прикладом… Я не стерпел да как заору: «Чё ты, белогвардейская сволота, меня бьёшь?! А ишо земляк». Он аж побелел весь от злости. Я те, говорит, покажу земляка! Да как прикладом-то мне двинет! Тут уж у меня свет померк…
В себя пришёл только тогда, когда к скамье привязывать стали… Так шомполами отодрали… Да не только меня – всех, кто со мной мытарился[73].
Очухался ночью – руками, ногами пошевелить не могу. Голову приподнял, присмотрелся, а вокруг меня – трупы. Я попытался их от себя отбросить – не могу – слабость во всём теле. Лежу, мертвяками придавленный.
Вдруг перед глазами старуха появилась – страшная, как смерть, и провалившимся беззубым ртом шамкает: «Живой, касатик? Испей-ка, родненький, водички, – и льёт мне в рот воды. – Погоди ужо, как потемнее будет, позову внука, вызволим тебя».
Ночью и вправду телега остановилась, положили нас двоих живых, закрыли сеном и повезли.
Спасибо бабке Федосье, выходила она меня… Лежал я пластом у них на сеновале. Вот, посмотри, чё сволочи со мной сделали! – мужичонка задрал грязную потную рубаху, показывая багровые поперечные рубцы на спине. – Во как меня Овчинников отделал, ни за што ни про што. Хворой я с тех пор стал… Внутрях чё-то болит, дохтура, говорят, лёгкие. А ему чё, гаду ползучему?! Живёт, хоть бы чё… Правда, видно, стыдно роже-то стало, жить в деревне не стал, куда-то утрёсся[74]. Не в вашем он хуторе случайно?
– В нашем, – ответил Панфил. – А ты, Абунтий, не ошибся? Точно Каин был в карательном отряде у Колчака?
– Нет! Нет! Чё ты, как можно ошибиться?! Я его хорошо знал. У меня память добрая на людей… Таку рожу разве забудешь? Да пока живой – помнить буду. Такое ведь не забывается.
– Ну и ты куда-нибудь жаловался?
– Да куда жаловаться теперь, чё уж, столько лет прошло… Сначала всё стращали, вот-вот белые придут и всех перевешают, хто служил у красных… Потом уж и люди стали говорить: «Не связывайся ты с Каином, у него родные да двоюродные братья, все такие ухобаки[75]. Оне тебя убьют и знать нихто не будет». Овчинниковых вся Харлова боится. Белогвардейская сволочь тут ходит, живёт и здравствует, а я молчу! Вот так! Братец ты мой! Вся жисть под страхом, а чё поделаешь, жить-то всем охота…
Я вот так думаю, Панфил Иванович, жисть-то вроде опять на старый лад поворачивает. Богатые опять богатеть стали. У нас вон в Пьянковой помешался народ на машинах, молотилки-жнейки покупают. Кто сепараторы, кто маслобойки приобрёл. Лошадей хороших заводят, коров племенных выписывают…
– Народ лучше стал жить, – согласился с рассказчиком Панфил, – так уж повелось, что человек всегда стремится жить лучше, чем он живёт. Да и то посуди, парень, двенадцатый год советской власти. Хватит уж бедствовать…
Солнце клонилось к закату, потянул лёгкий ветерок. Стало прохладнее.
– Однако, Абунтий, пора ехать, лошадям пить надо, а тут водопою нет. Шесть вёрст до Берёзовки, рукой подать, а там и лошадей напоим, и сами напьёмся.
Абунтий, кряхтя, подобрал порожнюю четушку, сунул между мешков в телегу и начал запрягать лошадь.
Отец был поражён услышанным: «А вдруг это неправда? А вдруг это был не Каин и Абунтий ошибся? Может, просто похожий на Каина человек?»
Дома отец осторожно, исподволь, завёл разговор с мамой:
– Не помнишь, мать, когда Колчак в наших местах был, кто служил у белых?
– Да тогда всё лето мы с Кирой да с дедком Евдокимом в лесу прожили. Боялись домой ехать, и скотина с нами была, и робятишки мучились в суземье. Молодых-то мужиков поголовно никого дома не было. Попробуй узнай, хто где у кого служил…
Коммуния
Вечером наша семья сидела за ужином. Взглянув в окно, я увидела, как по переметённой снегом дороге в сторону Калиновки движется повозка, полная людей. Запряжённая в неё добрая лошадь была, похоже, не хуторская. «Кто-то едет!» – показала я в окно пальцем.
Минут через пятнадцать, мы ещё не успели отужинать, мимо окон пробежал соседский мальчишка, звонко крича во всё горло: «На собранье! Идите в народну избу – из району приехали!»
– Чё тако? – вслух недоумевал отец. – Поди чё-то важное деется?.. Пойду-ка я!
Он быстро оделся и ушёл.
…О том, как началась коллективизация в маленьком приуральском хуторе, я пишу, по большей части, со слов старших – своих родственников и соседей. Но кое-какие эпизоды тех давних и страшных дней я видела и сама.
Калиновцы гурьбой повалили к «народной избе». Внутри народу было – битком. Опоздавшим мест не хватило, и они столпились у входа, а кто успел пробраться дальше внутрь, стояли вдоль стен. За столом, накрытым красным сукном, важно сидели какие-то мужики начальствующего вида. Один из них, покопавшись в кожаном портфеле, достал бумагу, встал, поднял руку, требуя тишины.
– Товарищи! У нас в стране начинается всеобщая повсеместная коллективизация сельского хозяйства!
Недоумённый гул голосов… Глуховатый дед Ерений испуганно перекрестился:
– Господи Исусе! Опять война?
– Чё мелешь, дедко! Кака война?! – оборвал его сосед.
– Да как же, вить он сказал – мобилизация. Солдат набирать будут, значит…
– Совсем ты оглох, чё ли? Како-то друго слово он сказал!
– Тише, товарищи! – прикрикнул выступающий. – Обобществляется семенной и фуражный фонд, летний и зимний инвентарь, лошади, коровы и мелкий скот, а также птица. Все деревни и хутора вашего сельсовета, а с ними – посёлки Броневик и Ленинские хутора, объединяются в одну коммуну под названием «Гигант».
На зиму придётся вам, товарищи, потесниться. С Броневика и Ленинских хуторов люди до весны будут переселены в ваши дома. По весне перевезём их на постоянное жительство в Калиновку.
– А строиться-то им где? – крикнул кто-то.
– Лес возле хутора вырубим, вот и будет место, сделаем здесь большой посёлок! – ответил товарищ из района и, дождавшись, когда утихнет перешёптывание в зале, продолжил: – Теперь о главном… Кулачество повсеместно ликвидируется как класс! Всё сельское население делится на четыре категории: батраки, бедняки, середняки и кулаки. Ясно, товарищи?
Состав правления коммуны в районе уже назначен: председатель Долматов Михаил Ферманович из посёлка Вольная Поляна…
– Тоже нашли председателя! – выкрикнули от дверей. – Самый первый лентяк!
– Кто кричал?! – раздался грозный голос из президиума. Люди сразу затихли, отводя глаза в сторону.
Дождавшись тишины, приезжий начальник продолжил: – Заместителем Долматова назначен Стихин Филипп Фотиевич…
– Молодой он ишо нами командовать! – выкрик из зала вновь прервал выступающего.
– К порядку, товарищи! Иначе нарушителей выгоним вон! Теперь перейдём конкретно к вашему хутору, – начальник постучал по столу огрызком карандаша, – председателем в Калиновке назначается Овчинников Каин Кирович.
– Каин?! – по избе прокатился возмущённый гул.
– Да, именно! И это обсуждению не подлежит, – оратор окинул присутствующих колючим взглядом и, взглянув на Каина, добавил: – Председателю немедленно приступить к составлению пофамильных списков хуторских кулаков. В течение трёх дней списки должны быть представлены в район! Переходим ко второму вопросу! С хутора Калиновка предписано отправить на лесозаготовки не менее шести мужиков с подводами в Богословский завод[76]. Отправка – через пять дней. Прошу называть фамилии!
– Сосновский Панфил! – начал выкрикивать Овчинников. – Кузнецов Еварест, Сосновских Максим. У них у всех взрослые сыновья, дома есть кого оставить! Стихин Петро, Юдин Григорий!
И разом всё собрание зашумело, поднялся невообразимый гвалт.
– Тихо! Т-и-и-хо! – надрывался представитель района, – предупреждаю: завтра с утра по дворам будет переписан весь скот. И птица тоже – до последней курицы! Если при проверке не окажется в наличии хотя бы поросёнка, хозяина будем судить по всей строгости закона, как саботажника!
Собрание так и ахнуло:
– Как это, за своё же – и под суд?! Где правда-то?
– Не понимаете вы, что ли?! Это – распоряжения из центра! – пытались урезонить собравшихся окриками из президиума. – Всё, собрание закончено! И хватит тут шуметь – расходитесь по домам! Активистам остаться для получения дальнейших инструкций!
Как из разворошённого муравейника, расходились хуторяне по своим подворьям.
– Беда, кума! – с порога заголосила, как по покойнику, вбежавшая к нам в дом соседка. – Погибель наша пришла – в каку-то коммуну всех нас загнать хочут! Всё начисто будут отбирать!
Мама побледнела, трясущимися руками стала креститься. Я, в предчувствии непонятной и страшной беды, в страхе прижалась к ней.
– А наш-от где? – с тревогой спросила мама.
– Да всё ишо мужики с собранья не пришли… Иванко вот вперёд домой прибежал, дак всё обсказал. Мы сейчас скотину колоть будем! А чё поделаешь, всё равно отберут! Завтре, когда уж всё опишут, поздно будет!
Не успела соседка выскочить за ворота, как пришёл из «народной избы» отец.
– Ну, мать, дождались мы хорошей жизни… Каин Овчинников на хуторе теперь – советская власть! Чё захочет, то и будет делать, как при Колчаке. Поди не зря у него в отряде-то карательном зверствовал… Да нет, теперь он похуже Колчака будет! Меня вот в завод на работы угонят, вы тут одни останетесь… Уж всласть тогда наиздевается!
Отец с минуту помолчал, о чём-то напряжённо думая. Потом решительно поднялся с лавки.
– Заправь-ка фонарь, мать… Пойдём, поможешь мне скотину колоть… Всю подряд пластать буду! Только бы этой сволоте, Каину, не досталось!