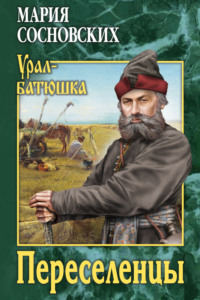Полная версия
Мария
Собрался с духом, бесшумно зашёл в сени, нашарил в потёмках скобу и резко рванул дверь в избу, появившись внезапно, как привидение. Должно быть, вид его был страшен.
За столом сидели несколько мужиков, пили чай. Бледные, с выпученными глазами, они смотрели на отца, как на призрак, но он ни на секунду не дал им опомниться: «Я не один! На улице мои товарищи! Отдайте мне мой товар и семнадцать рублей, и я вас не знаю! Вот ваша сотня! Иначе вас сейчас арестуют, как фальшивомонетчиков».
Всё произошло в мгновение ока. Покупатели были застигнуты врасплох. Старший дрожащими руками подал отцу деньги, получив обратно фальшивую сотенную, и только мог выговорить: «Петро, отдай ему всё».
Преступники были ужасно поражены происходящим, им и в голову не пришло, что перед ними всего один человек, и тот совершенно безоружен.
Панфил быстро через калитку перетаскал в свои сани гусей и поросят…
– Где это ты столько дней ездил? Уехал в город и как пропал. Мы уж тут все иззаботились, – поинтересовалась дома жена.
– Ой, мать, и не говори, сколь за эти дни я пережил приключений – чуть до самой Алапаихи не доехал! – и он рассказал ей всё.
– Да как ты решился так рисково да необдуманно? – удивилась Парасковья. – Не знаешь ведь, чё оне за люди, убили бы, и концы в воду, и сроду отродясь тебя бы никто не нашёл. Да искать-то где? Недаром мне тут всё худые сны снились: горы, обрывы, пропасти – к опасности это.
– Да получилось как-то само собой. Бог помог!
Сейчас, находясь в бараке, Панфил вновь и вновь прокручивал в памяти события тех лет. «Там-то было намного проще: ехал в погоню, сразу по горячим следам, – думал он, лёжа на нарах, – здесь же совсем другое дело десятилетней давности, а главное, никто толком ничего не знает. Свидетель-то всего один – пьянковский мужик Абунтий… Где бы ещё найти людей, которые знают про зверства Каина? – И вновь, и вновь проявлялись в памяти страшные бело-розовые и багровые шрамы на спине мужика. – Как только освобожусь от этих проклятых лесозаготовок, так и, домой не заезжая, в Пьянкову и в Крутиху. Надо узнавать, выспрашивать народ, собирать свидетелей».
Крестьянское сердце
После того как у калиновцев забрали все запасы, руководство коммуны озаботилось пропитанием населения и в хуторе организовали четыре столовые.
– А меня Анисья Калпасиха накормила мясными щами и овсяной кашей с маслом! – придя домой из столовой, хвастался Васька.
– А ты заробил на еду-то? – сурово спросила мать.
Парасковья ни в какую не хотела ходить в столовую – она считала это унизительным.
– Сходи, кума, в столову-то, чё поделаешь, раз до такой жисти дожили. Мы вот все ходим. А не хочешь, дак пусть Люба тебе носит. Как же жить на одной картове?[85] Раз у нас всё отобрали, пусть кормят, не замирать же нам с голоду? – убеждала Парасковью соседка.
Некоторые калиновцы так приспособились к столовым, что из одной сразу шли в другую и везде ели да ещё домой выпрашивали.
Правление решило в этом деле навести порядок – всё население прикрепили к определённым столовым, а кухаркам дали списки столующихся.
Обыск у нас был ещё не один раз, а что искали, не знаю. Перерывали всё вверх дном и уходили. Всего-то в доме было: тулуп, мамина старая перина, тощие подушки да в сундучишке несколько старых рубах – вот и всё наше богатство. Зачем нужно было всё это перетрясать? Денег у нас отродясь не было, хлеб, мясо и скотина отобраны, чего же ещё?
Мама уже ко всему была равнодушна. Если бы вытащили из-под неё перину и подушку, она бы теперь уж не сопротивлялась и не кинулась, наверное, драться, как прежде.
На нас она тоже перестала обращать внимание, словно мы ей стали чужие. Иногда только тяжело вздыхала и тихо говорила, глядя на меня:
– К чему на беду да на горе родилась? Нет чтобы умереть маленькой, ведь как хворала… Те уж большие, как знают, а вот эта? Недаром в Писании сказано: «Но ужаснее всего в те дни будет беременным женщинам и кормящим матерям…»
Наверное, мама так бы и угасла от всех свалившихся на неё бед, но вскоре в наш пригон поместили дойных коров.
Двор огласился, как в былые времена, ревом скота. Коровы были незнакомые, с чужих деревень и согнали вместе их так много, что они еле-еле помещались в конюшнях.
Мама с Любой при виде коров воспрянули духом. Люба стала дояркой, а за ней и мама: «Пойду и я тоже, скотина не виновата, хоть и чужая. Без дела-то ещё хуже, лежать да смерти дожидаться. На работе-то хоть немного забудусь». И уже назавтра с особым усердием ухаживала за коровами, чистила их и кормила.
Не выдержало крестьянское сердце. Сама пошла в правление, в сердцах накричала: «Дураки вы безмозглые, а не руководители! К чему было наше сено куда-то увозить? А теперь столько коров нагнали, кормить нечем! Везите сена и соломы, муки овсяной на болтушку, скот истощён! Ветеринара необходимо, есть больные, и вымена поморожены. За коров я вам спокою не дам никакого! Заставлю вас шевелиться!»
Дома её сейчас было не узнать. Она стала командовать: «Василко, нечё бездельничать! Иди на конный двор, езжай за соломой, а то не дождёшься, когда бригадир пришлёт».
Заведующим фермы назначили Старикова Андрея – вотяка с хутора Беднота. Принимая вечерний удой у мамы, Стариков ехидно на ломаном русском языке сказал:
– На три пальцика ведёроцко не полное! Цвоя рука владыка.
– Чё ты мелешь, вотяцкая харя?! – взбеленилась Парасковья. – Ворую, чё ли, я молоко-то? «Ведёроцко не полное!» – передразнила заведующего мама. – Да видал ли ты в своей жизни коров-то? Начальник, тоже мне! Коров-то кормить как следует нужно, вот тогда и молоко спрашивать! Небось, сам-то ни одной коровы в коммунию-то не сдал? Голь перекатная! А я – семь скотин! Поди-ка лучше твоего знаю, как кормить, доить и ухаживать!
Коммуна, как война, как лютый враг, ворвалась в нашу жизнь. Сорвала все планы – уничтожила устой жизни, заведённый крестьянством сотнями, тысячами лет. Люди стали друг другу злыми и непримиримыми врагами. Раньше между соседями была взаимовыручка – собирались на помочи при строительстве, выручали один другого в бедах и несчастьях, а теперь же шпионили и доносили друг на друга.
На первый взгляд казалось, что в коммуне все люди заняты работой, но, приглядевшись, становилось понятно, что труд этот был какой-то суетливый, от которого один вред и нет никакой пользы. Взять хотя бы нашу усадьбу: сначала вывозили сено из нашего пригона, а потом, когда сделали в нашем дворе коровник, стали завозить сено снова к нам. Коров и лошадей столько впихнули во двор, что животные просто-напросто давили друг друга. Приплод в таких условиях сохранить было невозможно. Доярки не могли углядеть за всей скотиной, да и больно им нужно? «Не моя ведь корова-то и не мой телёнок», – думали они.
Почти каждый вечер правление собирало собрание, которое часами обсуждало последние постановления партии и правительства. Каин, пытаясь навести порядок, как сумасшедший гонял по хутору на реквизированной у Панфила кошёвке и лошади. Одет он был в добрую собачью доху, бобровую шапку – вылитый кулак. Проезжая мимо нашей усадьбы, он, торжествуя, смотря в наши окна, изо всех сил нахлёстывал Воронушку и проносился в отцовой кошёвке мимо.
– Нарушит этот палач кобылёнку, забьёт, загонит насмерть, – вздыхала мама, – её ведь никто кнутом не ударял никогда, а этот Иуда вон как лупит.
Постояльцы
Правление решило объединить Броневик, Хлебороб, Бедноту и Ленинские хутора в одно большое селение, и теперь в каждой избушке Калиновки ютились по две-три семьи.
К нам тоже подселили квартирантов – семью Катаевых с Ленинских хуторов.
Катаев Фёдор Михайлович был уроженцем из деревни Галишева, а жена его, Парасковья Игнатьевна, – харловская из Чертят.
Фёдор был мужичонка смирённый и крайне невидный, какой-то пришибленный. Жена, полная противоположность мужу, была расторопной, разговорчивой, весёлой и неунывающей.
Парасковья Игнатьевна пришла к нам сначала одна, без семьи.
– Вы уж, Парасковья Ивановна, пустите нас до весны на квартиру, – обратилась она к моей матери. – Семья у нас не так-то большая, пять человек, маленьких нету, Санко один, дак он у нас по отцу тихий да покладистый. На пасынка тоже не пообижусь, а Палашка, сестрёнка моя, того гляди замуж выскочит, парень у неё есть, – гостья так и сыпала словами, точно полной горстью горох сеяла, – вы уж пустите на зиму, а там по весне, если ничё не изменится, свою избушку в Калиновку перевезём. А уж как неохота! Ведь где мы живём, место больно хорошее, весёлое, да и привыкли уж мы тамо-ка[86]– всё своё. И отколь только морок этот натянуло? Ведь как хорошо жили, припеваючи. Да не знаешь, с которой стороны лихо-то придёт, каку-то кумыну затеяли, народ-от ревмя ревёт, а куда деваться? Выгоняют нас из своих домишек. Поневоле завоешь да поедешь.
– Куда деваться-то? Живите уж, – ответила мама, внимательно выслушав гостью.
Парасковья Игнатьевна стала работать дояркой. Бойкая и расторопная, она с раннего утра балагурила, смеялась, поднимая всем настроение. Молоко она запросто, без зазрения совести, приносила домой и наливала нам с Санком по большой кружке.
– Молоко-то без спросу берёшь, а если поймают? – как-то сказала ей мама.
– Хоть на калёну доску ставь, всё равно буду брать молоко, – отшутилась бойкая на язык квартирантка, – я вить для робят. Несправедливо последнюю корову отбирать, им чё тамо-ка, у правленцев, не болит голова, если наши робяты без молока?
Она никогда нас не делила: что давала Сашке, то и мне. Сашка был парнишка тихий, добрый и послушный. Даже ни разу меня не ругал, хотя, может, я и заслуживала.
Он в первый же день выложил передо мной все свои игрушки: бабки, панки и прочее добро. У него была целая коллекция пустых папиросных пачек, которую он хранил и очень береёг.
Ко мне приходила иногда моя подружка Нинка Филиппова, и мы все втроём забирались на печь или полати и строили там конюшни и «вели хозяйство», панки и бабки у нас были лошадьми, овцами и свиньями. Кирпичи были коровами, и мы их доили, терев камнем.
Сашка так мог вести игру, что никто из всех нас троих не был обижен.
Помню, как зимним вечером мы собрались у лампы-семилинейки. Все старались сесть поближе к свету. Фёдор Михайлович молча подшивает валенки, а Парасковья Игнатьевна прядёт шерсть. Федя возится со своим больным пальцем. Тряпка на пальце присохла, он отрывает её, морщится от боли, но не говорит ни слова. Палец у него безобразно распух, покраснел и нагноился. Подув на больной палец, Фёдор оторвал листок от герани и приложил к больному месту. Светло-русый чуб ему мешает, волосы лезут в глаза. Он встряхивает головой. На лбу бисеринки пота, над верхней губой пушок. Федя устремляет серые глаза на Липу: «Палаша, дай тряпичку, палец завязать». Липа встает, откладывает вязанье, достаёт из сундука тряпочку, разрывает на узкие полоски. «Дай завяжу как следует. Столетник надо вязать али подбережные листки, а не герань. Не иначе костоед у тебя, Федя, сходил бы ты к бабке Кирихе».
– Самовар вскипел, – кричит с кухни Люба.
И мы все дружно идём пить «чай» – горячую воду без заварки и сахара.
Мама в прихожей заправляет деревянный фонарь, ставит в него керосиновую лампу. Весь вечер и всю ночь она с Парасковьей Игнатьевной караулят стельных коров.
И к утру у нас в избе два новорождённых телёнка. Мама добросовестно исполняет свои обязанности. За общественными коровами ухаживает так же, как раньше ходила за своими. «Скотина не виновата – виноваты люди, – говорит мама. – Коровы всё понимают и ничем не отличаются от людей, а, может, даже и лучше нас».
Мама любила всякую скотину и птицу и вообще всех животных. Однажды в поленнице воробьи свили гнездо, и там лежали яички. Они привлекли моё внимание, пёстренькие такие. Я принесла их домой, а мама увидела. Она меня не била, не ругала. Нет! Это было хуже битья и ругани.
Сделав страдальческое выражение лица, она запричитала: «Ты разорила птичье гнёздышко… А если бы пришёл вдруг из леса великан и разрушил наш дом, что бы мы стали делать?»
Я отнесла немедленно яички, но воробьи уже покинули гнездо. «Вот видишь, что ты наделала!» – сказала мама. Мне было ужасно стыдно.
Другой случай произошёл на покосе. В балагане[87] я убила детёныша ящерицы (ящериц я боюсь и не люблю до сих пор, но никогда больше не трогаю). Ящерёнка я убила палкой и выбросила далеко от нашего становья только потому, что он неприятный на вид. Но когда в полдень мы с мамой укрылись в шалаше от палящего солнца, откуда ни возьмись прибежала большущая чёрная ящерица.
– Смотри, ящерка! – воскликнула мама.
– Я недавно здесь ящерёнка убила, может, она его ищет? – тут же призналась я.
– Не надо было убивать! – строго сказала мама. – Вот видишь, это его мать пришла и ищет своё дитя. Сейчас других ящерок позовёт, они прибегут искать и выживут нас из балагана. Они же всё понимают, как люди. Никогда не убивай ничего живого!
Ура! Коммунии конец!
Жители Калиновки с ужасом обсуждали, как в деревнях активисты кого-нибудь да раскулачили.
«Ой, кума, чё деется в Пахомовой и Коновалятах, сёдни сватья ко мне наведалась, дак порассказывала, – с порога, не заходя в избу, запричитала Афанасия, – неуж до нас доберутся тоже? Вот беда-то! Афония-то Тимофеевича из дому выгнали. Робятишек-то вить у их семеро, мал мала меньше. Какое издевательство над народом! Господи! Старшей-то дочери у их семнадцать лет. Надела на себя одёжи побольше, чтоб ехать-то потеплее, дак Мишка Ферманов сдёрнул с её юбки-то! Стыдобища – с девки-невесты юбки парню сдёргивать! Вот до какого страму мы дожили!
Афоний с Маремьяной разве кому зло в жизни сделали? Да никто в деревне на их сроду не пообиделся. С такой-то семьишшой они и жить-то побогаче стали только в последние годы. Дом выстроили большой да хороший. Вот за дом-то их и раскулачили, а больше ничё и нет! Одни робята. Ой, кума, чё кругом творится! Во всей округе Ферман с сыновьями руководит, самый последний человек, и ишо такие же с им. Дак вить до чё ж злодеи. Народу-то подходить даже не разрешают, проститься или передать чё, прогоняют всех».
Мама с Парасковьей Игнатьевной плакали, утираясь запонами. Я поддалась общему настроению и заревела. Мужики, не проронив ни слова, сидели угрюмые.
В ту страшную зиму раскулачили многих… Везде и всюду были слёзы, плач и причитания.
В Вольной Поляне активисты пришли с обыском к семье Долматова Алексея Сергеевича.
– Выходи, кулацкая тварь! – открыв двери ногой, закричал на всю избу красномордый мужик. – И бабьё своё забирай! Обыск будет!
– Куда? На улице мороз, лучше уж убейте сразу! – твёрдым, спокойным голосом произнёс Долматов, пряча дрожащие руки за спиной.
– В баню иди, а завтра направитесь по месту ссылки в Сургут, – выдавил из себя красномордый.
Активисты старательно, со свечами, обшарили самые тёмные углы чердаков и подвалов, но ничего не нашли.
Ночью дом загорелся, хотя семья Долматова была заперта в бане на засов. Естественно, никто из активистов не захотел брать на себя ответственность за пожар, и шестидесятилетнего Алексея Сергеевича обвинили в поджоге своего дома и в тот же день расстреляли без суда и следствия.
Народ стоял вдоль дороги, когда его вели за деревню расстреливать. За одну ночь этот крепкий мужик поседел и превратился в дряхлого старика, но старался держаться бодро, с достоинством. Он шёл на казнь в одной нательной бязевой рубахе, разорванной на груди, с заплывшим от удара левым глазом. Медный крестик на шее болтался на суровом шнурке. Совершенно белые, седые волосы трепал ветер. «Люди! Прощайте! – крикнул он толпе. – Как перед Богом говорю, я не виноват!» И он размашисто перекрестился.
Мороз крепчал. Конвойные в шубах дрожали от холода, один толкнул Долматова прикладом в спину. Вот процессия миновала последний дом деревни. Звук ружейного выстрела эхом прокатился над ближним лесом, вспугнув стаю ворон.
На кладбище двое мужиков уже долбили ломами мёрзлую землю. Могила была готова, и труп бросили в яму без гроба и наскоро забросали, оставив ровное место. Но весной чьи-то заботливые руки устроили могилку и поставили деревянный крест.
Жена Алексея Сергеевича помешалась умом и умерла в психиатрической больнице. Малолетние дети замёрзли по дороге в Сургут…
Филипповы парни – все трое – записались в комсомол и сразу же привезли целый воз кулацкого добра. Все разоделись. Филипп сразу же пошел хвастаться обновами в пожарницу – надел новую крытую тёмно-синим сукном шубу и дополнил свой наряд такой же новой бобровой шапкой. Шуба была явно с чужого плеча, но Филипп, гордо ступая казанскими валенками, старался не наступать на её полы.
– Хоть бы обрезал шубу-то! – подсмеивалась над ним Парасковья Игнатьевна. – И на это догады нет али просто лень! С какого-то, видно, большого мужика шуба! Как раз два Филиппа таких в неё войдет! А Домна-то, поглядите, пошла свиней управлять в пуховой шали!
– Не своё ведь, кулацкое, не трудом нажито, не жалко! – говорила мама. – Всё ведь это у них скоро слезет, как на огне сгорит. Как не было ничё, так и не будет. Век награбленным не проживёшь!
Вскоре Филипповы перевезли из Долматовой большущий кулацкий дом. Его четыре боковые окна смотрели прямо на нашу избу. Фасадом же дом был поставлен к солнцу, с видом на лес.
– Какой у них стол большой в горнице, а на столе скатерть красивая. Кругом полотенца вышитые, половики, подушки, постель, – поделилась я с мамой, когда побывала у Филипповых в гостях. – У Нинки сколько новых платьев! И новые лопатины у них с Алёшкой. Вот бы мне тоже новую одёжу, – заканючила я.
– Не завидуй, Маня, ихнему барахлу. Да и ничему не завидуй, – сказала мать, тяжело вздохнув. – Хто-то робил, ночей не спал, наживал всё это, скатерти и полотенца в годовой праздник вынимал из сундуков, в шали пуховой хозяйка на Пасху в церкву раз в год к обедне ездила, а теперь всё добренькое где посело? Нелюдям досталось, истаскают всё живо, вот погляди, ничего скоро не будет.
Пришла как-то бабка Камариха и жаловалась на сноху: «Наша-то тоже туда же, лапу за кулацким тянет, шубу себе выписала, вырядилась, а я и говорю, хто-то об этой шубейке плачет, слёзы льет, а ты носить будешь? Отнеси обратно, а то ишо неизвестно чё будет! Говорят, скоро белы придут, вот тоды начнётся, всех перевешают, хто богатых-то зорил. Ходи лучше в своей сермяге – это завсегда надёжнее. Не живали мы богато, и это нам не помощь».
Долматова, в прошлом богатая деревня, вмиг осиротела – раскулачили каждый третий дом. Хозяев сослали на север в леса, непроходимые дебри и болота.
Состоятельных в нашем хуторе было немного: Григорий Юдин, но у него защитой был брат Полувий, работающий в правлении, да братья Стихины, которые после смерти отца пристрастились к выпивке и сами себя «раскулачили». Но несмотря ни на что, Каин успевал везде.
Помню, как в зимний полдень мой брат Вася приехал с харловской мельницы. Сдав муку кладовщику, Вася направился в столовую. Вдруг откуда ни возьмись из ворот конного двора выскочил Каин.
– Василий, снимай тулуп! Он обобществляется!
– Как это – снимай?! Что значит обобществляется? А я в чём ходить буду? Я же на работу в лес езжу! Дрова рублю, на мельницу вот, – Вася недоуменно развел руками.
– Скидывай, говорят! Некогда мне с тобой тут! – и Каин с силой рванул за полу тулупа. Пуговицы гроздью рассыпались на снегу. – Я теперь советска власть! Не сметь мне прекословить! – бешено заорал Каин.
Василий остался среди дороги в старой сермяге. Глаза его остолбенели, лицо из багрового стало мертвенно-белым. Он упал на дорогу и забился в сильнейших судорогах. Подбежали люди. «С Васькой Панфиловым неладно чё-то! Трясёт его! Бегите кто-нибудь живо, мать зовите!»
Брата притащили домой, положили среди пола. Он продолжал биться, стуча головой, тело корёжило сильнейшими судорогами. Мама с Любой не могли его удержать. Мужики, которые помогли затащить его в избу, наперебой рассказывали: «Овчинников тулуп у его отобрал. Онисью Полушиху везти в больницу надо было, а тулупа-то нет. Туда, сюда побегал Каин, не нашёл. Тут Вася ему навстречу в тулупе попался. О чём оне говорили, не знаем».
Мы с Сашкой испугались и забрались на полати и оттуда выглядывали через брус, как зайцы. Нам было страшно.
Припадок кончился, брат вроде уснул, но целые сутки был не в себе, говорил бессвязно, всё порывался куда-то бежать. Мама с Любой всю ночь не сомкнули глаз. Утром Василий вроде затих. Все задремали, только одна мама горячо и долго молилась на коленях в кухне, и временами доносились её всхлипывания. Потрясение это не прошло для неё бесследно, и она заболела.
Василий через сутки после припадка был здоров, но теперь слегла мама. Люба побежала узнавать насчёт тулупа. Анисью Полушиху положили в Знаменскую больницу, и тулуп был возвращен. Каин, видимо, уж забыл про него. Маму из-за болезни освободили от должности доярки. Её заменила Люба.
Ровно через месяц у Васи повторился точно такой же припадок.
– Вот горе-то! – сокрушалась мама. – Хворый парень стал, лечить как-то надо… Отцу писать? Только расстраивать. Чем он поможет? И от чего же эта напасть?
Квартирантка Палаша панически боялась Васиных припадков. Да и оба Фёдора оказались трусливого десятка. Старались уйти куда угодно и отсидеться, лишь бы не видеть припадочного больного, а Палаша в это время ночевала у подруг.

А нам куда бежать было? И мы мучились. Припадки были очень жёстокие и длительные. В остальное время между припадками Вася стал нервным, раздражительным, неуживчивым и вздорным. Из-за падучей[88] болезни характер его изменился, и с ним стало неуютно находиться рядом.
Мама выпросила в правлении лошадь и сама повезла Васю в город к врачу. Назавтра вечером они вернулись, привезли лекарства: прозрачную жидкость с противным вкусом да коричневые таблетки, точь-в-точь, как овечий помёт. Мама была недовольна: «Даже в больницу не положили, это чё за леченье?! Врач-то молодой и сам, наверно, ничё не знает. Выписал рецепты, принимай, говорит, это лекарство и всё пройдёт, ничего особенного. Такая болесь, а он… Ни лешака не знает! Только место здря занимает. Сколь вон в одной Харловой трясучих-то, припадошных, весь век живут, маются. Никто вылечить не может. Спирька Кандитов так и не женился. Кто за больного-то пойдёт?»
Лекарство Вася принимал, как говорил врач, но толку не было, на следующий месяц в то же число припадок повторился снова. «Вот тебе и доктор! – ворчала мама. – Где-то, видно, у знахарей надо лечить».
– Хоть бы уж скорей отец домой ехал, – вздыхая, говорила мама.
Она сильно постарела за эту страшную зиму и стала совсем старухой. Она временами впадала в такое безысходное горе и отчаяние – то плакала и молилась по всей ночи, то начинала ругать Каина, а иногда и срывала зло на мне.
К весне в нашем хуторе закрылись все столовые. Да и сама коммуна «Гигант» таяла вместе со снегом и в самую распутицу распалась совсем. «Гигант-от отдиганился, подавился нашим добром и издох! – разговаривая с мамой, отрапортовала Афанасия. – Беги, кума, с девками за курицами, а то ни одной не достанется, всех расхватают».
Вместо трёх десятков молодых несушек нам едва удалось получить с десяток захудалых, опрелых, заморённых кур. Хозяйка пригона, где помещались птицы, причитала:
– Где, бабы, взять-то? Часть закололи и приели в столовых, а больше всего издохли и на тарахтин вывезены. Дедко Ерений не даст соврать, всю зиму коробами вывозил мёртвых гусей и кур.
– От чего же они примерли? От голода, чё ли? – зло спросила мама.
– Да нет, от голода не должно, корму было вдоволь, особенно с осени. Да вить теснота страшимая. Задохли оне!
– В одну конюшню затурили сотнями, как же не задохнут! Курице раздолье надо, простор.
Пёстрая хохлатка, которая осталась случайно у нас дома, жила всю зиму в кухне под печкой. Мы звали её Единоличница, она к нам за зиму до того привыкла, что везде расхаживала по комнатам, наговаривая на своём курином языке. Корм клевала прямо из рук. Взлетала на лавки и окна. Мама устроила ей даже за печкой насест. Сколько раз парни просили маму, чтоб она заколола курицу. Но все мы, мама, Люба и я, были категорически против.
С кошкой Муськой у них поначалу произошёл бой. Но Единоличница и не думала давать себя в обиду. Растопырив крылья, она смело шла в атаку, целясь клювом кошке прямо в глаз, и Муська ретировалась. С тех пор курица и кошка жили дружно. Муська даже позволяла Единоличнице клевать еду из своей миски.
Весной Единоличница стала устраивать под печкой гнездо. Мама положила туда соломы, и вскоре в гнезде появилось яичко. Как мы были рады получить такой подарок к Пасхе!
Куриц, которых мы принесли из общественного пригона, назвали «коммунарками», и когда подсадили к ним Единоличницу, новоприбывшие чуть до смерти не заклевали нашу любимицу. Пришлось ей снова вернуться домой…