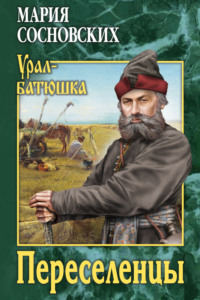Полная версия
Мария
– Федя, давай поговорим начистоту…
– Это о чём же говорить-то нам с тобой?
– Не могу я больше так жить… Видитесь вы с ней, встречаетесь… Знаю! Всё знаю! – голос Ульяны сорвался, и она не смогла сдержать слёз.
– Чё блажишь-то, как по покойнику! – разозлился Фёдор.
– Да ведь ребёнок у нас будет, а ты с Анюхой Комаровой спутался!
– Кто это тебе сказал?
– Да люди говорят, лю-ю-у-уди! Не отпирайся уж… Видели вас у переходов, на берегу. Сидели вы рядышком, целовал ты её…
– Следишь, значит, за мной, подглядываешь? Или наняла кого? Ну дак знай – не люблю я тебя! Сама навязалась, выслуживалась перед отцом и матерью, чтобы меня силой женили… А теперь и вовсе тебя ненавижу! Дал бы бог до солдатчины дожить – потом и домой не вернусь!
Фёдор схватил подушку, бросил на лавку, сходил в прихожую за пальтушкой, накрылся и лёг. Ульяна всю ночь пролежала с открытыми глазами, и слёзы бессилия текли по щекам: «Вот так поговорили… Лучше бы уж молчала».
В деревне, а тем более – на хуторе, разве от людей что утаишь? Про связь Фёдора Кузнецова и Анны Комаровой запоговаривали. Анюху и пристыдить попытались, но та как ни в чём не бывало отрезала: «Любим мы с Федей друг друга, давно уже любим! Злые люди разлучить нас хотят, да не тут-то было: как любили, так и будем любить! А Ульяна-то знала ведь, что любит меня Фёдор, так зачем шла за него? Хотела быть работницей – работницей и стала! На себя пусть обижается!»
Летом Анюха, как обычно, прикинулась хворой и в поле – ни ногой. Но дотошные бабы стали замечать, что у бойкой частушечницы выросло брюхо. Да она и не старалась скрыть грех. Ей намекали: «Ты ведь не замужем, брюхо-то откуда взялось?» Не моргнув глазом, Анюха отбривала: «Юбки больно коротки носила, вот ветром и надуло!»
Осенью Фёдора забрали в армию, а вскоре после проводин Ульяна родила дочь. Свёкор назвал внучку по святцам Александрой. «Александра Фёдоровна, – говорил он со значением, – первая в нашей семье внучка!» Ульяна осталась солдаткой в доме свёкра – ждать мужа и растить дочку.
Родители Комаровы ругали свою непутёвую Анюху, отец даже побил её под горячую руку, да что толку? Весной Анюха родила сына.
Еварест Иванович ходил как в воду опущенный, глаз на людей не подымал: ему было стыдно за сына и вдвойне совестно от людей, что в семье, где повинуются каждому его слову, – и вдруг такое!
Но нагулянный ребёнок не прожил и двух месяцев… Анюха долго не горевала, быстро духом воспрянула: в Троицу на кругу встретила подходящего парня из Прядеиной, и тот вскоре взял её замуж.
Вот тут-то Еварест Иванович возликовал по-настоящему:
– Наконец-то эта вражина утряслась из хутора, – говорил он в кругу домочадцев, – да надолго ли? Поди выгонят, как узнают, что она за птица.
Прошёл год, Анюха родила дочь и до того освоилась в новой семье, что стала командовать своим смирённым и работящим мужем.
Вскоре ей надоело жить в деревне – здесь ведь завсегда бабьей работы много: и за скотиной ходить, и хлеб стряпать, да хотя бы огород обихаживать. Анюхе-то работать лень, вот она и задумала в город перебраться и мужа с собой уманила.
К бабушке Сусанне
Много знаменательных событий произошло в эту погожую осень 1928 года.
Хорошо помню солнечное утро. Берёзы в проулке, словно в золоте, и от них столько тепла и какого-то радостного сияния… А чуть поодаль, за поскотиной, на фоне жёлтых берёз разноцветные осинки, от тёмно-бордового до пурпурно-фиолетового. И среди всего этого буйства красок – тёмно-зелёные сосенки.
Всей душой, всем сердцем и всю свою жизнь люблю это время года. Зауральская осень, кажется, особенно хороша была в нашем хуторе. Вспоминаются даже самые незначительные мелочи моего хуторского детства.
…Меня теперь никто не будит по утрам – я и сама встаю рано. У меня уже много дел по дому. Утром, когда мама стряпает, я, обжигаясь и дуя на пальцы, снимаю тонкую шкурку с горячей варёной картошки, толку запашистые картофелины пестиком в большой латке[51].
Картошки надо много – и на шаньги, и жарить со сметаной к обеду. Оставшуюся мелочь я разминаю на корм курам и поросятам.
Потом тщательно, со стараньем мою посуду (если вымою плохо, то мама перемывать заставит). Ещё надо подмести пол, накормить гусей и кур…
Как я начала себя помнить, меня стали приучать к работе. В этот день, о котором дальше пойдёт рассказ, я проснулась задолго до восхода солнца и в особенно радостном настроении. И было от чего радоваться: ещё вчера вечером я слышала разговор отца с матерью. Отец сказал: «Утром, если дождя не будет, езжайте с Маньшей на Пионерский хутор. Мы с ребятами дома останемся: надо крышу крыть на завозне, а то, не дай бог, ненастье нагрянет да затянется».
Мама давно уже поговаривала, что надо бы попроведать бабушку Сусанну. И когда услышала, что поедем завтра, я так и подпрыгнула от радости. Не в силах сдержать восторга, я выбежала во двор, забралась в коробок и подобранной вицей[52] стала понукать воображаемую лошадь: «Ну, Воронуха, ну – поехали!»
От распиравшей меня радости я стала напевать – сначала тихонько, а потом всё громче и громче. Частушек «про милёночка» я знала уже великое множество: слышала, как их поют на вечёрках взрослые девки. «Сербиянку танцевала, лет семнадцати была, когда я тебя любила, тогда не было ума! – воспевала я что есть мочи. – Сербиянку танцевала и притопнула ногой, все четыре ухажёра покачали головой!»
Я пела до тех пор, пока не услышала мамин голос:
– Ну-ка, Маньша, «сербиянка» ты мокроносая – хватит тебе трепезить[53], пойдём спать, не то утре дома оставлю, – и вздохнула украдкой, – видать, быть тебе в жизни несчастной – всё поёшь да поёшь…
Утром я встала чуть свет. Мама управилась со скотиной и топила печь. Сестры Любы не было дома, она гостила в Харлово.
– Коли хочешь ехать в гости к бабушке Сусанне – живо вставай, помогай мне, – строго промолвила мама.
Я быстренько умылась и прибежала в кухню. Помогала маме с особенным усердием, вертелась волчком. Время, как назло, шло медленно. За завтраком даже есть не хотелось – уж скорей бы ехать! Но вот печь истоплена, хлеб испечён и обед приготовлен. Мама ставит в печь корчагу с калиной, а в самую загнётку закатывает клюкой[54] большущие картофелины – на печёнки[55].
Наконец, всё готово, и мы готовимся к отъезду. В горенке мама достаёт из сундука свою праздничную одежду, ту же самую бордовую кофту и чёрную юбку, которые я видела на ней ещё в день нашего новоселья в Калиновке, – больше у неё ничего нет.
Чтобы не озябнуть в дороге на осеннем ветерке, я надеваю старый зелёный маринак[56] сестры Любы, который ей был уже мал. Любе он достался от двоюродных сестёр, а теперь подошла и моя очередь. Хотя маринак весь в заплатах и мне он – до пят, а рукава надо подворачивать, зато в нём будет тепло при езде.
Отец запрягает Воронуху. Мама садится на переднее сиденье, а меня подсаживает на заднее. «Смотрите, кобылу мне не нарушьте – жеребая она на девятом месяце, не гоните шибко!» – наказывает он матери.
Мама улыбается. Она, видно, тоже рада, что нам дали лошадь и отпустили в гости. «Не беспокойся, отец, не погоним… Шагом туда и обратно поедем». Вася отворяет ворота. Видно, что и ему хочется к бабушке Сусанне съездить.
– На Осиновке мост худой. Осторожней на нём! – уже вдогонку кричит отец.
Ворота за нами закрываются. Мы едем улицей, я гордо восседаю в задке коробка. Филиппова Нинка глядит в окошко и, конечно, завидует мне. Я довольна донельзя! Еду и думаю: «Вот бы ещё и Максимовы девчонки поглядели, то-то пооблизывались бы, особенно Феклуха. Её-то никто никуда не везёт, так ей и надо!»
Ехали мы шагом – не спеша. У речки Осиновки мама вылезла из коробка, осмотрела мост и провела по нему Воронуху в поводу. До бабушкиного хутора от Калиновки восемь вёрст, как и до Харлово. По дороге мы проехали какой-то маленький и невзрачный хуторишко.
«Наша Калиновка намного больше и красивее», – размышляла я, разглядывая берестяные крыши исчезающих вдали избушек.
Краснознамёнские хутора нас встретили яростным собачьим лаем. Не меньше десятка разъярённых псов бросились к нашему коробку.
«Тьфу! Собак-то, собак! Как в татарской деревне», – кнутом отмахивалась от псов мама. Только когда проехали хутор, собаки отстали, а невдалеке уже показался хутор Пионерский.
Большой дом бабушки Сусанны выглядел старым и почерневшим, хотя был переставлен совсем недавно, семь лет тому назад. Двор и постройки казались неуютными, запущенными. Сразу становилось понятно, что хозяина в доме нет.
Бабушка нам очень обрадовалась, смеялась и плакала попеременно. Одета она была бедно, во всё темное и казалась намного старше своих лет. Мы въехали во двор, и бабушка, протянув руки ко мне, сняла меня с коробка. «Ой, да кто же это ко мне приехал? Да Маньша это приехала, внучка моя предорогая!»
Расцеловав несколько раз, опустила меня на землю: «Пойдём-ка в избу, внученька, чай пить будем!»
– Ну а внуки-то твои где? – спросила мама. – Не видно их чё-то…
– А бог их знает, бегают где-то. Не иначе, по лесу шатаются. Лентяки все – ни дела им, ни работы, совсем уж от рук отбились. Меж собой ругаются, до драки иной раз дело доходит. Меня слушаться – куда там! Матерятся – не приведи господь, курить стали, да и от винца не отказываются… Ох, и замучилась я с ними, Парасковья, – сил моих больше нет. Известна породушка-то – Захара Даниловича выгонки, чё от них доброго ждать? И кто знает-ведает, как я тут с ними маюсь да какие скорби переношу…
Бабушка заплакала навзрыд, мы с мамой, на неё глядя, – тоже. С плачем вошли в большие полутёмные сени, а потом в дом. В избе было чисто, но совершенно пусто. Бабушка поставила самовар и продолжила рассказывать о своей жизни.
– И за чё меня Господь наказывает? И так сколько за жизнь-то всякого горя-несчастья пережить довелось, а уж с внуками – ну совсем невмоготу стало! Сереге вон скоро девятнадцать, а ничё ума нет! Вот Санутко, тот лучше всех был, правда, характерный… В прошлом годе в ремесленное училище поступил, в Екатеринбург, говорят, уехал. С тех пор – ни весточки, ни голосу… Поди, уж и живого-то нет… Всё сердце у меня выболело!
А эти дуроломы-то со мной остались. Работают через пень-колоду, каждого надо уговаривать да заставлять, а больше-то самой всё делать – и пахать, и сено ставить, и дрова рубить… Да уж какие там дрова – больше хлам из лесу на себе таскаю: дом большой, не натопишься.
Опять вот горе: зима идёт, а эти – всю, какая была, одёжу на себе проносили да порвали. Ни носков нет, ни варежек, ни пимов добрых. Ну как так жить?!
Всего хозяйства осталось – лошадёнка да коровёнка. Последнюю овчишку – и ту потеряли, вернее сказать, профукали… Соседи смеются: сами же горе-хозяева её закололи да в городе продали, а деньги пропили. Потом пьяные-то в участок попали…
И правда, их чё-то долго тогда из города домой не было. Пегуху чуть голодом не уморили, едва жива была: одр[57] и одр, сколько я её ни подкармливала. А ведь какой год-то нонче был! Добрые люди вон сколь с полей собрали, а у лентяков этих до нового урожая своего хлеба не хватит… Вот как живём!
А вить мне уж восьмой десяток. Послал бы господь смерть по мою душу – нажилась я на свете досыта…
Закипел самовар, сели пить чай.
«Вон – легки на помине – домой припожаловали», – махнула рукой в сторону окна бабушка.

В ограду зашли три здоровенных парня. Один с чёрными усиками, совсем на взрослого мужика похожий, и двое помоложе. Вошли в избу, поздоровались и сели на лавку.
Я уже напилась чаю и только собралась встать из-за стола, как мама меня поторопила: «Иди-ка, Маньша, в ограду, поиграй там. Только смотри – к колодцу не подходи», – и выпроводила меня.
Я вышла во двор, потом за ограду – вдали виднелась серебристая змейка реки, окаймлённая сочной зеленью, которая сливалась с синевой соснового леса.
Поодаль от бабушкиного стоял другой дом, тоже большой, с тесовой крышей и высоким заплотом. У завалинки резвились ребята – моего возраста и постарше. Увидев меня, бросили играть и заинтересованно стали рассматривать. Сопливый толстый парнишка в холщовых штанишках на одной лямке-помочи через плечо спросил:
– Ты кто? Чья?
– К бабушке Сусанне приехала, – ответила я и показала пальцем на бабушкин дом.
– А ты – попадья, чё ли? – вдруг выпалил парнишка.
– Почему попадья? – удивилась я.
– А пошто лопатина[58] така долга? – сказал он, указывая на мою одёжку.
– Попадья! Попадья! – со смехом задразнилась ребячья ватага.
В меня полетели щепки и комки сухой грязи. Я заревела, побежала к бабушкиному дому, но запуталась в длинных полах и упала. Хорошо, что ребята и не думали за мной гнаться!
В прихожей я вытерла рукавом слёзы. Когда в детстве меня кто-либо обижал, я не имела привычки жаловаться маме или отцу (часто сама и оказывалась виноватой) и заступников не искала. Лучше уж стерпеть и помалкивать про свои обиды и огорчения…
Из прихожей доносился громкий, срывающийся на крик голос матери. Ох как она чихвостила своих племянников! Дома она ни разу никого так не разносила… Да и не нужно было: Люба и старшие ребята, не говоря уж обо мне, слушались её беспрекословно, как и отца.
– Я вот сёдни нароком[59] приехала, чтобы вам, идолам, в глаза бесстыжие поглядеть! Матери я – дочь и в обиду её не дам! Вы достукаетесь: заберу я её от вас, и будет она жить у меня до смерти. А вы уж, как я погляжу, и сами с усами. Вот и живите, как хотите! Пропьёте всё хозяйство-то, с голоду замрёте, да вши вас заедят! Да чё на вас, управы не найти? Уж и до нашего хутора весть докатилась, что вы, бессовестные, тут творите!
Ну-ка, собирайся с нами, мама, – поедем в Калиновку! И никакой тебе работы у нас не будет: что можешь – сделаешь, не можешь – никто не заставит. Сиди себе, отдыхай… Наробилась[60] уж за жизнь-то!
Все трое племянников молчали, понурив головы. Серёга сидел красный, как рак, а Костя и Федька даже заканючили, прослезились. Потом Серёга виниться стал, а за ним и младшие затянули:
– Тётя Парасковья, баушка, простите нас, Христа ради! Уж не увозите её, тётя… Как мы одне-то? Пропадём… Ведь ни варить, ни стряпать, ни корову доить не умеем…
– А чё вы умеете-то?! – бушевала мама. – Табак курить да вино пить? Исть, срать да одёжу рвать?! Нет уж, соколики, так дело не пойдёт. Я баушку от вас увезу. Не возьмётесь за ум – через месяц, через полгода ли – обязательно заберу. Это чё же я – мать родную брошу? Нет, не бывать этому!
Когда мы с ней засобирались домой, все трое парней выскочили за нами во двор. Мигом напоили лошадь, запрягли, отворили ворота – и мы выехали с бабушкиного двора.
Проехали мимо того дома, где меня дразнили здешние ребята. Они всё ещё играли за оградой. «Попадья поехала!» – заорали они вслед.
Мама услышала, страшно рассердилась, привстала на беседке, замахнулась кнутом: «Я вам покажу попадью! – она, видимо, приняла выкрик сорванцов на свой счёт. – Ишь, Осипова шантрапа. Совсем одичали в лесу-то, салыганы!»
Настроение было испорчено. Глядя на голые поля, на пожелтевший лес, мама молчала и грустно вздыхала.
…Вот так и получилось, что долгожданная поездка к бабушке Сусанне меня не обрадовала. Домой мы приехали как раз к управе со скотиной. А мужики наши со своим делом уже справились: на завозне красовалась новенькая, только что покрытая и просмолённая тесовая крыша!
Трудись и жить будешь
Вот и престольный праздник – Богородицын день. Во всех домах Калиновки – гости. И наша семья гостей принимает из Харлово, родственников со стороны отца.
Дядя Немнон приехал со всей семьей – старший сын Иван Немнонович с женой Ульяной Васильевной, второй сын Александр, который в этом году пришёл из армии, и дочери Федора и Валентина – обе сероглазые, красивые.
Иван Немнонович по случаю праздника надел парадную бордового цвета косоворотку. Хотя он был уже не первой молодости, но по-прежнему с густыми светло-русыми волосами и пышными усами цвета пшеничной соломы. Среднего роста, но такой коренастый и широкоплечий, что родственники про него подшучивали: «Если уж Иван за стол сядет – займёт весь простенок, а есть начнет – подавай сразу полбарана, браги или вина – полведра. Выпьет – и ни в одном глазу, покраснеет только – под цвет своей рубахи сделается».
Жена его Ульяна вроде бы ничем не взяла – ни красотой, ни ростом, но не была лишена привлекательности, хорошо пела и плясала. Кроме того, была с характером: не только мужа, но и всю семью в узде держала, даже свёкра, который никогда снохе не перечил.
Дядя Перегрин и тётя Кира пришли с сыном и дочерью. Яков, низкорослый, худощавый, в точности похожий на мать, выглядел подростком, хотя был уж в жениховской поре. Кланька – высокая, большеглазая и смуглая, как цыганка, больше походила на отца.
Ну а для тёти Киры время вроде остановилось… Она нисколько не старела – какая была в тридцать, такой же осталась и в пятьдесят лет. Она всегда была весела – вечно с шуткой-прибауткой! И жила она с дядей Перегрином весь век, как бы шутя, играючи.
Дядя Перегрин с годами тоже вроде не постарел, не согнулся, по-прежнему был стройным, только чёрные густые волосы на висках чуть-чуть посеребрила седина.
Из Крестовки приехали тётка Татьяна с сыном Степаном и снохой Анфисой, Павел Борисович с женой и ещё другие гости, которых я видела в первый раз.
У Александра Немноновича была гармошка-двухрядка, он подождал, когда гости немного захмелеют, взял в руки гармонь и заиграл.
Я ужом проскользнула поближе к гармонисту и стала петь частушки. Меня хвалили, подбадривали и просили петь громче – мы, мол, туги на ухо. Тётя Кира даже платок развязала и ухо подставила.
Я старалась во всю ивановскую, спела несколько частушек; все хлопали в ладоши и много смеялись. Ободрённая, я запела изо всей силы ещё: «Не стой у ворот, не маши фуражкой, я теперя не твоя, не зови милашкой!»
На сей раз хохот грянул просто громовой! Отсмеявшись, все стали просить повторить эту же частушку. Я спела её несколько раз, а гости всё не переставали хохотать. Я бы, наверно, и дальше пела бы, но тут в дверях появилась мама, почему-то очень рассерженная. Схватив за руку, она увела меня на кухню, хорошенько отшлёпала и ушла к гостям. А я слышала, как она попеняла развесёлой компании: «Нашли тоже над чем смеяться! У девки язык худой, а вы…»
Тётя Кира, посмеиваясь, увещевала её: «Да ты, кума, никак обиделась? Мы ведь так, за всяко-просто…»
Мама вернулась на кухню и сказала мне: «Сиди тут! И чтоб я не слышала больше таких частушек!»
Я накуксилась, но реветь не посмела – во-первых, мама могла и добавить шлепков, а во-вторых, я задумалась: за что это мне влетело? Вон большие девки то и дело поют про фуражку да милашку, а я что – хуже, что ли? Потом уже, много позднее, я поняла, что при моей детской шепелявости слово «фуражка» слышалось довольно смешно, более того – неприлично…
Веселье продолжалось своим чередом. Мне на кухне дали поесть, я повеселела и потихоньку незаметно пробралась на полати. Лёжа на животе и подперев голову руками, я через полатный брус смотрела на веселье. Отец с матерью ходили с подносами, подавая гостям кумышку и пиво, Люба угощала орехами и конфетами.
Песни следовали одна за другой, органично вплетаясь в канву деревенского застолья: мужчины и женщины с воодушевлением пели «Как под борком-борочком», потом, практически сразу, без перерыва «По Дону гуляет», затем «Шумел, гремел пожар московский», «Солнце всходит и заходит», «Заброшен судьбой был в чужие края».
Назавтра веселье было уже не таким разгульным. Некоторые гости не пригубили ни вина, ни пива. Молодёжи наскучило сидеть со стариками; Александр прихватил с собой гармонь, и парни с девками отправились ватажкой на улицу. С ними утянулись двоюродные сестры и Люба. В Калиновку по случаю праздника пришли девки и парни с Вольной поляны, Пахомовой, Стихиной и Бедноты.
Вообще молодёжи в нашем хуторе собиралось много. Пожарница не могла вместить столько народа, и пока не построили просторную «народную избу», или, по-теперешнему, клуб, в самые сильные морозы собирались у Тимы Пономарёва: тот жил в большом доме-пятистенке с тремя неженатыми сыновьями.
…В нашем доме гостеванье продолжалось. Иван Немнонович, несмотря на запреты жены, успел уже опохмелиться. Дядя Немнон, хотя почти ничего не пил накануне, занемог и уверял, что должна измениться погода: «Не иначе, дождь али снег пойдёт, – говорил он, – голова разболелась, да и спину пересекло. Домой надо ехать, пожалуй, пока дорога суха».
– А зря я, кум, не поехал тогда с тобой на хутор, – неожиданно обратился Перегрин к моему отцу, – зря! Вижу теперь, не худо тут. Уж на что Филипп лентяк лентяком был, а ишь – и он живёт здесь не хуже кого доброго.
– Да Филипп-то в хуторе ещё ленивей стал! Вконец уж обленился, – расхохотался отец. – Сыновья его уж теперь всем домом правят, а ему только бы в пожарнице сидеть да табачину курить…
Работать, кум, везде надо. Всё одно – на селе, на хуторе ли. А у нас в Калиновке работы невпроворот, только успевай поворачиваться! Четыре года как мы сюда переехали. Землю здесь сроду никто не удобрял, вот и стараемся всю зиму-зимскую – трунду в болоте долбим да на поля её возим. Нашему брату из нужды выбиться не так-то просто. То там прореха, то здесь дыра… Сам уж весь изробился и ребят измучил на работе, а пока на себя ничего не приходится, каждую копейку в хозяйство вкладываю. Завозню вот поставили, молотилку на паях купили. Жить вроде и полегче стало при советской-то власти, да вот, здоровья бы хватило дальше робить…
– Не говори, кум! Ещё, пожалуй, годков десяток пройдёт, сыновей женишь – тогда тебя и рукой не достать! Вся эта распря с белыми-красными вроде прошла, отмаялся народ-от. Мужику немного роздыху дали. И продразвёрстки этой клятой не стало, а то вить приходили да прикладами замки с амбаров сбивали и весь хлеб-то дочиста выгребали – как хочешь, так и живи!
Тут к беседе присоединился дядя Немнон:
– Сказывал ведь я своим – поедем на хутор! Дак вить известно… пока жареный петух не клюнет… Мужикам ничё не надо, как баба скажет, так и хорошо! А у бабы, не зря пословица ходит, ум-то короток! – И дядя с опаской покосился в сторону снохи.
Мне стало скучно со взрослыми – никто уж не пел частушек, не шутил, не чудил… Я решила пойти к соседям, куда перед этим ушла Люба.
Она сидела с подружками и двоюродными сёстрами. Все щелкали семечки, шушукались и приглушённо смеялись. Я взяла с подноса горсточку семечек, уселась и стала слушать.
Бойкая, озорная Валюшка рассказывала про какого-то хуторского парня, своего ухажёра. Она так его обрисовала, так потешно передразнивала, что подружки беспрестанно смеялись.
– Нос-то у него не только курносый, да ещё и с нахлобучкой, как у поросёнка, губы – сковородником, а туда же – лапы тянет! Ты, говорит, мне понравилась шибко, сёдни провожать тебя пойду, – Валюшка скорчила такую рожицу, показывая, какие нос и губы у парня, что все так и покатились со смеху.
– Мы как вышли вчера вечером на улицу, – стала рассказывать Люба, – глядь, у пожарницы – парни Коноваловы, Пашка Петров да Мишка Гришин. Подошли к нам и ну хвастаться, ну галоши заливать… А ты, Манька, чё тут подслушивать подсела? – спохватилась сестра. – Ну не девка, а зелье какое-то – уставит круглые свои глаза да смотрит, как сверлит! Иди-ка себе, играй где-нибудь!
– Да не гони ты её – чё робёнок-то понимает? – заступилась за меня Кланька.
– Всё она понимает, о чём мы говорим… И запоминает, стоит ей только раз услышать!
Я стояла, потупив в пол глаза, набычившись, и уходить ни за что не хотела. Ну неужели Люба понять не может? Старшая сестра, называется…
По случаю праздника на столике стояла стеклянная вазочка, полная карамели. Люба, наконец, догадалась: захватив полной горстью конфеты, подошла ко мне. Я подставила свой фартучек.
– Ну, ступай теперь с богом, – напутствовала меня сестра и, погладив по голове, добавила, – иди, хитрюга!
Конфеты я не ела, а складывала в коробочку, копила на чёрный день. Конфетки старалась собирать разные и только те, которые были в бумажках, по одной, по две, редко по три одинаковых, остальные, конечно же, съедала. Однажды я поймала на месте преступления Ваську – он нашёл мою коллекцию и хотел утащить конфетку. Пришлось перепрятать коробочку в голбец, но тут приключилась другая беда, ещё хуже первой: муравьи съели все мои сладости, оставив только одну грязную труху. Пришлось копить конфеты снова.
Заполучив от Любы целую горсть карамелек, я поспешно покинула горенку, стараясь не попасться на глаза ворюге Васе, незаметно влезла на полати и там, в укромном месте, стала любоваться полученным подарком.
А в это время женщины накрыли завершающее праздничное застолье. После обеда гости засобирались домой, чтобы поспеть к вечерней управе. Дядя Немнон, поблагодарив родителей за гостеприимство, приосанился и сказал: