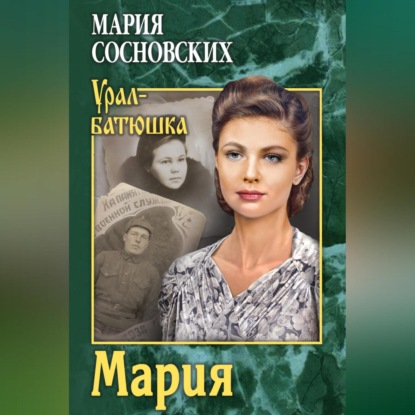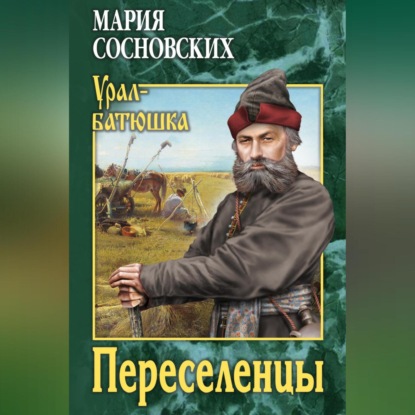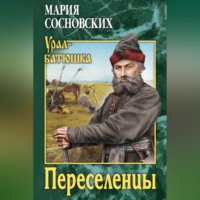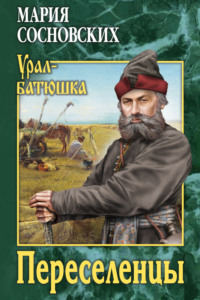Полная версия
Мария
Красивый чернобровый Фёдор сразу же понравился Ульяне, и она работала у Кузнецовых за троих.
– Смотри, пуп не надорви, Ульяна, – полушутя-полусерьёзно говорила Анна Корниловна.
– Ничё, я к тяжёлой работе привыкла, – отвечала та, укладывая сено в копны огромными навильниками[34], – мама у нас померла, когда я ещё маленькая была, а потом и тятенька помер. Уж всякого лиха мы с сестрой натерпелись!
Вечером, после целого дня работы в поле, Ульяна помогала управляться хозяйке дома – доила коров, кормила свиней – везде старалась успеть. И только уж по потёмкам, когда хозяева ложились спать, она уходила ночевать в соседний дом – к сестре.
А утром раньше всех просыпалась. Пока топилась печь и хозяйка стряпала, работница успевала управиться со всей скотиной.
Анна Корниловна уже не раз говорила мужу: «Вот нам бы такую-то сноху. И удала девка, и проворна… Взять да женить бы Федьшу на Ульяне».
Еварест Иванович был не против. Осенью, когда вся работа в поле была переделана, у отца вышел с сыном такой разговор:
– Вот чё, Фёдор. Мы с матерью этой осенью женить тебя решили. Матери тяжело одной, у нас в семье восемь человек; по рубахе выстирать – дак и то восемь рубах! На всех хлеба напечь… А сколько скотины у нас, слава богу! Работы всё больше, а ведь матери-то и до старости недалеко.
– И на ком же меня женить хотите?
– Да вот на Ульяне, чем плоха девка?
– Не люблю я ее, тятя… Анютку люблю! И больше мне никого не надо!
– Ты про Анюху и не поминай!
Долго Кузнецовы-старшие убеждали сына – и ругали, и добром уговаривали. А тут скоро конфузный для Анюты случай вышел. Сама она сочиняла забористые частушки про многих хуторян, но палка о двух концах – сочинили и про неё. В праздник Рождества Богородицы гостей в каждом дому было – тьма. Девки и парни с гармошками пришли из соседних деревень, и свои, калиновские, сбились в одну ватажку. Вечером у ворот Комаровых затеяли веселье. Анюта у раскрытой створки окна грызла семечки. Пахомовские девки с подначкой запели: «Молодёжь наша гуляет всё по бережку кругом. Добра девка с кавалером, а Анюха – с бадогом!»
Анна, бросив в толпу вылущенным подсолнухом, завопила: «Убирайтесь отселя! Я вот сейчас Соболька спущу!» Маленькая захудалая дворняга залилась во дворе визгливым лаем. Парни за бока схватились со смеху. «Пошли отсюда, робя, не то разорвёт нас пёс-от!» – выкрикнул Мишка Ерениев. Парни и девки с хохотом убежали.
Фёдор стоял в стороне, как оплёванный. Ему было до того стыдно от людей, что впору сквозь землю провалиться! Он незаметно ушёл домой, лёг на сеновал. Сон не шёл. Гармошка и балалайка, призывные песни слышались то в одном, то в другом конце хутора.
Фёдор слез с сеновала, попил в сенях воды из кадки. В дому разговаривали гости. Фёдору не хотелось теперь никого видеть. Пошёл снова на сеновал, лёг и задумался. «Может, по-своему и правы отец с матерью? Нравится Ульяна им как работница. И если разобраться, так видом она ничуть не хуже Анки-то… Отчего же не лежит к ней сердце, ну вот – нисколько, как будто это не девка вовсе, а столб или пень ходячий? Надо с тятей поговорить, чтобы не навеливали[35] мне женитьбу в этот год, а там, глядишь – в армию возьмут! Не бракованный же я, в самом деле: руки-ноги на месте, глаза видят, уши слышат… Вот Костю Тимина в том году забраковали, дак он на одно ухо совсем почти глухой».
Думал-думал Фёдор да незаметно и уснул.
Хуторские cвадьбы
Скоро в доме Кузнецовых стали готовиться к свадьбе Фёдора и Ульяны. А какая свадьба без кумышки[36] да пива?
Моя мать во всём хуторе считалась лучшей мастерицей варить домашнее пиво – от крепчайшего изюмного, со стакана которого пьянели самые крепкие мужики, – до сладкого детского с сиропом. Для варки напитка мать запасала множество всяких трав, ягод и кореньев. В праздники соседки любили заглянуть к нам, зная, что их угостят вкуснейшей «бабьей травянухой» – коричневым густым, с кремовой пеной пивом, сваренным с лабазником[37], душицей и перечной мятой.
Мой отец был выбран «тысяцким»[38], а мама помогала подавать на столы. Ну и я вначале пыталась помогать родителям, но мой труд не был оценён, и меня отправили на полати, откуда открывался великолепный вид на застолье.
Гости искренне радовались празднику, звучали поздравительные речи, звенела посуда. Но жених и невеста, в отличие от остальных, сидели с грустными лицами, улыбки их были ненастоящими, веселье им было в тягость…
Помню ещё другую свадьбу, когда женился старший сын деда Максима, Иван. Мои родители тоже принимали участие в предсвадебных хлопотах соседей. Целую неделю мама таскала корчаги[39] с разваром[40], и в доме стоял огромный чан с пивным суслом. В прихожей и в сенях выстроились трёхвёдерные бадьи и кадушки с пивом, которое «доходило» до готовности.
Суматоха была и в нашем доме. Из Харлово приехали помогать сестры деда Максима – Серафима и Анна Прокопьевны – и сноха Настасья Ивановна. Всем женщинам во главе с моей матерью нашлось дело – с самого раннего утра и до поздней ночи: одна ощипывала, потрошила и чистила битых гусей и кур, вторая ставила сдобные квашни, готовила начинку для пирогов, третья украшала торты.
Правда, толстая, неуклюжая Анна Прокопьевна только без сути толклась и всем мешала, а простоватая Серафима больше болтала языком. А вот их сноха Настасья Ивановна, до старости выглядевшая девочкой-подростком, вертелась волчком, успевая посмеиваться и подтрунивать над золовками: «Ой, Серафима, глянь – квашня-то за тобой бежит!» Серафима охала, бросалась смотреть только что поставленную квашню. «А чтоб те пусто было! Ну уж эта Настасья – вечно зря напужат!»
Моя сестра Люба, поскольку была уже взрослой, принимала живейшее участие в стряпне, в приготовлении свадебных кушаний, а меня по малолетству на кухню, увы, не пускали. Иногда приходила хозяйка свадьбы, наша соседка Афанасия Михайловна. Она грузно прихрамывала (сколько я помню, у неё всегда болели ноги), осматривала стряпню, пробовала холодец или жаркое, делала кое-какие замечания, потом прибегали помощницы-подавальщицы и на большом противне стряпню уносили.
Анна Прокопьевна была вечно всем недовольна, сварлива и очень любила рассказывать о своих недугах. Все её разговоры сводились только к болезням да ещё к тому, какая нынче плохая и ленивая молодёжь.
Не знаю уж, кого она имела в виду, но мне было обидно, и я была рада, когда Настасья весомо возразила золовке:
– И полно-те, Анна, бормотать! Тоску зря наводишь… Спокою от тебя ни дома, ни в людях нет…
– Надоела я вам, – недолго думая, пошла в атаку Анна, – завтре домой поеду, пусть Офонасий свезёт. Не буду я на свадьбе пировать.
– Езжай в задницу! И без тебя проведём свадьбу! Подумашь! Не пропадём! – с сердцем ответила сноха.
Анна замолкла. А Настасья как ни в чём не бывало предложила:
– Эй, Серафима, давай споем! Запевай! Как у ключика у дремучего, у колодезя у студёного добрый молодец сам коня поил…
Серафима запевает, Настасья подхватывает, Анна не может утерпеть и тоже подпевает. Обиды как не бывало. Все женщины поют стройно и красиво, чувствуется, что давно спелись…
День свадьбы Ивана Максимовича был погожим. Хотя слегка подувал сиверко[41], солнце ещё основательно пригревало.
Венчались молодые в Харловской церкви. Восемь вёрст от Харлово до Калиновки – езда не ближняя, и свадебный поезд прибыл на хутор уже под вечер. Со свадьбой приехали новые гости: дядя Перегрин и дядя Немнон, Павел Борисович Макаров, Кандид Прокопьевич и Афанасий Прокопьевич – все со своими семьями.
Когда свадебный кортеж переехал мост через Сайгун, все вышли навстречу. Максим и Афанасий открыли ворота, поднесли хлеб-соль. Детвора, а со всеми и я, как воробьи перед дождём, облепили заплоты. Взрослые принялись дружно нахваливать невесту, что-де Евфросинья Михайловна из хорошей семьи, что и смирёна, и работяща, и собой хороша – бела да красива. Но мне почему-то невеста не понравилась: уж чересчур полная, лицо круглое, одутловатое, глаза маленькие, серо-синенькие, бровей совсем нет, волосы белые да жидкие… Жених был намного симпатичнее: среднего роста, коренастый, тёмно-русый, с загорелым лицом.
Гости обступили молодых со всех сторон и стали осыпать их зерном и хмелем. Иван за руку повёл свою избранницу в дом, где уже всё было готово – столы ломились от всяких кушаний. Я прошмыгнула было за взрослыми и только хотела залезть на голбец, как Феклуха, старшая Максимова дочь, встала на моём пути:
– Манька, тебя кто звал? Убирайся сейчас же! Только мешаешь большим!
– Я вовсе не мешаю… Я только погляжу, Феня, не прогоняй меня… Ладно? – просительно протянула я.
– А ну брысь! А то возьму ухват! – бескомпромиссно заявила противная Феклуха.
Поздно ночью, когда мы с братьями и сестрой уже спали на полатях, к нам в дом ввалилась пьяная толпа гостей со свадьбы ночевать: в Максимовом доме на всех места не хватило. Гости улеглись на лавках, на голбце, в прихожей, в маленькой горенке, да ещё мама постелила им на полу. Мои родители были почти трезвые и, наверное, совсем не ложились спать – ведь столько им выпало свадебных хлопот и работы.
Назавтра день был чудесный, очень тёплый и солнечный. Веселье в соседях началось с самого утра. По обычаю, били горшки, а молодая подметала пол, угощала всех чаем. Гости бросали на пол подарки; привезли и постель, и всё приданое невесты, привели корову, лошадь, овец, гусей. Поглядеть на невестино имущество собрался весь хутор.
Я не вытерпела и тоже направилась к соседям, стараясь не встречаться со зловредной Феклухой. Теперь я была умнее: перелезла через прясло[42] своего огорода в межник, потом взобралась на заплот, и мне было хорошо всё видно и слышно.
Гармонист, игравший на свадьбе, вчера перебрал-таки лишка спиртного и, охая, лежал под крышей на сложенном тёсе. Но и без музыки изрядно подвыпившие гости веселились на славу. Во дворе образовался большой круг, все хлопали в ладоши, а полная круглая Евпраксия, жена дяди Кандида, выплясывала и пела в такт хлопающим: «Топор! Рукавицы! Жена мужа не боится!» Дядя Кандид не утерпел и, топая большущими сапожищами, выскочил на круг и, надрывая горло, взревел: «Рукавицы да топор! Мужик бабу – об забор!»
Хохот, шутки-прибаутки! Афанасий, несмотря на возраст, выскочил из толпы, прошёл на кругу гуськом, припевая: «Три копейки, две копейки, пяточек! Эх-ма! Да кабы денег тьма! Купил бы деревеньку да жил бы помаленьку!» Не успел Афанасий уйти с круга, выскочила тётя Кира, и пошла, и пошла плясать под частушки: «Комар муху буткал – не ходи в обутках! Ходи в сапогах, на высоких каблуках! Э-э-эх!»
Наплясавшись до изнеможения, гости угомонились, малость протрезвели на воздухе, расселись на скамейки в специально сделанных во дворе из чурок и тесин беседках, завели проголосные песни. Мой отец, дядя Немнон и дядя Максим выкатили на ограду бочонок и стали угощать гостей: мужикам подавали хмельное пиво, а женщинам «травянуху». Тут и гармонист сразу отутовел[43], вылез из-под крыши. Опохмелившись, взял в руки гармонь.
Все оживились. Сначала-то пели обрядовые, свадебные песни, потом уже стали петь всякие, какие пойдут на ум. Пели и «Двенадцать часиков пробило», и «Во кузнице», и «Окрасился месяц багрянцем», «Златые горы».
Я осмелела, спрыгнула с заплота и спустилась во двор. Заглянув в кухонное окно, я увидела там Феклуху и в дом зайти не решилась. Страшно хотелось есть. Боясь, что меня выгонят со свадьбы, к столам я не пошла. Пришлось возвращаться домой, но дома кроме хлеба ничего не было. Схватив краюху, не теряя зря времени, я выбежала за ворота, чтобы не пропустить веселье.
Возле колодца стояло несколько женщин. Бабка Комариха говорила Домне, Филипповой жене:
– Ну уж, Мочеганята и пируют! Уж веселятся! Вон какие у них бабы-то песельницы да танцорки!
– С добрыми мужьями живут, чё им не петь, не плясать, – тяжело вздохнула Домна, – я вот грешна, свету не видела со своим. Горе одно! Ни ты в люди, ни к тебе люди… Одна срамота да посмешище! В сиротстве росла… Теперь – муж никудышный… Так и до смерти мучиться буду.
Позавидовали бабы, повздыхали и разошлись, а веселье продолжалось своим чередом.
В ту осень у дяди Немнона пришёл из армии младший сын Александр, красавец-парень. Пахомовские девки все были без ума от пригожего солдата. Поздно вечером, на втором дне свадьбы, молодёжи надоело быть среди стариков и пожилых людей. Взяли гармониста и пошли гулять по деревне. Со всеми была и наша Люба с подружками Анной Комаровой и Лизой Кочуриной.
Когда всей ватагой с песнями шли по берегу, на завалинке дома Кузнецовых сидел сам глава семьи, Еварест Иванович. Анка Комарова, поравнявшись с ним, во всё горло запела частушку: «Огород не городили, не забили колышка! Нас с милёнком разлучили – не взошло два солнышка!»
Кузнецов только плюнул, махнул рукой и ушёл в ограду, Анна Корниловна выглянула в окно. Люба потом дома говорила, что им с Лизой было очень неловко из-за нового Анкиного фортеля. Развесёлая компания дошла до полевых ворот, завернула обратно, но у Кузнецовых уж и ворота закрыты, и даже в окнах никто не показывается – Анке, стало быть, и петь больше было некому.
Ночью к нам опять явились постояльцы, ещё шумливее, чем в первую ночь. Опять мама постелила всем на полу. Кто-то из пьяных бормотал, кто-то кричал, кто-то ерепенился, величался над своей женой.
– Серафима, где ты? – раздался крик среди ночи.
– Тут я, чё кричишь? Спи… – начала урезонивать мужа Серафима Прокопьевна.
Через пять минут опять снова: «Серафима-а-а! Где ты?» И так всю ночь…
На третий день свадьбы мои дядья засобирались домой: «Надоело уж, – говорил дядя Немнон, – от шума голова болит». Кира Яковлевна с дядей Перегрином тоже нагулялись, напраздновались. «Отплясала я, видно, своё, – вздыхала Кира, – оттопала на свадьбе ноги-те, как теперь коноплю мять буду? Ох, согрешила я, грешная!»
Поздно вечером многие гости разъехались по домам, и ночёвщиков к нам пришло немного: Иван Немнонович с женой Ульяной, Павел Борисович с Алевтиной да девки – двоюродные сестры, Перегринова Клашунька да Немнонова Валя.
«И слава богу! – сказала мать. – Провели свадьбу. Хоть бы никто больше из своих пока не женился – поднадоело гулеванье, да и в дому вся работа остановилась».
Конная молотилка
Осенний день недолог. Только, кажется, утро занималось, а вот и ранние осенние сумерки. На столе стоит и тускло светит керосиновая лампа-семилинейка. Мама прядёт лён, Люба убежала на вечёрку к подружке, парни сумерничают после управы со скотиной. Отец ремонтирует сбрую, готовит варавину[44].
Мама, не отрываясь от прялки, говорит мне:
– Ну-ка, расскажи «Отче наш».
Я без запинки рассказываю. Потом отбарабаниваю «Верую», дальше – «Богородице, дево, радуйся». Под конец мы с мамой поём молитвы. Мне в них многое непонятно; мама иногда сердится, но объясняет, что это из-за того, что молитвы написаны на старославянском языке.
Мне нравится, когда у нас собираются на вечёрки, прядут куделю и поют песни. Но особенно я бываю рада, когда на посиделках верховодят Анка Комарова с Лизой Кочуриной. Анна может петь хоть всю ночь, и голос у неё отменный.
Мама и сестра Люба тоже поют: «Под ту, под сумрачную ночку, скрывался месяц в облаках». Песня не только печальная, но почему-то страшная. Я боюсь взглянуть в окно, почти физически ощущаю вокруг себя тёмную-тёмную ночь, как будто вижу заросшее травой и вересовником, уставленное белыми крестами кладбище, чуть освещённое мертвенным лунным светом… Я бледнею, вздрагиваю всем телом.
– Маньша, да ты никак боишься? – прерывает песню мама. – Ох и пужало же ты!
Мама посмеивается необидно и мягко, но мне стыдно. Слава богу, Анка запевает другую песню: «Скрывается солнце за степи, вдали золотится ковыль». Я уже знаю от мамы, что такое степь и ковыль, хотя ни того, ни другого на нашем лесном хуторе и не сыщешь. Вслушиваюсь в слова песни и представляю дорогу, идущих по ней каких-то непонятных людей – «каторжан»…
«По Дону гуляет казак молодой». Эта песня понятней, но с её концом я – ну никак! – не могу примириться. «Невеста упала на самое дно…» Я не выдерживаю, реву: жалко невесту. Говорю взрослым, что надо проверить мост на Сайгуне, а то как бы тоже не обрушился. Взрыв весёлого смеха долго не смолкает. Потом мне дают чашку молока и отправляют на полати.
Запомнилось, что тогда у нас в семье было мало одежды, а какая кому перепадала – почти вся была домотканой. Отец сыновьям и даже сестре Любе ничего покупал. Ели мы тоже не очень-то, хотя в хозяйстве были и птица, и всякая скотина.
– Вот застроимся, – говорил отец матери, – бог даст, купим на паях молотилку – тогда и на себя справу заводить будем.
Мать вздыхала, но соглашалась. Всё от хозяйства – мясо, масло, шерсть, даже лук с огорода – шло на рынок.
Отец трудился не покладая рук, всеми силами стараясь вылезти из нужды. Сколько было потрачено сил на строительство завозни[45]– рубили и вывозили красный лес, а потом пилили его на тёс маховой пилой! Всю весну и лето отец проходил в насквозь пропотевшей рубахе.
– Завозню поставили, а теперь и о молотилке можно подумать, – торжественно объявил отец, любуясь новенькой, пахнущей свежеспиленным деревом постройкой, – из кожи вылезу, но молотилку куплю!
Вскоре на нашем хуторе появилась конная молотилка, купленная отцом на паях с Еварестом Ивановичем, дядей Максимом и Михаилом Евграфовичем Стихиным.
Я как сейчас вижу эту, казавшуюся мне в детстве диковинной машину, выкрашенную в красный пожарный цвет. Машинистом молотилки стал Фёдор Кузнецов, а коногонами – его младшие братья, Мишка и Петька. Начали молотить хлеб всем пайщикам; выполняли и заказы со стороны – молотили за плату. Пайщики единодушно решили: по окончании молотьбы поставить молотилку в сарай к Кузнецовым.
Однако не успели закончить всю молотьбу, как вдруг скоропостижно скончался Михаил Евграфович. Сразу к единственной на хуторе молотилке протянулись руки сыновей, зятьев, всех родственников Стихина, а их было полхутора! Начались споры-свары, и доспорили до того, что родня покойного потребовала его долю вернуть. Пришлось троим оставшимся пайщикам срочно собирать деньги. Не знаю, как другим, а нам это тяжело далось: продали двухгодовалого бычка и свинью и потом весь год постились без мяса.
Но отец радовался приобретению молотилки и верил, что она непременно себя окупит. «Ничего, только дал бы бог здоровья, а уж остальное всё постепенно будет», – часто повторял он.
В предзимье, около Богородицына дня, к нам заглянул на огонёк Еварест Иванович. Отец был дома. Гость, помолившись на образа, поздоровался, сел на лавку. Поговорили о погоде, о хуторских новостях, о минувшей молотьбе. Кузнецов сказал:
– Хуторские мужики молотилке рады-радёхоньки. Ведь это прямая выгода, говорят: не цепом всю зиму буткать да овин топить – одних дров сколь припалишь. А тут день-два – и конец молотьбе!
– Конная молотилка, Еварест Иванович, – отец, поглаживая усики, с гордостью произнёс: – Она хороша, если осень ведренная… Сухой-то хлеб, как он в суслонах выстоялся, молотить – любо-дорого. Но ведь не каждая осень такая выдаётся, как нынче. А если ненастье? Тут, брат, и овин, и цеп не забывай.
– Ну, нынешнее жнитво было – лучше некуда! Видел я, сосед, в деревне Долматовой жнейку-самосброску на паях мужики купили – то-то быстро она овёс жнёт! Пара лошадей без натуги жнейку таскает. Хорошо!
– Хорошо-то хорошо, да и жнейка – она ведь не на всякий хлеб. Овёс – чё его, и простой литовкой скосить можно. А как пшеницу убрать – полёглую или густую, которую во все стороны перекрутило? Неплохо, конечно, жнейку завести, хоть на паях, да деньги-то у кого найдутся? Не Каина же Овчинникова в пайщики брать: он намедни последний рубль в долматовской лавке пропил… Как был в деревне самый последний человек, так и на хуторе этаким остался – только бы ему вино пить да бабу свою бить… А вон крыша на избушке его до сих пор не покрыта!
В прошлый раз смеёмся над ним с Петьшей: чё же ты крышу-то на избе никак не покроешь? А он ухмыльнулся да говорит: «Чё беспокоиться, когда дождя нету, то и крыши не надо, а если уж пойдёт он – всё равно её покрыть не успеешь».
Недавно приехал домой из города пьяный, Анну свою принялся охаживать, а та в соседи убежала. Каин-от сам уснул, а лошадь так и ночевала во дворе запряжённая. Вот как хозяйство ведёт! Каков отец был, пьяница да бродяга, таков и сын – не родит свинья бобра, а родит поросёнка!
– Вот ведь зачем я пришёл, вспомнил! – хлопнул себя по лбу Кузнецов. – Если ваши будут наниматься лес рубить в казённых дачах, я уж узнал: по три рубля сажень платят. Можно рубить, ежели лес подходящий. Делянка, сказывают, сплошная, как и в прошлый год.
Я своих всех повезу, кроме Петьки, тот ещё мал для лесу-то, пусть дома бабам помогает. Заодно и уголь жечь будем. Уголь-то завсегда в цене. Здесь не продадим, так в город повезём. Хорошо бы, паря, смолокуру там, в суземье-то[46], оборудовать… Смола – голимые деньги! И ведь это – по пути, между делом. А трунду-то[47] нынче возить будем?
– А как же! Болото близко совсем, рукой подать. Пожалуй, завтра ехать надо да начинать трунду-то долбить, покуда болото не шибко промёрзло. Земля там, в залесках[48], тощая, не удобришь – не видать на будущий год урожая.
Cтарая любовь не ржавеет
Прошло уж полгода, как старшие Кузнецовы женили Фёдора. Всё это время Ульяна, как строшная[49], день-деньской работала в доме свекра: стирала на всю семью, месила пудовые квашни, стряпала, доила коров, убирала за скотом, носила в пригон здоровенные бадьи пойла. Расчётливая свекровь не давала снохе ни отдыха, ни покоя. Сама же охает-жалуется на разные недуги – то у неё «спину пересекло», то «руки не поднимаются», то «в груди вступило» или ещё что. Но не только тяжёлая работа изматывает молодую женщину – уже три месяца, как Ульяна забеременела, а с Фёдором они так и остались чужими.
Как-то под вечер, когда Ульяна в огороде садила лук, к пряслу подошла Евфросинья и поманила рукой:
– Ляна, подь-ка сюда!
Ульяна, замирая от недоброго предчувствия, подбежала.
– Как хоть поживаешь, сестрица? – спросила Евфросинья.
– Да всё работа да работа и вздохнуть-то некогда…
– А с Фёдором вы как, ничё живёте? Я всё увидеть тебя хотела… сказать кое-что… Вот слушай… Неделю назад пошла я овечек искать, подошла к реке, слышу, кто-то разговаривает у переходов. Пригляделась, а это Анюха Комарова с твоим Фёдором сидят под кустом. Он свой пиджак ей на плечи накинул… Чё говорили, не слышно было – далёконько, а ближе я подойти не посмела – испужалась да скорей в кусты, под ногой ветка хрустнула – они оглянулись, встали. Анюха пиджак с плеч сняла, а он обнял её, поцеловал… Старая любовь, выходит, не ржавеет. Встречаются они тайком!
Ульяна прослезилась:
– А ты ещё спрашиваешь, мол, как живём… Худо мы с Фёдором живём, Фрося, – хуже некуда! Да вот ещё горе-то: брюхо у меня присунулось, уж четвёртый месяц…
«Ульяна! Поди-ко домой! Коровы пришли, доить надо! А я уж досажу лук-то как-нибудь!» – крикнула Ульяне вышедшая из дома свекровь.
Во время вечерней управы Ульяна только и думала, что о своей безрадостной жизни и об измене Фёдора: «Раз уж начал он встречаться с Анюхой, добра не жди. Не везёт нам с сестрой: я хорошей жизни не видела, а у неё ещё хуже – беспросветная бедность, муж-пьяница и матерщинник, да ещё что ни год, то ребёнок.
Родились, видно, мы на беду. Мне семи лет не было, как от непосильной работы умерла мать. Трое сирот осталось… Брата Андрея только на похоронах и видела – на один день хозяин из строка[50] отпустил, чтобы с матерью-покойницей попрощался.
Евфросинья тоже горя хлебнула – вплоть до замужества на чужих робила, а я с малолетства в няньках сопли на кулак мотала.
А чем не строшная судьба у меня сейчас? Как начала в детстве и юности горе мыкать, так и в замужестве не слаще. Ни сестра, ни брат в моём горе не помощники – своих забот-горестей полон рот… Да и кому на мужа пожалуешься? И на что? Пьяным не напивается, меня не материт, не бьёт. Но по всему видно, что не любит… Свёкру сказать? Конечно, он в семье – гроза, полный властелин. Взрослые сыновья его как огня боятся. Если уж до свёкра донесётся молва про сыновьи шашни, то получит Фёдор по полной!»
«Нет уж, – всхлипнула Ульяна, – пусть свёкор сам про всё узнает от кого-нибудь, а я на своего мужа не доносчица».
…Ужин был скудный. В большой семье Кузнецовых вечно экономили, часто жили чуть ли не впроголодь. Обычно к ужину уже не оставалось и хлеба – не то что какой-нибудь снеди. Ульяна иной раз сама к еде и не притрагивалась, но семейные этого будто и не замечали: здоровым-то парням что, лишь бы самим брюхо набить…
Фёдор молча хлебал пустые щи, братья старались не отставать. Скоро большое, как таз, блюдо оказалось пустым, Ульяна же попила только чаю без сахара. Когда пришла в горницу ложиться спать, Фёдор отвернулся к стене. Но Ульяна тронула его за плечо: