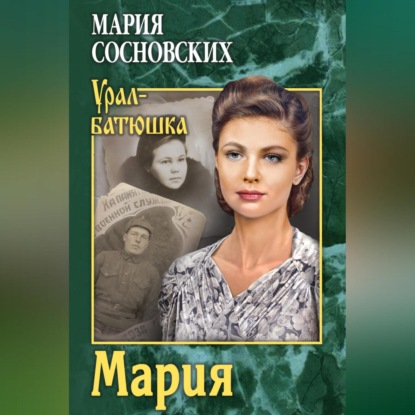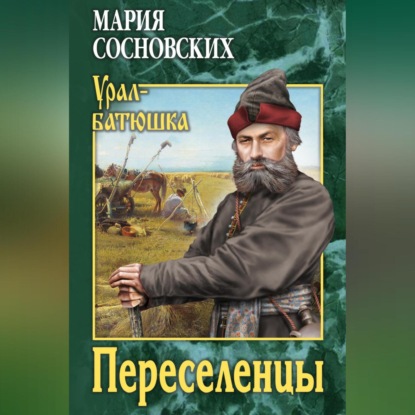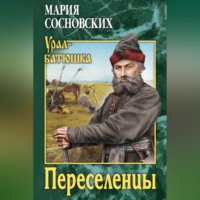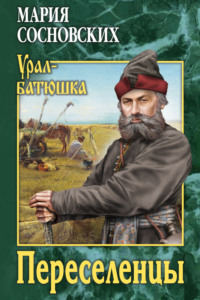Полная версия
Мария
Едем по плотине через речку Сайгун. Плотина – земляная, укреплённая плетнём из берёзовых, черёмуховых и красноталовых веток. (Впоследствии я узнала, что хуторяне каждый год после паводка собирались и помочью подновляли плотину.)
Подъезжаем к полевым воротам. Отец приматывает вожжи к передку, слезает и идёт открывать ворота.
Вокруг такая красота, что я не успеваю поворачивать голову. И сама, конечно, верчусь на сиденье, пока не получаю от мамы замечание: «Будешь вертеться – вернёмся домой!» Я затихаю, но ненадолго. Вокруг так интересно! И я впервые это всё вижу… Ощущаю… Осознаю… Мои родители, уже пожилые люди (в то время матери было сорок лет, отцу – сорок два) тем давним утром кажутся молодыми и нарядно разодетыми красавцами; праздничная одежда, как я узнала позже, была вся на них, и дома остался почти пустой сундук. А коробок, на котором мы ехали, на самом деле был до того ветхим, что мог развалиться на любом нырке-ухабе дорожной колеи.
И насчёт красоты своих родителей я, конечно, судила по детским впечатлениям (наверное, каждому ребёнку родители кажутся самыми лучшими и красивыми: это ведь не чьи-нибудь, а его родители!). Отец действительно был по-своему красив: среднего роста, широкоплечий, черноволосый с проседью на висках, с густыми широкими бровями и карими глазами. В весёлую минуту не лез в карман за острым словцом, любил беззлобно пошутить над кем-нибудь, заговорщицки подмигнув при этом окружающим. Человек он был доброго, уравновешенного характера.
После сорока лет отец слегка располнел. Бороду всегда брил, а смолоду носил усики (сейчас, по телепередачам, я нахожу в нём некоторое сходство с композитором Яном Френкелем).
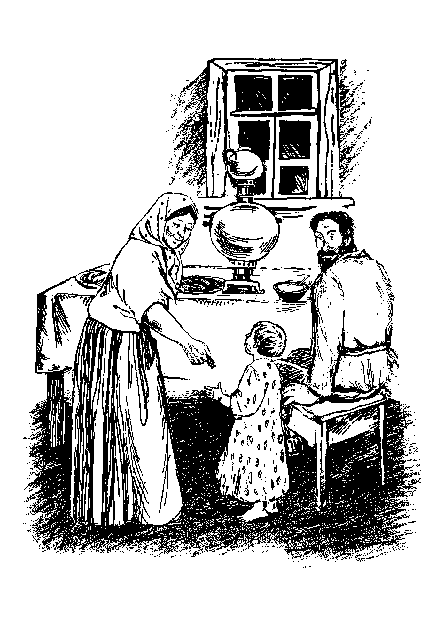
Мать моя красавицей не была. Высокая, худощавая, с чёрными, как спелая смородина, глазами с чуть монгольским, как у бабушки Сусанны, разрезом. Свои негустые тёмно-русые волосы она всегда прятала под косынку. И я, чем старше становилась, всё больше походила на мать – и лицом, и характером, – разве что высокий лоб да глаза – отцовы.
До Харлово ехать надо было восемь вёрст, под конец пути я устала и, кажется, задремала на маминых руках. Но когда мы въехали в село, я встрепенулась и снова стала смотреть по сторонам. Особо меня поразил Волостной мост через реку Киргу и каменные двухэтажные дома.
Мы подъехали к чугунной церковной ограде. Обедня ещё не началась, и народ толпился на улице. Держась за мамину руку и запрокинув голову, я разглядывала церковь – огромную, белоснежную, с голубыми куполами и золочёными крестами где-то, казалось, на самых небесах. Когда мы вошли в церковь, я замерла, увидев летящих по расписному потолку ангелов с трубами в руках.
«Пойдём к причастию», – полушёпотом сказала мама и тихонько потянула меня за руку в конец выстроившихся друг за другом вереницей людей, по очереди подходивших к священнику и дьякону (а для меня – просто к двум дяденькам в красивой одежде). Каждый пробовал что-то с ложки, которой зачерпывали из блестящей чашки, а потом целовал крест. Подошла наша очередь. Я тоже попробовала. Мне понравилось, захотелось ещё, но больше мне не дали, а дали стоявшему за моей спиной человеку. Поцеловав крест, мать меня отвела в сторону, снова шепнув: «А сейчас просвирку[17] съесть надо». Но таинственная «просвирка» мне не понравилась – оказалась невкусной, пресной.
После обедни поехали в гости к дяде Перегрину. Там я узнала, что женщина с добрым лицом, которая на помочи угостила меня конфетой в бумажке, – это моя тётя Кира.
Ночевать в Харлово мы не остались: лошадь отдохнула, и вечером мы поехали домой. По приезде мама уложила меня и сказала отцу: «Зря, может, возили Маньшу-то, не захворала бы». Меня поташнивало после долгой и тряской езды в коробке, но, пролежав несколько минут, я была уже во дворе, переодетая в старое ситцевое с заплатками платье.
Мать в домотканой синей юбке и холщовой льняной кофте доила корову, струйки молока глухо ударяли в дно деревянного подойника. Отец, в посконной[18] рубахе, в таких же штанах и в своедельных[19] броднях[20], повёл лошадь в ночное[21].
Длинный, как год, весенний день кончался; охватив полнеба, пылала заря. Я долго стояла неподвижно во дворе и пристально, до рези в глазах, вглядывалась в предвечернее небо. Не пролетит ли ангел с трубой по небу, не покажет ли мне свой прекрасный лик?
Но вот и солнце зашло за вершины дальнего леса. Раскололся огненный диск на отдельные золотые кусочки, а потом и совсем скрылся. Прошёл светлый весёлый праздник Троица…
С этого момента я хорошо помню, пожалуй, каждый день детства. Правда, некоторые детские воспоминания могут быть частично навеяны более поздними рассказами взрослых.
Родители мои, особенно мама, были людьми глубоко верующими и сызмальства стали учить меня молиться и креститься. Но я долго никак не могла запомнить, где правая, а где левая рука, и часто крестилась левой, за что мне не раз попадало. Отругав меня, мама с досадой брала мою правую руку, складывала пальцы щепотью и заставляла креститься как следует. Я однажды надулась:
– Не всё ли равно, мама, какой рукой креститься? Вон нищий Матвей левой крестится, и его боженька не наказывает!
Мама рассердилась не на шутку:
– Ты Матвея оставь! Он в солдатах на войне правую-то руку потерял! И чтоб я такого больше от тебя не слышала!
Через минуту, когда гнев её утих, она сказала:
– Ну-ка, повторяй за мной: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твоё…»
И опять я донельзя рассердила её:
– Мама, иже еси – это исть, чё ли? И как это имя вдруг светится?
– Ох ты, горе моё! Да ты, девка, в своём ли уме?!
Мать оставила прялку и в досаде ушла. Я заревела… Прошло немного времени, и мама как ни в чём не бывало снова села прясть и стала рассказывать мне то ли стихотворение, то ли басню.
Стихов она помнила множество – Пушкина, Лермонтова, Кольцова и в свободное время любила читать и с трепетом относилась к любой, даже неинтересной, попавшей в её руки книжке. У нас в доме книг было очень мало: Новый Завет, подаренный ещё в юности отцу за хорошую учёбу, псалтырь, молитвенник да ещё маленькая, по листку разваливающаяся книжонка «Как солдат спас от разбойников Петра Великого».
…На новом месте, в Калиновке, жить мы стали получше. Несмотря ни на какие трудности, мы начали выбираться из нищеты. Появились две рабочих лошади и вороная кобылка-двухлетка, которую пока не запрягали. Из рогатой скотины имелись чёрно-пестрая дойная корова, прошлогодняя тёлка со звёздочкой на лбу и семимесячный бычок. Было две свиньи, несколько овец, гуси и курицы.
Мои родители своему хозяйству были бесконечно рады. Вдоволь намаявшись в бедности, они работали без устали и жили надеждой на лучшее будущее. Отец, правда, был скуповат – ради того, чтобы поднять хозяйство, он урезал семью во многом. К примеру, одежда на шесть человек помещалась у нас в одном полупустом сундуке.
Любе, моей старшей сестре, исполнилось семнадцать, но надеть ей было почти нечего. Одно праздничное платье у ней, правда, всё же было – перешитое из материного, но обуви, кроме рабочих обуток[22], не было никакой. Мне от души было жаль сестру, плакавшую из-за того, что ей не во что обуться по праздникам: туфли, сшитые из телячьей кожи своей выделки, стали ей малы.
Парни тоже, кроме бродней, никакой обуви и не видали, а на плечах зимой и осенью носили сермяжные куртки да одну на двоих короткую шубейку.
Зато на хуторе в промежутках между весенней и осенней страдой было больше времени для приработка. Начиная с марта отец с сыновьями нанимались рубить дрова в казённой лесной даче[23], жгли берёзовый уголь для кузниц. Работа углежога – она не только тяжёлая и грязная, но и особого чутья требует, пристального внимания и досмотра. Уголь продавали местному кузнецу Юдину; большие короба с углём возили и в Харлово. Подрабатывали и тем, что плели всевозможные корзины, драли лыко, заготовляли ивовое корьё. В крутом речном берегу сделали глинобитную печь, в которой распаривали колёсные ободья. Зимой в болотах долбили мёрзлую трунду[24], которой удобряли поля. Сеяли много конопли, осенью вили из неё веревки. Летом, между сенокосом и страдой, возили лес из Пахомовского бора. Устанавливали высоченные столбы с перекладинами – «козлы» для распиловки маховой пилой брёвен на тёс.
Отец вставал задолго до рассвета и будил на работу сыновей. Сам он мог делать всё – выделывал кожи, мастерил обутки и незаменимую для работы обувь – бродни; шил шапки, шубы, даже носки и варежки вязать умел.
Табака отец не курил и сыновьям не позволял, вино пил лишь по рюмочке в праздник. Я никогда не видела его пьяным.
Дом наш, как мне казалось в детстве, был очень большим. На самом деле это было не так: обычная деревенская избушка из двух комнат – большой на четыре окна и маленькой горенки.
Места всем хватало, даже с избытком: вдоль стен тянулись широкие лавки, даже приступочек у голбца служил для сидения. В переднем углу – божница, под ней стол, одна табуретка да скамейка. В горнице стояли сундук, кровать и столик.
Большую часть избы занимала громадная русская печь, рядом с ней был голбец[25]. На печи вповалку могли спать человек шесть, да двое умещались на голбце. От голбца до стены над печью были приделаны толстые брусья, поддерживавшие большие полати[26], покрытые войлоком. Зимой на полатях было тепло и уютно.
Змей огненный
В двадцатые годы прошлого века в Знаменском районе хутора вырастали, как грибы после хорошего дождя. Так, недалеко от Сайгунского болота вырос и наш хутор Калиновка, в котором в поисках лучшей доли поселилось девятнадцать семей.
Братья Юдины Полувий и Григорий поставили свои усадьбы по соседству в живописном месте, на берегу речки Сайгун. Отец братьев, дедко Осип, повздоривший с младшей снохой, отделился от сыновей и свою избу построил подальше от них – на самом краю болота.
Хуторские поговаривали, что к Юдиным и пчёлы сами прилетают, и рыба в морду[27] косяком идёт, дескать, знающие[28] они, потому и самые удачливые во всём…
– Я своими глазами видел, – божился сосед, – прилетели на болото две утки, Гришка Юдин вышел из кузни, не спеша подошёл к уткам, посмотрел, сходил домой за ружьём, а утки так и сидят, не улетают. Он – бах! И убил обеих. Да это ли не колдовство?
– А бабка Сусанья, говорят, змея огненного выпарила из петушиного яйца да заветила[29] на масло. Вот он масло-то ей и таскает. Вон сколь продают каждый год на базаре при такой-то семьишше. Видно, маслом доят коровы-то.
– А чё она на масло-то заветила? Дура! – дал оценку умственным способностям бабки Сусаньи один из мужиков. – Надо было на деньги…
Сплетни продолжались до тех пор, пока не женился старший правнук бабки Сусаньи.
Сноха стала жаловаться своим, что уж сильно плохо питаются в новой семье:
– Даже робятишкам молока не дают, только обрат. Сколько молока надоят, всё на сметану, а масло потом на базар… Шаньги картовные и то без сметаны.
– А змея огненного видела?
– Не видела я, – махнула рукой сноха, – никакого змея у них, ни огненного, ни простого!
– Видно, пустое люди про неё говорят… Вот в Пахомовой живёт бабка Полуфирья[30], так она не чета Сусанье – настоящая ведьма.
Многие в округе считали, что Полуфирья может на кого угодно напустить «резучку»[31] или «надеть хомут»[32].
«Было ж дело, – шептались меж собой кумушки, – изувечила девку… А за что? Ну повздорили, с кем не бывает, но зачем «резучку-то» насылать?»
И действительно, Полуфирья поссорилась со своей односельчанкой и испортила ей семнадцатилетнюю дочь Анну. Звали лекарок, лечили, наговаривали, подавали разные травы, но захворавшей становилось всё хуже. Отец больной девушки, Евграф Васильевич, в те поры жил исправно, лошади добрые у него были, вот и повёз свою единственную дочь в город в больницу. В санях по зимней дороге не тряско. Быстро доехали. Анне сделали операцию – оказался аппендицит.
В деревне все были поражены таким чудом:
– У Анюшки-то брюхо резано, а она жива осталась. Как это так? К чему брюхо резать, если резучка была напущена? Каку-то слепу кишку вырезали. Говорят, кожура от подсолнуха попала, от него и заболела.
– Да врут они все! Каки-то слепы кишки да здрячи? Где у них глаза-те?! Хто видел? Вот скотину колешь…
– То скотину… Ты, поди-ка, Устинья, человека не резала?! У ево всё по-другому… Только вот Анюшка-то ведь теперь хворая, как всё равно урод, куда она с резаным-то брюхом? Какая она теперя работница? Помается сколько да и умрёт… Вот как можно человека испортить, што и кишки повредились!
Анюшка скоро в больнице поправилась и как ни в чём не бывало приехала домой. Но к ней стали относиться как к тяжелобольной, не давали делать никакую работу. Когда после операции прошло более полумесяца, она побежала к подружкам. Те смотрели на неё с удивлением и боязнью, точно на выходца с того света. Никто не верил, что она здорова. Когда Анна выходила на улицу, женщины с состраданием смотрели ей вслед, перешёптываясь между собой: «Вот беда-то, молодая совсем, а не жилец. Как можно жить, если брюхо разрезано и кишки вынуты?»
Так и покатилось. Парни – те вообще сторонились её и близко не подходили. Дома, в горенке, без настоящей работы и подруг она затосковала. Но всего тяжелей девушке было то, что она любила одного паренька из своей же деревни, а он теперь при встрече смотрел на неё с такой жалостью, словно она вдруг лишилась рук и ног. Ведь до болезни какая это была любовь! А тут слухи пошли, что женится её милый…
Анка часто вспоминала их встречи, заверения любить друг друга всю жизнь, до гроба… «Видно, ничего не стоят его слова, – думала Анна с грустью. – Почему Андрей так легко отступил от своих слов, чуть только сделалось со мной несчастье? Ведь теперь-то я совершенно здорова. Хотя мать и отец всячески оберегают меня от работы, но я не сижу без дела, когда их нет дома, я и корову дою, и квашню мешу, и воду ношу, и не чувствую никакой боли в животе. Как же так? Где справедливость? Если бы я переболела тифом или даже оспой – и то бы ко мне так не относились… А тут… Только и разговору у всех: «Анка – порченая».
Сколько у Ани было бессонных ночей, сколько выплакала она слёз в подушку, прежде чем решилась на смелый и отчаянный шаг – самой поговорить с любимым.
Меж двух огородов вьётся тропка к реке, на берегу кузница, всё видно как на ладони. Летом здесь людно: бабы и девки носят воду, поливают капусту, на плотик идут полоскать бельё… Зато теперь – ни души. В проулке грязь, растоптанная скотом, да ветер срывает последние листы с черёмух, загоняя их в отстоявшиеся лужи. Вот от кузницы отделилась фигура с конём. Анна прихоронилась за высокий тын. Сердце бьётся, как пойманная птичка. Слышно, как лошадь, хлопая ногами, идёт по грязи.
– Здравствуйте, Андрей Елизарович! – вышла из-за тына девушка.
Парень от удивления остолбенел, не ожидая её встретить:
– Здравствуй, Анна Евграфьевна! – сухо поприветствовал девушку Андрей.
– Говорят люди… – вмиг пропали приготовленные слова. Аня вспыхнула пламенем, потупилась, глядя в землю. Слёзы навернулись на глаза. – Я слышала, скоро свадьба у тебя?
– Ну раз говорят, значит, правда.
– И кто же она?
– А не всё ли равно?!
– Да как же, Андрюшенька, милый, я ведь по-прежнему люблю тебя… Я-то как же? За чё ты меня разлюбил? Или я тебе изменила? – Анка залилась слезами. – Ведь я не виновата, что тогда не умерла! Но теперь-то я совсем здорова! – сквозь слёзы выкрикивала вконец расстроенная Анка. – Неужто ты так скоро меня забыл?
Парню стало не по себе от девичьих слёз. По всему было видно, что ему жаль её.
– Пойми меня правильно, Нюра. Я бы рад душой, да как же я тебя хворую возьму, ведь у нас хозяйство большое, работы много, лежать будет некогда. Сразу надорвёшься. Это не шутка – живот резаный! А для женщины это самое главное…
– Бракуешь, значит?
– Не то чтоб… Я уж говорил… Родители ни в какую… Говорят, порченая ты!
– Ладно! Всё! Поговорили, Андрей Елизарович, и на том спасибо! – Анка повернулась и пошла, не попрощавшись. Слёзы и злоба кипели в груди.
Парень встрепенулся, кинулся за ней, дёрнув ременный повод:
– Анютка, милая! Постой! Погоди! Ну чё уж ты так? Не хотел я тебя обидеть, вот те крест, – спесь с парня мигом как ветром сдуло, – постой, ну куда ты бежишь? – Фраза прозвучала как в те далёкие времена, когда он робко провожал Анну с гулянки до дому.
Аня остановилась, подавленная своим девичьим горем. Ничего не видя от слёз, горячий туман стоял в голове. Свет померк в глазах. Парень виновато стоял перед ней, втаптывая каблуком сапога крупные жёлтые листья в дорожную грязь.
– Жаль мне тебя, Нюра, – наконец выдавил он, – да чё я могу поделать, сколь раз говорено-переговорено с отцом и с матерью, против они… Думаешь, мне эта свадьба мила? Я-то чё?.. Знать не знаю и знать не хочу, пусть берут, раз работницу им надо.
– Андрюшенька, милый… Уехать бы нам с тобой куда…
– Да куда ехать-то? Это, значит, всё разом бросить – и дом, и хозяйство, и землю, а жить-то как? Где? Чем? Отец меня всё равно не выделит. Житья не дадут тогда нам с тобой. Нет! Нюра, без благословления нельзя, – парень глубоко вздохнул и со злобой сказал: – Эх, будь моя воля, задушил бы я Полуфирью и её змеиное гнездо сжёг!
– За что? – еле слышно спросила Анка. – Может, Полуфирья не виновата, в больнице врач говорил, что это никакая не порча, а просто так бывает.
– Много они, твои врачи, знают!
Норовистый молодой жеребец притомился стоять и дёргал повод. Анке сразу припомнились все хворые женщины из деревни и их несчастные семьи: «Ну, прощай, Андрюша! Первая и последняя любовь моя… Не судьба, видно, нам с тобой. Будь счастлив».
Анна, не помня как, добрела до дома, вошла в ограду, но в избу не пошла – слишком тяжело было на душе – обида острой болью отдавалась в сердце. Девушка, стараясь, чтобы её никто не увидел, прошла к сараю, осторожно открыла двери и вошла внутрь. «Вот и веревка, – Анна сняла её с крючка, растянула в руках, пробуя на прочность, – раз я урод и никому не нужный человек, зачем мне жить на свете? Быть кому-то обузой…»
На Полуфирью у неё не было зла. Была только обида на людскую темноту и беспросветную глупость. «Какая же это любовь? – размышляла девушка. – Если Андрей так легко отступился, поверил больше старухам и бабьим сплетням, чем мне. Кому я принесу горе, покончив с собой? Только родителям, – она представила горюющих по ней родителей: доброго тихого отца и немощную, вечно недомогающую мать. Слёзы потоком хлынули из глаз, очищая душу. Вдоволь наревевшись, Анна пошла домой. – Буду жить как жила, ведь живут же и уроды. А замуж совсем не обязательно. Если даже кто сватать будет – не пойду».
Любовь зла
Хутор рос и ширился – обрастал новосёлами, – стали появляться первые улицы. Три брата Черновых построили избы недалеко от Юдиных. За ними поселились Яков Захарович Кочурин и дедко Ерений с сыном Михаилом. Дальше улочку пересекал небольшой ложок. Там, почти на задворках, обосновались Фёдор Пономарёв с Данилой Кочуриным.
На высоком правом берегу Сайгуна поселились братья Стихины, дальше за ними – Овчинников Каин, затем усадьба большой семьи Кузнецовых. На краю, у самой Круглой чащи, построился Тимофей Пономарёв с тремя сыновьями.
Мы тоже жили на правом берегу. Из окон нашего дома была видна неказистая усадьба Филиппа Ивановича Стихина, в которой ютилась его многочисленная семья. Соседу с виду можно было дать и пятьдесят, и все восемьдесят лет: длинная, по пояс, окладистая борода, голубые, как выцветшее от зноя небо, глаза с вечно слезящимися красными веками… Борода у Филиппа отливала зеленью, а усы от самосада – желтизной.
Малорослый и худощавый Стихин в любую погоду ходил в шубе и шапке, годившихся разве что на огородное пугало. Обувался он в огромные растоптанные валенки, на которых было больше заплат, чем целого места.
Никто в хуторе не видел, чтобы Стихин делал какую-то, хоть пустячную работу. Избушка у Филиппа была маленькая, с двумя окнами на дорогу, все остальные постройки были под стать ей – такие же мелкие и несуразные – крытая берестой, покосившаяся ещё в самом начале строительства, банёшка да пригонишко с одной конюшней.
Старший сын Пётр, давно уже пришедший из армии, работал, как батрак, в доме отца, ему помогали братья: Иван, Павел, Андрей. Яков и Мария ещё учились в школе. Родной матери у этих ребят не было – умерла от тифа в 1921 году, зато была тридцатилетняя мачеха Домна Петровна. В этот же голодный 1921 год, ещё молоденькой, она пришла в хутор из Полевского завода и вышла за многодетного Филиппа. Потом уже пошли и её дети – Алексей и Нина.
Мать Стихина была ещё живой, но очень старой, совсем дряхлой – помню, она уже редко вставала с постели, а вскоре умерла.
Домна не зря считалась в хуторе расторопной и работящей, но попробуй прокормить и одеть огромную семью, которая к тому же с каждым годом прибывала! А Филипп и ухом не вёл, только всё рубил да рубил в корыте свой самосад. Днём он сидел дома, после обеда спал, а вечером, поужинав, отправлялся в пожарницу и был готов сидеть там хоть до утра, нещадно дымя самокруткой.
К слову, пожарницу калиновцы построили сразу, в первые же годы. Помочью рубили для неё лес, построили простую избушку, без каланчи, и сложили из кирпича печку. Пожарница никогда не пустовала, особенно зимой. Там проводили хуторские собрания, собирались девчата и парни на посиделки.
На все окрестные деревни была всего лишь одна школа, до 4 класса детвора училась в деревне Долматовой – от Калиновки километров шесть. Народу в нашем хуторе было немало; семьи в основном большие – как у Филиппа или, например, у Евареста Кузнецова.
Кузнецовы – крепкая, зажиточная, очень трудолюбивая семья. Еварест Иванович хозяйствовал рачительно, с умом. Жена его, Анна Корниловна, с лёгкостью управлялась с домашней работой. У них было шестеро детей: Фёдор, Алексей, Яков, Михаил, Петр и Нина.
Кузнецовы были родом из Галишевой. Оттуда они перевезли на хутор свой большой дом. Эта постройка стала одной из лучших во всей Калиновке. К 1928 году Кузнецовы имели три рабочих лошади, три дойных коровы, много свиней и овец. По всему видать – семья и до того в деревне жила неплохо, при взрослых-то работящих сыновьях.
Всё бы хорошо, но Федя, старший сын – опора и надежда отца, вдруг задурил – влюбился в Анюту Комарову. Анюта была песенницей, плясать-танцевать мастерицей, бойкой, на язык острой – палец в рот не клади – живо откусит! Но не больно-то работящей девка была, а в деревенской и хуторской жизни это ой как заметно! Дома со скотиной или в огороде ещё так-сяк, но вот в поле её никакими клещами не вытянешь. А если и придёт, то притворится хворой да и пролежит под телегой весь день…
Родители Анютины и сами-то, как говорится, лишка ноги не перегибали, тоже ленивенькие оба были, и пока сын Михаил неженатым ходил, жили совсем неважно. Потом Михаил жену взял работящую; стала та мужа шпынять, да так, что в скором времени у них две коровы стало, и хлеб убирать, и сено косить стали вовремя. И на пригоне, наконец, крыша образовалась (до того-то с крыши солому корове скармливали).
Ну, Анюте трудиться – не в зубы калач. Но какую причину найти, чтоб от работы отлынивать? И вот она, как придёт лето, притворялась больной. До того лукавая девка доходила, что брала в руки бадог[33] и ковыляла, точно восьмидесятилетняя старуха!
Анютины брат с женой и отец работали в поле, а она всё лето дома сидела. Людям говорила, дескать, бок у неё болит – спасу нет… А как только бывало убрано с полей, она сразу преображалась. Ходила на гулянки, пела-плясала – хоть до утра.
Но не зря в народе говорят: «Любовь зла…» Несмотря ни на что, работяга Фёдор Анюту любил.
– Ты, Федьша, Анну Комарову из головы выбрось! Худой она породы, лень несусветная! – в один голос наставляли родители сына. – Пропадёшь с такой-то ни за грош… Ведь всё лето-летенское в поле не бывала – с бадогом проходила! Этакого никто не видывал, чтоб двадцатилетняя девка из-за лени так себя позорила. Одумайся, пока не поздно!
Этот разговор разнёсся по хутору и дошёл, конечно, и до Анны.
Назавтра, когда вечером после ужина Еварест Иванович сидел у открытого окна, Анна прошла возле его дома и задиристо пропела: «Нету моды и не будет голубым кушакам! Не придётся быть подпорой пожилым мужикам!»
Анна Корниловна полола в огороде грядки. Анюта и ей спела через прясло: «А как миленькой мамашеньке не надо меня в дом! Это дело полюбовно – может, сами не пойдём!»
Частушки сыпались из Анюты, как горох из худого мешка, – то про Евареста Ивановича, то про его жену!
А Фёдор, несмотря ни на что, продолжал встречаться со взбалмошной и своевольной девкой.
Чтобы как-то повлиять на сына, Еварест Иванович решил нанять на сенокос и страду трудолюбивую девушку Ульяну, свояченицу соседа. «Может, глядя на Ульянку, обумится Фёдор? – думал Еварест. – Чтоб эту Анку-зубоскалку лихоманка задрала! Беда, а не баба…»