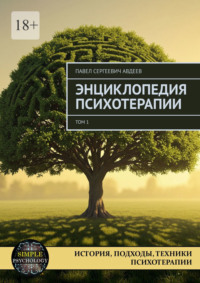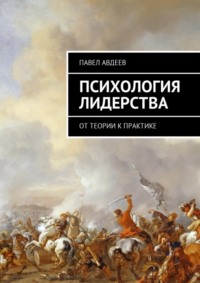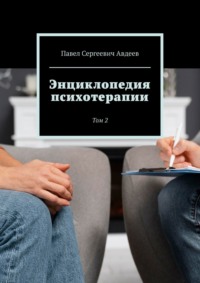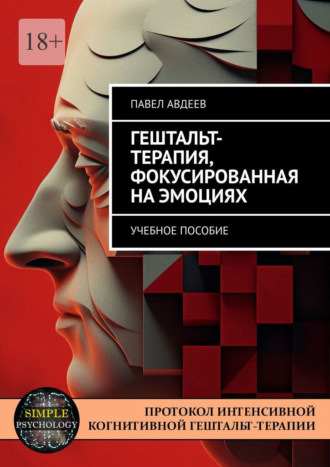
Полная версия
Гештальт-терапия, фокусированная на эмоциях. Учебное пособие
Резюмируя тему слияния, мы можем обозначить слияние как потерю собственного «Я» человека и его идентичности, что выражается в непонимании собственных чувств, потребностей, желаний и переживаний и в попытке заимствовать эти переживания и желания у других людей.
Слияние является самым первым и в тоже время обычно самым сложным прерыванием, если мы рассматриваем его как личностнообразующее. Обычно слияние характерно для психотических расстройств, например оно проявляется при шизофрении, когда больной не способен различать воображение и реальность, не видит противоречий в собственных суждениях, не может отнестись критически к самому себе и другим, и, как правило, страдает алекситимией, т.е. неспособностью распознавать и выражать эмоции. Большая часть из подобных проблем связана именно с устройством мозга человека, однако работа со слиянием отчасти способна помочь таким пациентам в компенсации ряда симптомов. Однако, это уже вопрос долгосрочной терапии и общей модели гештальт-терапии, так как в подобных случаях вы просто не сможете обнаружить эмоцию, с которой мы могли бы работать в ИКГТ.
В тоже время мы можем наблюдать и более простые формы слияния, которые представляют из себя именно способ бегства от неприятных ощущений, связанных с необходимостью принятия решений или ответственности за те или иные события. Это уже хороший вариант для работы в ИКГТ, так как при «вскрытии» такого слияния на поверхность наверняка выйдут значимые чувства.
Сама же работа со слиянием в первую очередь состоит в так называемой дифференциации, т.е. в прояснении фактов, эмоций, ощущений и во встречи клиента с объективной реальностью. Именно на этом этапе мы и получаем нужное нам чувство.
ИНТРОЕКЦИЯ
Интроекция – это следующий способ контакта, а также способ его прерывания, который появляется в нашей жизни после слияния и логично вытекает из него. Действительно, чем чаще родители взаимодействуют с ребенком, тем больше процесс слияния структурируется и приобретает фиксированные формы. Ребенок научается какими способами он может удовлетворять свои потребности, а какими – нет. Например, он привыкает к любимому вкусу маминого супа, и велика вероятность, что потом он будет недоволен супом, который приготовит ему его девушка, именно потому, что он не похож на мамин. Таким образом первое, что усваивает ребенком – это основные пути реализации собственных потребностей: что нравится, а что не нравится и как нужно себя вести, чтобы получить желаемое. Зеркальной стороной этого становятся различные запреты и долженствования: как нельзя себя вести, чтобы получить желаемое. Так, ребенок, воспитанный в требовательной семье, постепенно осознает, что для того, чтобы получить любовь, необходимо приносить домой хорошие оценки (а в будущем – большую зарплату), если же он не будет этого делать, то и любви ему не достанется. Отсюда дадим определение интроекции.
Интроекция – это процесс принятия и использования убеждений, ценностей или установок без их критической переработки и осмысления с позиции «здесь и сейчас».
Крайне важным моментом является понимание интроекции как процесса. Большинство людей рассматривают интроекцию как синоним интроекта, т.е. как определенные убеждения, которые человек, когда-то принял на веру и теперь следует им. В нашем случае это не так! Интроекты или, проще говоря, убеждения личности могут сопровождать и любые другие прерывания контакта, например человек может находиться в слиянии со своими чувствами (вытеснять их) просто потому, что считает их не важными или прибегать к дефлексии (бегству), потому что считает, что он не сможет совладать со своими чувствами. В этом смысле интроект – это убеждение, которое может быть причиной любых других прерываний и которые обычно являются мишенью когнитивной терапии в качестве глубинных убеждений, а также нашей работы по переосмыслению.
Процесс интроекции – это принципиально иной феномен, который состоит именно в тенденции и желании переносить внутрь материал извне. И это могут быть не только убеждения, но и внешние оценки, реакции других людей их внимание. В этом смысле интроекция часто формирует истероидный характер, имея который, человек постоянно стремится привлечь к себе внимание, так как его собственное «Я» просто исчезает без внешних воздействий.
Чтобы понять данную идею, надо также понять и каким образом интроекция становится защитным механизмом психики. Встает вопрос от чего клиента должны защищать его собственные убеждения. И ответ здесь достаточно прост – от личной ответственности. Клиент с интроекцией стремиться переложить с себя ответственность за свои решения и за формирование собственного «Я» на других за счет постоянного вопрошания к ним. Иногда место других занимает религия или идеология. Такой клиент осознает и понимает (а также наполняет) себя только когда видит реакции других на него, а без других он чувствует пустоту и потерянность. Он также чувствует страх из-за необходимости принимать решения, поэтому такой клиент может постоянно просить прямого совета от психолога и очень активно следовать его указаниям и модели терапии. Именно поэтому эти клиенты чаще всего попадают на гипнотерапию. Однако, их лояльность обычно длиться не долго, так как решение, напрямую данное терапевтом, как правило, ни к чему хорошему не приводит, и в итоге такой клиент обвиняет своего бывшего «спасителя» в несостоятельности.
Все же в рамках данной главы мы поговорим и об интроектах как о конкретных структурах в психике, т.е. как об убеждениях. Наше определение несколько отличается от классического в двух пунктах. Во-первых, мы говорим не только о том, что человек интроецирует «чужие» ценности и убеждения, но и способен создавать свои собственные, т.е. в нашем случае мы рассматриваем больше источников образования интроектов, чем это обычно делается в литературе, среди которых выделим следующие.
– Прямое внушение со стороны других людей. Действительно, первый и наиболее явный способ образования проекции – это прямое внушение со стороны людей. Причем этими людьми могут быть как родители, так и знакомые, психологи, общество в целом. Такие внушения могут звучать как: «Надо постоянно работать, чтобы получать деньги», «Плачут только девочки», «Нельзя обижать других людей», «Для девушки стыдно себя так вести/одеваться!», «Мужчина должен…», «Европейцы выступают против традиционных ценностей!».
– Скрытое внушение со стороны других людей. Такие интроекции сложнее распознать, так как они формируются как противоположные от прямых внушений. Например, если в семье присутствует принцип «Всем надо постоянно работать», ребенок вполне может заключить, что «Отдыхать непозволительно». Или, если мама заявляет: «Сын Наташи такой хороший», то ее собственный сын вполне может сделать вывод, что он плохой. Тоже самое касается рассказов про тяжелые роды, исходя из которых дети часто решают, что это именно они приносят боль и страдание окружающим, а поэтому они никчемные и не имеют права на существование.
– Моделирование поведения других людей. Человеку совершенно необязательно воспринимать интроекты через речь, он вполне может и просто скопировать поведение других людей, приняв его за правило, даже сам того не осознавая. Например, так в семье могут умалчивать и не обсуждать измены отца, что может сформировать у дочери мнение в стиле «Чтобы сохранить брак, нужно просто потерпеть/помолчать». В тоже самое время сын, наблюдая за таким поведением отца может решить, что «Измены – это нормально для мужчины». Дети копируют и вредные привычки родителей, несмотря на то что те могут всячески отговаривать их от такого поведения, при этом в ряде случаев появляются такие убеждения как «Если я не буду курить как моя мама, значит я отдалюсь от нее».
– Кристаллизация привычек и поведения. В ряде случаев в интроекты могут превращаться некоторые наши привычки и повторяющееся поведение. Например, если ребенка постоянно водили в церковь, он вполне может решить, что именно так и должен поступать каждый человек в своей жизни, а те, кто так не поступает «безбожники». Или если человек десятилетиями ходит в спортзал, он может начать оправдывать свою привычку определенными убеждениями в стиле того, что «Спортзал необходим для здоровья».
– Формирования выводов на основе травматических событий. Убеждения могут формироваться, исходя и из отдельного травматического события или череды событий в качестве выводов из ситуации. Например, если задиристого мальчика в ответ сильно побили, он может решить, что «Нельзя проявлять агрессию, иначе можно огрести» или принять убеждение, что он жалкий, потому что его резко свергли с его «пьедестала» самого сильного ребенка в классе.
Второй важный момент – это осмысление интроекций относительно «здесь и сейчас». В классической парадигме указывают на то, что здоровая интроекция – это интроекция осмысленная и переработанная человеком через свой предыдущий опыт. Однако, даже такие изначально адаптивные интроекты, вполне могут закрепляться и становится ригидными, т.е. не соответствовать новой ситуации. В этом смысле, в идеале здоровый человек каждый раз в спорной ситуации должен оценивать, а подходят ли его убеждения к этой ситуации и стоит ли их здесь придерживаться.
В тоже время мы должны заметить, что такое вряд ли возможно на постоянной основе, так как интроекты и формируются для того, чтобы облегчить работу нашего мозга, за счет отказа от осмысления и перехода к автоматизму. Представьте, что было бы, если бы мы каждый раз, стоя на светофоре, размышляли, а стоит ли нам переходить на красный или нет.
На самом деле интроекты или убеждения – это сфера, очень хорошо раскрытая в когнитивной терапии, а, работая в гештальте, мы в том числе будем обращаться к техникам когнитивной реструктуризации. Сейчас же мы приведем отличия адаптивных и дезадаптивных интроектов, которые в свое время описал основатель рационально-эмотивной терапии Альберт Эллис31.
Адаптивные убеждения (интроекты) характеризуются следующими признаками.
– Гибкость. Такие убеждения способны меняться в зависимости от обстоятельств. Например, убеждение «Нельзя бить людей» может перестроиться на «Нельзя бить других людей, но если кто-то нападает на вас или вашего ребенка, то можно».
– Мотивация. Позитивные интроекты способствуют процессу адаптации. Например, убеждение «Если пытаться, то рано или поздно получится» будет намного более адаптивным чем «У меня не получилось, значит я неудачник и нет смысла пытаться снова».
– Реалистичность. Адаптивный интроект должен соответствовать реальности. Например, убеждение «Всем женщинам нужны только деньги» будет менее адаптивным чем убеждение «Некоторым женщинам нужны только деньги, но есть и те, кому это не так важно». Такое убеждение подразумевает разнообразие исходов и вероятностный характер, что обычно более соответствует реальности, чем строгие «черно-белые» убеждения.
– Создание опоры. Адаптивные интроекты должны позитивно влиять на эмоциональное состояние человека. Например, убеждение «Необходимо неустанно работать, чтобы много зарабатывать» может мотивировать человека на действия, но в тоже время приводить к эмоциональному выгоранию.
Дезадаптивные интроекты характеризуются следующими признаками.
– Ригидность. Такие интроекты не меняются в зависимости от ситуации и с трудом поддаются внешнему воздействию. Например, человек может верить, что люди думают о нем плохо, даже если никто ему об этом не говорил и никаких намеков на это нет.
– Демотивируют. Дезадаптивные интроекты отдаляют человека от его цели. Например, убеждение «Я неудачник» подразумевает бессмысленность дальнейших попыток что-либо сделать, ведь они все равно закончатся провалом.
– Нереалистичность. Дезадаптивные интроекты не отражают реальности. Например, человек может верить, что «Чтобы стать психологом необходимо учиться минимум десять лет» или «Если я буду мыслить позитивно, то все пройдет само собой».
– Разрушение опоры. Дезадаптивные интроекты приводят к дистрессу в процессе деятельности. Например, идея, что «Одиночество невыносимо» может заставлять человека делать все больше и больше, чтобы быть среди людей, но, если он остается один, то начинает страдать.
Границы при интроекции. При обсуждении границ нам необходимо разделить интроекты как структурные единицы и интроекцию как процесс. При интроекции границы индивида открываются, и он дает внешнему материалу вторгнуться в них. Это проявляется, например, когда девушка просит совета у подруги и бездумно принимает его, опираясь на то, что «она мудрее и лучше знает». Таким образом она отказывается от собственного мнения и отдает право принятия решения за ее жизнь другому человеку. В тоже время, когда интроект получен и закрепился, границы человека закрываются и часто становятся непроницаемыми. Так, клиент может не слушать психолога, который предлагает ему отдохнуть, указывая на его эмоциональное выгорание, так как он верит, что «Отдых приведет к отсутствию денег, а это, в свою очередь, к распаду семьи». Или клиент с социофобией может утверждать, что он социально несостоятелен, а его речь «какая-то странная», потому что просто верит в это, в то время как психолог никаких странностей в его речи не наблюдает.
Защитная функция интроекции. Надо понимать, что все прерывания так или иначе защищают нас от тревоги, которая связана в том числе с принятием ответственности. Отсюда становится ясно каким именно образом интроекция помогает нам избежать собственной тревоги: во-первых, она позволяет структурировать неопределенные аспекты мира (а неопределенность – это один из базовых стимулов для тревоги), а, во-вторых, она помогает нам сбросить ответственность за принятие решения (именно эту функцию выполняют в том числе и религии, которые четко прописывают, как и кому надо жить).
В процессе психотерапии мы можем наблюдать следующие индикаторы интроекции у клиента.
– Речь. Об интроекции как правило свидетельствуют такие слова как: «надо»; «обязан»; «полагается»; «должен»; «нужно»; «правильно»; «неправильно»; «нельзя»; «всегда»; «никогда» и др. Также мы можем наблюдать абстрактные сверхобобщения о людях и о мире («Я неудачник», «Все мужчины изменники», «Мир полон боли»), комплексные эквиваленты в виде «х=у» («Я бездарен, потому что завалил экзамен», «То что мы ссоримся означает, что она меня бросит») и причинно-следственные связи в виде «если х, то у» («Если так продолжится дальше, то я умру», «Если у меня снова случится паническая атака, то я не выдержу»).
– Подражание и зависимость. Клиент может подражать терапевту или другим людям. Например, если клиент тоже психолог, он может начать использовать тот же метод, что и его терапевт. Тоже самое может происходить и при групповой терапии, когда клиент стремится взять на себя стандартную роль, принятую в группе.
– Невозможность принятия решения. Интроецирующие клиенты обычно напрямую могут обращаться к вам за советом или решением. Они не могут сами принять решения, поэтому перенесут ответственность на вас. Именно поэтому наиболее гипнабельными личностями являются истероидные люди: интроекция является у них личностнообразующим прерыванием, и в связи с ней они часто ищут готовых решений в виде прямых внушений от гипнотерапевта. Эти же люди часто обращаются к экстрасенсам, гороскопам и гадалкам, потому что и здесь можно сбросить ответственность за свои решения.
– Поиск одобрения. Попытка сбросить ответственность выражается не только в первоначальном заимствовании решений, но и в получении последующей оценки «А правильно ли я поступил?». Функция здесь таже: перенести ответственность за «правильность» решения на другого человека.
– Страх отвержения. В основе интроекции лежит необходимость контакта с другими людьми, ведь без них клиент потеряет собственную аутентичность, никто уже не сможет определить сущность человека и ему в итоге придется остаться наедине с самим собой, что вызовет нескончаемый поток тревоги. В связи с этим такой клиент, как правило, будет стараться поддерживать контакт с людьми и пытаться им угодить. Конечно, среди этих людей окажется и терапевт, которому такой клиент будет казаться идеальным, ведь он все слушает и даже выполняет все наставления. В этом смысле терапевт начинает в какой-то момент заменять отцовскую фигуру, таким образом поддерживая в клиенте его отказ от ответственности.
У терапевта интроекция может проявляться следующим образом.
– Поиск одобрения от клиента. Самооценка терапевта может чрезмерно зависеть от мнения клиента. Часто это выражается в перфекционизме терапевта, который замечает любые признаки недовольства со стороны клиента и в тоже время пытается сделать все, чтобы получить его одобрение. При этом основной задачей терапевта становится избавление от собственного дискомфорта, нежели оказание помощи другому человеку.
– Чрезмерная ориентация на мнение клиента. Терапевт под предлогом принципа «Надо следовать за клиентом» начинает менять условия и методы своей работы. Например, клиент может утверждать, что он бы хотел получить «готовый набор техник» вместо диалога, который задумал терапевт или, что он считает, что «необходимо сократить количество времени, за счет чего можно будет сократить и оплату» и терапевт подстраивается под новые условия. Это особенно явно проявляется с клиентами, у которых преобладает такая защита как эготизм; они, как правило, пытаются контролировать ситуацию и каждый раз нарушают сеттинг, что может заставлять терапевта подстроиться, таким образом воспроизводя дезадаптивные паттерны клиента, которые тот проявляет и в жизни.
– Преувеличенная опора на теорию, методы, сообщество. Некоторые терапевты неспособны принимать собственных решений в процессе терапии. Вместо этого они ищут опору в своих наставниках или «доказательности» метода. Причем они готовы следовать внешним указаниям даже если это противоречит их собственным ощущениям и мнению по поводы работы.
Еще раз отметим, что мы говорим именно о чрезмерной реакции, так как коррекция интервенций под влиянием обратной связи клиента, поиск совета у наставника и попытка опираться на обоснованные теории и методы – это вполне нормальное поведение психолога, которое выходит за пределы здорового, когда психолог теряет собственную аутентичность в работе.
Таким образом в рамках гештальт-терапии мы в первую очередь обращаем внимание на интроекцию как процесс вбирание материала из внешней среды, который приводит к подмене собственной аутентичности субъекта. В тоже время мы выделяем и интроекты в виде определенных ригидных убеждений, мыслей и представлений субъекта, которые часто являются основой для всех остальных прерываний. Действительно, многие последующие прерывания исходят из интроектов (но не из интроекции как процесса), например ретрофлексия содержит в себе конфликт между импульсом и запрет на его проявление, что приводит к сдерживанию; дефлексия также подразумевает подобный конфликт, но здесь индивид в качестве метода сброса напряжения выбирает отвлечение; при эготизме человеку проще закрыться в своих ригидных убеждениях и т. д. Поэтому нам необходимо четко разделять, где мы наблюдаем внутреннюю структуру в виде интроекта, а где сам процесс интроекции, причем как у терапевта, так и у клиента.
Способ конфронтации: обратить внимание на личное мнение клиента и его решение.
Стратегия работы с интроекцией будет в первую очередь заключаться в помощи клиенту в формировании его аутентичного «Я», а, проще говоря, в возвращении ответственности и раскрытии его собственных импульсов, желаний, побуждений и мнений. Для этого могут использоваться различные направления работы.
– Когнитивная реструктуризация. В случае работы с интроектами, мы можем использовать типичные приемы когнитивной терапии, такие как сократический диалог и различные варианты диспута. Важно понимать, что мы не делаем это структурировано как в классической КПТ и тем более не вступаем в спор с клиентом в попытке доказать ему, что его убеждение не верно, если у нас нет предположения, что он на это согласиться. Такое позволительно в КПТ, поскольку в когнитивной терапии терапевт изначально заключает с клиентом контракт на возможность прямого оспаривания его убеждений. В нашем случае такое редко обговаривается заранее, поэтому при попытке применить прямое воздействие на убеждение путем оспаривания следует оговаривать дополнительным контрактом (заранее объяснять смысл интервенции).
– Конфронтация. Конфронтация, по сути, также является вариантом когнитивной реструктуризации, однако здесь мы делаем больший упор на отражение и указание на противоречия в поведении и речи клиента: «Ты пытаешься начать принимать значимые решения в жизни, но при этом требуешь совета у меня». Встреча с противоречиями также позволяет переосмыслить интроекты.
– Возвращение ответственности. Во многих случаях выявления интроекта или процесса интроекции, мы возвращаем ответственность клиенту с помощью вопросов о его личных предпочтениях: «Да, так принято, но как ты сам думаешь?», «А чего тебе хочется на самом деле?», «Это мама так сказала, а чего хочешь ты?».
– Осознание источника и переосмысление интроекта. Мы используем и отдельные техники для того, чтобы индивид мог понять, что интроект не является продуктом его собственного осмысления и воли, а представляет из себя некритически принятое постороннее внушение. Например, мы можем использовать различные техники регрессии («Когда ты говоришь, что ты – неудачник, скажи чьим голосом произносятся эти слова?», «Кто еще это говорил в твоей жизни?») или терапии частей («Какая часть тебя говорит это?»). Развитие этих техник позволяет понять неадекватность данных интроектов применительно к клиенту. Например, мы можем уточнить почему мама, давшая интроект «Надо работать без устали» считает именно так: потому что в ее время, если бы она не работала, то погибла бы вся ее семья, что не соответствует ситуации клиента, который может вообще не работать, живя на доходы с инвестиций. Такое прояснение помогает отделить мнение клиента, от мнения других людей.
– Возвращение интроекта. Вариантом предыдущей стратегии являются различные техники, связанные с возвратом интроекта. Например, интроект можно представить в виде образа и вернуть его человеку, от которого он был получен, либо вернуть его отправителю в диалоге с ним.
– Ценностное действие. В ряде случаев, особенно когда убеждения ригидны, мы можем сместить фокус внимания с проблемы на конкретное поведение (данный подход в терапии принятия и ответственности известен как «креативная безнадежность»). Идея сводится к принятию текущего состояния и переход к действию несмотря на него («Да, ты неудачник, но что ты будешь делать, в связи с этим: дальше лежать на кровати или проживать свою жизнь?», «Ты считаешь, что надо избавиться от тревоги перед тем, как перейти к действию, но давай представим, что она никогда не отступит, что ты будешь делать тогда?»).
– Эксперимент. В случае интроективного процесса мы можем выявлять наиболее болезненные точки клиента и устраивать ему экспозицию. Например, интроективный клиент часто боится, что мы его оценим как плохого, тогда мы можем прямо ему сказать: «Я оцениваю тебя как плохого клиента, и что дальше?». Обычно такое воздействие приводит к обесцениванию внешней оценки и укреплению в собственной позиции.
– Методы эмоциональной разрядки. Если мы имеем эмоционально заряженный интроект, например «Я неудачник и ненавижу себя за это», то здесь мы можем применять различные варианты эмоционального выплеска. Например, мы можем проводить диалог с самим собой в рамках терапии частей, где клиент сможет отыграть свой гнев, либо тоже самое возможно проделать в индивидуальном варианте; так, клиент, который верит, что «всегда будет один», может разрядить чувство своего одиночества в слезах. Обычно, если мы убираем эмоциональный заряд из интроекта, и он сам теряет свою значимость, даже если вера в него остается, что помогает делать дальнейшие шаги к реализации потребности.
Задача в переносе. Сформировать внутреннюю опору для принятия решений, в виде интериоризованного внутреннего объекта в лице поддерживающего терапевта.
Все эти стратегии реализуются через конкретные техники гештальт-терапии, и, как правило, работая и с другими прерываниями нам придется встречаться с интроектами, так как именно они образуют внутренний конфликт, который является основой для невротических расстройств. Все же процесс интроекции принципиально отличается от других прерываний и к нему также необходим свой собственный подход.