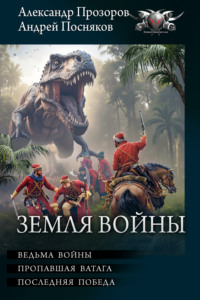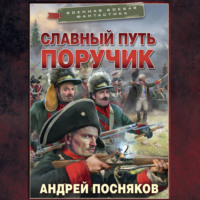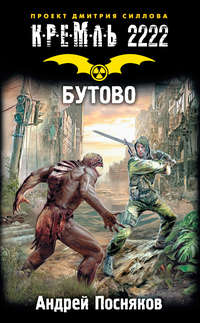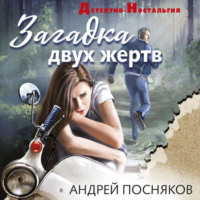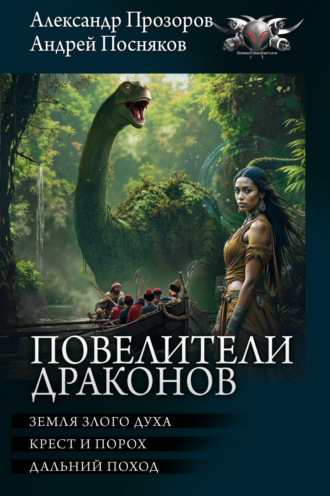
Полная версия
Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход
Шафиров поднял острогу:
– Есть, есть рыба-то! Сейчас… словим… Вот хоть этого сома… Смотри, какой огромный! Сейчас я его – в глаз. Оп!
Сказал и ударил…
И тут же, словно в кошмарном сне, взвилась из воды в воздух огромная змея толщиной с хорошую лиственницу, с окровавленной левой глазницею и со злобно ощеренной, усыпанной острыми зубами пастью! С узорчатой темно-зеленой кожи змеищи стекали, падали в реку тяжелые водяные капли.
Взвившись, змея ка-ак долбанула хвостищем, так что лодка сразу перевернулась, и вылетевшие из нее беглецы дружно поплыли к берегу, заклиная Иисуса Христа и Аллаха!
Господи, упаси от такой хищной змеюги!
Видать, Исфак все же молился хуже, или Аллах его недолюбливал – все может быть. Расправившись с лодкой, зверюга с жутким шипением набросилась на татарина, обвила его кольцами с такой злобной силою, что хрустнули кости, удушила, потащила вглубь…
Дрозд Карасев этого не видел – выбравшись на берег, бежал со всех ног, куда глядели глаза, не помня сам себя от только что пережитого страха. Река с ужасной змеею уже давно осталась далеко позади, а беглец все несся узкой звериной тропою, не обращая внимания на становившую все непрогляднее чащу, ни на пение птиц… ни на что.
Так и бежал, пока не споткнулся, зацепившись ногой за какой-то кривой корень… или это тоже была змея?
По возвращению отряда в острожек казаки первым делом устроили молебен – молились за упокой душ погибших и за здравие оставшихся в живых. Высокий, представительный, в небесно-голубой, расшитой золотыми нитками, ризе, отец Амвросий правил службу по всем канонам, хоть дело и происходило не в церкви, и не в часовне даже, а прямо на берегу реки, под высоким, недавно поставленным казаками крестом.
Пахло ладаном. Размахивая кадилом, священник нараспев читал молитвы, казаки, сняв шапки, крестились, а спасенный от ужасной смерти Афоня, гордый до невозможности, исполнял обязанности дьячка. Серые глаза парня лучились прямо-таки необыкновенной важностью и счастьем.
– Да святится имя твое-е-е, да приидет царствие твое-е-е… Аминь! Аминь! Аминь!
Благостно все проходило, эффектно: тусклыми студеными изумрудами зеленел на реке лед, снег на солнце блестел так, что больно глазам, с неудержимой властностью рвались к холодному светло-голубому небу кедры. Молились казаки. Крестились. Клали поклоны. Чуть в стороне так же молились девушки – сначала – за упокой погибших, потом – за удачу, а дальше уж каждая о своем: кто поминал родных да знакомых, кто просил здоровья и счастья, а кто-то – доброго парня в женихи.
Вот и Настя… Поклонилась, перекрестила лоб… скосила очи карие на атамана. И тот как раз в этот момент повернул голову, и взгляды их встретились…
Оба тут же смущенно опустили головы… потом – разом! – вскинули глаза… снова уперлись взглядами… и вдруг улыбнулись…
После молебна атаман созвал всех казаков на «большой круг» – собрание для принятия самых важных решений. Собрались рядом, на большой поляне – все, кроме, естественно, девок: не хватало еще баб на круг звать – не по старине то, не по чести! Что бабе на сурьезном соборе делать? Ее дело – деток здоровых кажный год рожать, да мужа ублажать, слушаться.
Еще сразу по возвращению Иван узнал от отца Амвросия о смерти Лютеня Кабакова и подлом, задуманном его дружками – Шафировым Исфаком и Дроздом Карасевым – деле. Хотели девок снасильничать, устроить «толоку», да вот не удалось, сволочам – девки сами над ними насилие учинили, да еще какое! Одного – стрелой убили, а двое других вынуждены были бежать. В леса подались, дурни – на свою гибель. Ну и черт с ними, поделом.
Большой круг по другому поводу собрали, вовсе не из-за этой подлой троицы. Нынешний старшой атаман Иван свет Егорович Еремеев поклонился низенько казакам да позвал собираться в поход.
– Земли там, козаче, теплые, льда на реке нет – красота плыть-то! Чего зря зимовать, порох да соль тратить? Идол златой отвоюем, порушим капища – и домой. Бог даст, уже к осени или зимой возвернемся. А буде кто похощет здесь остаться, хозяйствовать – милости прошу, землицы не жалко, на то у меня от Строгановых-купцов особая грамота есть! Ну? – Иван прищурил глаза. – Любо ли вам, казаки?
– Любо! – первым подбросил вверх шапку Михейко Ослоп, за ним – Василий Яросев, потом Чугреев, а там и другие подхватили:
– Любо, атамане, любо!
– И впрямь – чего тут зря сидеть?
– Идем! Идем походом!
Правда, нашлись и поосторожнее люди, типа Силантия:
– А верно ль, что вниз по реке льда нету?
– Да что я вам, врать буду, казаки? – обиделся Иван. – Вон, хоть у кого из моего отрядца спросите. Теплынь там, вам говорю. И река ото льда чистая.
– А далеко ль до тех мест?
– Да верст с полсотни будет.
– Многонько… Струги-то на себе придется волочь.
– Ничо, козаче, сволочим! На Камне-то, помните, как волокли? Вот так и здеся.
– Это полсотни-то верст?!
Подавляющим большинством голосов все же порешили – волочь! Правда не все десять стругов, а восемь или даже семь – казаков-то, увы, поубавилось.
– Главное, козаче, не столь струги, сколь пушки да пищалицы, да пороховое зелье, да ружейный припас. Дракона мы озерного видели – пришибли пулею. Думаю, там и другие такие драконы есть.
– Слыхали мы уже про дракона, атаман. Одначе мыслим – с пушками, да с пищалями никакие драконы нам не страшны!
– Тако и верно!
– В путь, в путь. Чего зря сидеть? Завтра же поволочем струги!
И снова подали голоса осторожные, из числа старых казаков, что еще стены Ревеля да Риги помнили:
– А ну как замерзнет и там река? Тогда что?
– Тогда зимовать будем… Или вернемся, струги с надежной сторожей до лета оставив.
– Ох, спаси Господи!
Кричали, шумели казаки, до хрипоты спорили – сколько отрядцев на смену друг другу готовить, кого – заместо погибших – десятниками, какие струги с собой брать, а какие – на слом… или просто здесь, у селенья, оставить?
– А на обратном пути – заберем!
– Верно, Кондратий, глаголишь! Чего зря суда разрушать?
Зубастые коркодилы, гнусные людоеды-менквы и товлынги с огромными бивнями никого не останавливали – на то пищали да пушки имеются! С любыми сладить можно. С самим Баторием воевали, с поляками, да со шведами, с литвой – все вояки знатные! А тут какие-то там полудохлые коркодилы – бояться настоящему казаку всякую озерную сволочь пристало ли? И, того паче, опасаться каких-то там диких людишек, к тому же непроходимо тупых, хоть и свирепых? Это после мадьярских-то «летучих» гусар? После татар крымских? После непобедимых солдат шведского воеводы дела Гарди, после ратников Стефана Батория, воинственного короля Польши и Литвы?
Смех один, да и только.
Так многие казаки и решили – еще бы, сами-то они ни коркодила, ни людоедов не видели – только слышали краем уха. А многие хотели бы и поподробней послушать – вот и девки… Ишь, любопытницы!
Сразу после круга зазвали атамана в свою землянку. Не одного зазвали – с немцем Гансом Штраубе, они вместе и шли – атаман и немец. Неспешно себе шли, о делах разговаривали, как вдруг глядь – тень какая-то от ворот наперерез метнулась – может, какой вражина? Так ведь откуда здесь вражины-то? Кругом все свои, других нету. Хотя… Лютень, да Дрозд, да Шафиров тоже поначалу своими казались – а вон оно вышло-то как!
Тень, выйдя из тени, поклонилась, промолвила тоненьким женским голосом:
– В гости бы к нам заглянул, атамане? И ты, герр Ганс, мимо не проходи.
Стрельнули из-под платка серые глазки.
– Ох, и кто же ты такая шустрая? – не признал в полутьме Иван.
– Авраама я. Так в гости-то зайдете? Мы уж и пирогов в очаге напекли… как уж вышли.
Еремеев задумался – кругом казаки шли, в жилища свои возвращались… а он, значит, к девкам сейчас пойдет. И добро бы был простой казак, а то атаман – неудобно как-то!
– Да пойдем! – Штраубе взял приятеля под локоть. – В кои-то веки фройляйн в гости зовут. Неужто откажем? Так доблестные кавалеры себя не ведут!
И уговорил ведь, хитрый черт! Правду сказать, недолго и пришлось уговаривать.
Махнул рукой атаман:
– Зайдем, чего уж. Раз уж пироги.
Ах, пироги-то как пахли – прямо как дома, из печи, с пылу, с жару! Постарались девы-то, что уж там говорить. Лучины свеженькой натесали, воткнули по всем углам – для свету, очажок для тепла стопили – в одних рубахах да сарафанах сидели, при виде гостей вскочили все, поклонились:
– Ах, гостюшки дорогие, долгожданные – добро пожаловать!
Усадили гостюшек на почетные – перед очагом – места, плеснули в кубки бражицы. Хорошие кубки, серебряные, такие же и блюда – все из Кашлыка прихвачено, зря, что ли, в полоне татарском томились?
– Ах, девушки, до чего же вы красивы! – подняв кубок, Штраубе галантно склонил голову, искоса поглядывая на статную светлоголовую Онисью… Онисью Никифоровну. – Вот за вашу красоту сейчас и выпьем. А, герр капитан? Э-э! – поглядев на стол, немец укоризненно поцокал языком. – А себе-то что не налили? Наливайте.
– Да пейте. Вы же гости.
– Найн, найн, так дело не пойдет, клянусь святой Бригитой. Позвольте-ка я сам налью. Оп-па! Да садитесь к столу же!
То ли случайно так получилось, то ли нарочно – а только оказался молодой атаман бок о бок с предметом своих воздыханий – кареглазой красавицей Настей. Уселся, голову повернул – даже смутился малость. А потом – как по три кубка выпили – вроде как и привык, не смущался боле. Да и не к лицу атаману смущаться какой-то там… Ой, не какой-то там! Иван лгать не любил, в том числе и себе самому, в отличие от многих прочих. Крепко запала ему на сердце кареглазая красавица Настена, кабы не поход, так давно бы заслал сватов… Ничего! До золотого идола только добраться, а уж там…
Ладонь Ивана словно бы невзначай легла на руку Насти… девушка не отпрянула, скосив глаза, улыбнулась. Заулыбался и Еремеев, еще ближе к девчонке придвинулся, чувствуя исходящее от нее тепло… от которого молодого атамана в жар бросало! Да и как не придвинуться-то – коли теснота? Землянка остяцкая, чай, не терем. Вот и немец Штраубе тоже придвинулся, да уж так, что совсем в угол Онисью затолкал.
А Иван, поставив опустевший кубок, обвел девушек неожиданно серьезным взглядом:
– Вот что, девы. На круге решили – дальше идти, без зимовки.
– Да мы знаем уже, – усмехнулась рыженькая Авраама. – Ждет-пождет нас путь-дорожка дальняя.
Атаман, шутки не приняв, потрогал на виске шрам:
– Я вот к чему говорю. Путь опасный, и что там, впереди – никто не ведает. Может – богатство да слава, а, может, и погибель. Вы бы, девы, с нами не шли, здесь бы остались.
– Одни?
Девчонки переглянулись.
– А вдруг нападет кто? – хмыкнула Авраама. – И что мы тогда – отобьемся? Лес-то – он только безлюдным кажется, окромя людоедов, там еще и вогуличи есть, и остяки – те, что за Кучума-царя воюют. Вы нас им, что ль, оставить хотите?
Еремеев не нашел, что и ответить – права была рыженькая, ох, как права! Так, скорее всего, и вышло бы – немирный таежный народец живо бы пронюхал о том, что на зимовье – одни девы остались. И чтоб их не взять? Ни сил, ни ума не надо. С другой стороны – тащить за собой девок – обуза, да еще какая.
Девушки снова переглянулись, зашептали что-то на ухо одна другой – гости в сие не вмешивались, ждали.
– Нет уж, казаки, – встав, выступила за всех Настя. – Уж вы нас с собой берите. Раз уж решили уже, потянули на север – так уж до конца идите. Вместе так вместе. Права Авраама, здесь мы без вас – добыча легкая. Да и мужиков бы с десяток оставить – тоже не долго бы осаду держали, не так?
Еремеев молча кивнул.
– Ну а раз так, так нечего и говорить боле! – В карих глазах девушки вспыхнули, загорелись упрямые золотистые искорки. – С вами мы пойдем. Да не думайте – обузой не будем. Мы, слава богу, не больные, сильные, с походом управимся, еще и в пути стряпать будем. Так, девы?
– Так, так, Настена. Верно! Не смотри, атаман, что мы бабы – повыносливее многих казаков будем.
– Да кто бы сомневался?! – с некой, смешанной с видимым облегчением обреченностью отмахнулся Иван. – Тут ведь дело не в том, выносливые вы или нет, а в том, что бабы! Девки вы неглупые, понимаете, о чем толкую…
– А тогда сразу не нужно было нас брать! А раз уж взяли – чего же теперь кидать? Не по-мужски это, не по-казачьи.
– Что ж, пусть так! – поднявшись на ноги, атаман вдруг улыбнулся открыто и весело, словно спал с его души какой-то тяжелый груз. – С нами так с нами – как решили, так и будет. Ну, что – брага-то осталась еще?
– Осталась, Иван свет Егорович, как не остаться? А ну-ко, Ганс, под лавку загляни…
Гости засиделись недолго, уходя, перецеловали всех – девы выглядели довольными, раскраснелись, не столько от бражицы, сколько от осознания того, что с ними – с бабами! – вдруг да посоветовались, что их голос спросили! Диво дивное, чудо чудное – не кто-то другой их судьбу решил – сами! И от того было девчонкам приятно… и как-то боязно.
Десять дней казаки тащили по берегу струги, спрямляя путь – река-то петляла изрядно – рубили просеки, несли суда на руках, как было уже и раньше, когда шли за Камень. Уставали изрядно, чего уж, к вечеру уже валились с ног все, не исключая и самого атамана. И так было приятно увидеть заранее разожженные девушками костры, на которых уже варилась сытная ушица, да кипел в котлах чай из морошковых листьев, что девы нарвали по пути! Да уж, обузой красавицы точно не стали – собирали хворост, готовили, били острогами рыбу, рубили лапник для шалашей и подстилки, ставили-разбивали шатры – уставали не меньше, чем мужики, однако виду не показывали – пели, смеялись, держались бодро.
– Ай да девки у нас, – хвалили казаки. – Вот таких-то бы нам и в жены.
Так говорили, однако думали-то совсем по-другому – и все девушки то понимали прекрасно: женитьба не такое простое дело, так и не бывает никогда, чтоб, какая понравилась, ту и под венец – не-ет! Брак – дело семейное, и главные тут люди – родители жениха и невесты, родниться-то семьям, что же касаемо подросших детей, то их мнения никто и нигде не спрашивал. А еще частенько так случалось, что муж намного старше был, а за женой обязательно давали приданое – чем богаче, чем лучше, – по приданому и честь, и почет. Что же касается бывших пленниц… Да, красивы, душевны, но неизвестно, какого роду – по сути-то безродные, семьям своим – если и живы кто – уже не нужны, вернувшимся из татарской неволи девкам одна – в монастырь – дороженька. Ведь все знали, все догадывались, что там с ними в плену делали, зачем брали. И кому нужна бесчестная жена, безродная бесприданница? Ну, пусть этих-то обесчестить не успели, если их же словам и верить, – но приданого-то никто не даст, да и породниться – с кем? А бог весть… ни с кем, наверное…
Одно дело – переспать, и совсем другое – жениться. Возьмешь такую в жены, а потом слухи пойдут всякие.
Девушки все знали прекрасно, вот и Авраама рыженькая, когда как-то вечером, у костра, кормщик Кольша Огнев с намеком завел разговор о женитьбе, прервала тут же, с гонором, пряча в уголках глаз злые слезы. Вскочила, уперев руки в бока, выкрикнула:
– Я – безродная! Бесчестная! Бесприданница! Ясно тебе? И нечего тут огород городить.
Сказала и убежала в шатер, упала на кошму, разревелась.
Другие девчонки утешать бросились:
– Ну, что ты, что ты, не плачь. Никому мы не нужны – знать, судьба такая.
Кольша Огнев, парень светлобородый, видный, с честной – нараспашку – душой, за ночь с лица спал, осунулся, да потом целый день работал истово, словно обет исполнял, самому Господу данный. А вечером, зайдя в атаманский шатер, бил челом:
– Прошу, господине Иван Егорович, не отказать – сватом быть!
– О, как – сватом! – вообще-то, Иван ничуть не удивился – давно чего-то подобного ждал.
Улыбнулся, переглянулся с отцом Амвросием:
– Сватом, говоришь? А не рано ли?
– Не рано! – сверкнул глазами казак. – Давно иссох весь, как Авраамку свою увидел. И она по мне… Так как же, атамане?
– Ты не у меня, – Иван развел руками, – у отца святого совета спрашивай… А, отче? Что скажешь?
– Что же, дело благое, – осанисто прогудел священник. – Но несвоевременное! Ты, Кольша, глазищами-то не сверкай, сам смекай – в поход идем дальний, опасный… Когда тут за свадьбу-то?
– Так это… на обратном пути!
– Угу… – отец Амвросий задумчиво почесал бороду. – Значит, ты о помолвке просишь?
Кормщик обрадованно улыбнулся:
– Ну да, о ней! Кольцо у меня есть – перстень богатый из града Сибирского, на всем круге готов невесте вручить!
– Э, не-ет, – погрозил пальцем отче. – На всем круге не надо. Зачем остальных смущать – и казаков, и девок? И те и другие завидовать зачнут с неизбежностью, и из зависти той много чего вырасти может. Тем более если вы так, на глазах у всех… я бы даже молвил – с вызовом.
– Но, святый отче… Я же… Она ж…
– Понимаем мы все, – Еремеев погладил шрам и задумался. – Ну, задал ты нам, Кольша, задачу. И так нехорошо, и эдак плохо выходит…
– Дак как же быть-то?
– Погоди… дай подумать. Да не маячь ты уже, сядь! Возьми вон сбитню. Морошковый лист – он от всякой хвори полезен… Только не от любовной, х-хе. Отче святый, – атаман повернул голову к священнику. – Вот ты скажи, о помолвке-то обязательно открыто объявлять? Всем?
– Ну-у, – отец Амвросий озадаченно прищурился. – Вообще-то так и положено, на то она и помолвка.
– Но у нас то случай особый… походный. Магометане вон в походах и вино пьют, и сало кушают, хотя в мирной-то жизни Аллах им это все запрещает.
– А ты откель про магометан-то знаешь? – ухмыльнулся святой отец.
Иван хмыкнул:
– Забыл? У меня же строгановский старшой приказчик, татарин Ясмак Терибеевич, в друзьях!
– Так он же крещеный! – резко возразил отче. – И не Ясмак, а Василий, в крещенье-то.
– Крещеный, не крещеный, а о магометанах много рассказывал.
– Он, Василий-то Терибеевич, вообще много чего знает.
– Это да-а! Мужчина умный… Ой! – вдруг опомнился атаман. – Чего мы о нем-то? Нам же с Кольшей нужно решать… Так вот, что я говорю-то – ничего, если мы о помолвке тайно объявим?
– Тайно?
Отец Амвросий и сам был ничуть не глупее строгановского старшого приказчика, прекрасно понял все, о чем сказал, а больше, о чем не сказал атаман, понятно все было – называется – и на елку влезть, и зад не оцарапать. И, видимо, нужно было на это пойти… пусть хоть так…
– Думаю, Господь против не будет. По любви ведь у вас, а, Кольша?
– Конечно, по любви, святый отче!
– Ладно, зови свою невесту… Но, смотрите у меня, чтоб до свадьбы не прелюбодействовали – ни-ни!
Ах, каким счастьем светились глаза рыженькой Авраамы! Как все торжественно было, пусть и кулуарно, в шатре. Священник торжественно прочел молитвы, причастил… а затем Кольша Огнев благоговейно надел на пальчик своей суженой золотой татарский перстень с непонятными письменами и зеленым светящимся камнем.
– Ну, вот, дети мои, – закончив, отец Амвросий обвел взглядом помолвленных. – Теперь вы друг с дружкой обетом связаны. Пусть чувства ваши испытанье вынесут, а уж потом, на обратном пути, Бог даст – дойдет и до сватов.
Священник повернул голову:
– Так я не понял, ты согласен ли в сваты, Иван свет Егорович? А вы, невесты-женихи, что сидите, глазами хлопаете? Упрашивайте!
Влюбленные разом повалились на колени:
– Господине…
– Да согласен, согласен, – пробурчал Еремеев. – Чего уж с вами поделать-то? Одначе в посаженые отцы кого-нибудь присмотрите, да и других… Впрочем, успеете.
Кольша и Авраама вышли из атаманского шатра, держась за руки. Остановились невдалеке от караульного костра, отошли чуть в сторону и долго целовались – крепко и сладко.
А в шатре, укладываясь спать, вздыхал о своей судьбе атаман. Вот бы и с Настей так – позвать в шатер, кольцо на палец надеть, о сватах да и пире свадебном подумать. Нельзя! Слухи-то все равно поползут, не без этого. Кольша – простой казак, хоть и кормщик, а он, Иван Еремеев – атаман, за всех и за всё в ответе. Нетерпенье свое выказывать – не пристало. Любовь – слабость, а вождь должен сильным быть, без всяких чувств, словно выкованным из стали! Только такого ратный люд уважать будет, и только такому – верить. Чуть расслабишься – не заметишь даже, как и уважение все пропадет, и вера. Разброд начнется, распад, не ватага уже станет, не боевая сотня, а просто сброд. И хотелось бы, конечно, как Авраамка и Кольша, да… Атаману нельзя быть слабым, нельзя чувства свои показывать, нельзя таким, как все, быть. Нельзя! Что дозволено простому воину, непозволительно командиру. Железным, стальным – не быть, так хотя бы казаться – обязательно, иначе никак.
День ото дня становилось все теплее, солнышко пригревало все жарче, в лесу на деревьях, словно весной, набухали почки, а кое-где уже начинала пробиваться молодая листва.
– Господи, это зимой-то! – дивились те, что не были с атаманом в разведке, казаки.
Те же, кто был, лишь ухмылялись – подождите, то ли еще будет! Еще насмотритесь много чего.
Лед на реке становился все тоньше, желтел и прямо на глазах таял. Отрываясь от припоя, уносились вниз по течению подтаявшие ноздреватые льдины, а к исходу десятого дня пути вода и вовсе очистилась, хотя и казалась еще студеною.
Ах, как обрадовались казаки. Ну, наконец-то! Даже и те, кто не очень-то верил – теперь убедились, что их атаман оказался прав! А ведь вроде бы обычный молодой парень… да нет, не обычный – решительный, волевой, уверенный, да и вообще – будто из стали!
Переночевав, торжественно, с молебном, спустили струги, погрузив на них артиллерию и все припасы, отчалили…
Господи! Хорошо-то как!
Хоть и невелики кораблики, а все же по воде плыть – это не пешком по лесам шарахаться, да еще на себе все припасы тащить. Освободившаяся ото льда река сделалась заметно шире, привольнее, по берегам зеленел лес – сосны, ели, осины, к ним добавились и кустарники – малина, смородина, ольха с вербою, плакучая, клонившаяся ветвями к самой воде, ива.
– Малина да черемуха зацветут скоро, – не могли надивиться, казалось бы, привычные ко всему воины. – Эдак и ягод скоро дождемся.
По пути ловили сетями рыбу – плотву, налима, щуку, бывало попадались и осетры, и форель, а как-то раз вытянули совсем уж неведомое чудо-юдо: небольшую, длиною примерно с локоть, рыбину в передней своей части покрывала не чешуя, а костяной панцирь, грудные же плавники чем-то напоминали весла.
– И что за рыба такая? – почесывая голову, недоумевал кормщик Кольша Огнев. – Словно ливонский рыцарь – в броне.
– Это панцирь у ея такой, как у черепахи, – отец Амвросий честно пытался хоть что-то объяснить. Не всегда получалось.
Особенно когда на середине реки казаки заметили, как взбурлила вода, да быстро ушло в глубину скользкое змеиное тело длиною саженей в пять!
– Это что же, тоже рыба?
– Скорей уж змей морской!
– Речной тогда уж.
– Ой, братцы, – с опаской поглядывая в воду, воскликнул Силантий Андреев. – Может, нам пушки да тюфяки зарядити?
Иван, услыхав его слова, улыбнулся:
– Понадобится – зарядим. А со змеями да драконами и пищалями сладим – ништо! Это же не василиски да не упыри, не нечисть лесная – от обычной пули дохнут.
– Ой, спаси Господи, братцы!!! – вытащив сеть, вдруг заголосил, отскочив в сторону Афоня-послушник. – А это-то кто еще? Ой… страшной какой! Зубастый!
Выловленный зверь, по мнению отца Амврозия, оказался очень похож на маленького – чуть побольше локтя, скорее даже – в сажень – «коркодила». С четырьмя перепончатыми, как у тритона, лапами, длинным хвостом и вытянутой, усеянной многочисленными зубами мордой, зверь оказался чрезвычайно подвижным и агрессивным – рассерженно бил хвостом, шипел, пытаясь выпутаться из сетки, а неосторожно приблизившемуся кормщику едва не откусил палец!
– Ох ты, ну и бес! – еле-еле успев отдернуть руку, Кольша пнул неведомую тварюгу ногою, сбросив обратно в реку.
– Не-е, – глубокомысленно заметил Афоня. – Ушицы с этакой страхолюдины не наваришь, точно.
– Ой, ой! – глянув на берег, вдруг заголосила Авраама, до того, как и все, заинтересованно рассматривавшая сброшенного со струга «беса». – Гляньте, там, за ракитою…
Вот уж то было чудо!!! Никогда казаки такого не видели, никогда!
По левому бережку, за ракитовым кустом, в полсотне шагов от неспешно проплывающих стругов, не обращая ни на кого внимания, словно выпущенная на луг корова, с аппетитом пожирала свежую травку здоровенная – сажени в полторы – ящерица с длинным хвостом и тупой ноздреватой мордой. На спине ящерицы громоздился оранжевый округлый гребень, величиной с парус струга, мощные лапы, чем-то похожие на куриные, заканчивались когтями.
– Ишь ты, коровища! – с восхищением рассматривали казаки. – Интересно, парус-то ей зачем? Неужто по реке заместо корабля плавает? Такая и струг перевернуть может.