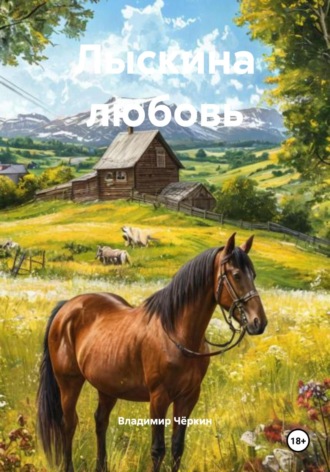
Полная версия
Лыскина любовь
Испуг заметался в глазах «зуботехника»:
– Нет, ни за какие коврижки к ней не подойду. Повторяю: помучается немного и так пройдёт. А если я сейчас к ней сунусь, эта стервоза и пришибить может до смерти. Век свободы не видать, но к ней я больше ни в зуб ногой. Тьфу ты, попался на язык мне этот зуб…
– Да она запросто может отомстить, они, лошади, злопамятны, – добавлял ему страху Семён.
– Да я ей даже на глаза не покажусь…
– А как же самогон, твоя доля? – спросил Семён.
– Бог с ней, тут не до жиру, быть бы живу.
Боль у Лыски действительно скоро прошла. Но теперь она ходила, блистая золотой фиксой на своём единственном зубе. Жена пеняла мужу в минуты его просветления:
– Ты, Николай, что, осатанел от своего первача? Над лошадью издеваться стал? Смотри, донесут, сядешь за это…
– Не посадят! Цыгане вон как лошадей бьют, и ничего им не бывает. А я ей, как человеку, коронку вставил.
Как-то попался им один «нелюбитель» до спиртного. Купил бутылку, хлеб. Пришли на берег. «Нелюбитель» поставил бутылку, положил на газету хлеб, а Лыска тут как тут, встала на дыбы и на задних ногах к нему. Он со всех ног от неё. Мужики так и грохнули, помахав ему вслед рукой. «Добычу» поделили на троих, как всегда.
На другой день встретили «нелюбителя» – сидел в одиночестве, хмурый. Подошли.
– Ты что убежал? Выпить расхотел?
– Как будто вы не знаете? Не видели, что ваша кобыла вытворяла…
– Да, Лыска у нас такая, своего не упустит. Ты убежал, а она бутылку в копыта, голову задрала – буль-буль… Мы даже не успели отнять. Она головой махнула, – бутылка через неё. Задними ногами как поддаст её вверх! Повернулась, на грудь её приняла, толканула и коленками, как заправский футболист, сыграла по очереди то одной, то другой. Потом опять подкинула, повернулась и как брыкнет её обоими копытами – бутылка в кусты. От радости она так и захлопала в ладоши, – фантазировал уже похмелившийся Николай.
– Какие ладоши, у неё же копыта? – недоуменно перебил его «нелюбитель».
– Так я и говорю, что копытами захлопала.
– Ох и врать вы, ребята, мастера! Сами бутылку, небось, буль-буль – и в кусты. Как хотите, но за бутылку заплатите.
– Ладно! – согласились друзья. – С получки отдадим.
Дальше больше. И вот уже один мужик рассказывал в изрядном подпитии:
– Пришёл я на берег с бутылкой. Купил на свои кровные, хотел выпить. А кобылица тут как тут. На дыбы – и на меня. Копыта, что жернова мельничные, зубы все в золоте, солнцем горят, того и гляди пламя изо рта вылетит, как у Змея Горыныча. Ну я, понятно, так шуганул от неё, что пятки в зад впивались. Она за мной – вот-вот догонит! Взмолился я: Царица небесная, спаси и сохрани! Видать, она и отвела меня от погибели. Отстала эта пьяница от меня. А я ведь не верил, что она отнимает водку у людей. Теперь же на себе всё испытал, вот вам крест, ежели не верите…
Весть эта быстро разлетелась по селу. Николай с Семёном как-то хотели занять у одного сельчанина на выпивку. Но тот, наливая воды в радиатор трактора, посоветовал:
– Вы вот что, мужики! Вы к продавцу сходите с ней, со своей весёлой лошадкой, смекаете?..
Они, глянув друг на друга, даже рты раскрыли.
– Ё-моё, как это мы сразу не догадались? – воскликнул Семён.
С этих пор они стали хозяевами села. Отправляясь куда-нибудь, обязательно брали с собой лошадь. Особенно часто наведывались к продавцу павильона, где всегда собирались любители хватануть кружку-другую пива или чего-нибудь покрепче. Лыска, завидев толпу, прижимала грозно уши к голове, визжала. Все бросались врассыпную.
Хозяин-продавец высовывался в окошко:
– Я буду жаловаться участковому!
– Ну и жалуйся. Мы что, хулиганили? Лошадь пьяных не любит, а мы-то здесь причём?
– Вы с ней ходите!
– Ладно, давай сговоримся: пол-литра отступного, что-нибудь на закусон – и мы исчезнем.
Хозяин, скрепя сердце, выносил им всё, что они просили. Друзья угощались сами, не забывая угощать и свою лошадь, которая стала для них чем-то вроде «золотой рыбки».
– Хороша у нас лошадка – и охраняет, и водярой благодаря ей обеспечены. Вот женщин бы ещё нам приводила… – мечтательно улыбаясь, фантазировал Семён, лёжа на траве.
– А жёны как же? – иронично спрашивал Николай.
– Так она же бессловесная, не продаст нас, – парировал Семён и радостно смеялся.
– Ну ты не очень-то заносись, – урезонивал его Николай, – надо довольствоваться малым: водочку за счёт неё добываем, и то ладно.
А проснувшись с похмелья, брели с Лыской опять к павильону. Продавец однажды не выдержал, пожаловался участковому. Тот вызвал их к себе:
– Когда кончите дурака валять? За это ведь можно под хулиганскую статью подвести. А если трактуют как вымогательство, то небо вам в крупную клетку покажется.
– А мы что, мы ничего… Лошади эта пьянь не нравится, и всё тут. Она скотина безмозглая, ей что втемяшится в голову, то и выкидывает, – морщась, оправдывались они.
– Вы мне тут голову не морочьте! – прикрикивал участковый, платочком вытирая лоб, вспотевший от напряжения. – Если лошадь психически ненормальная, отведите её к психиатру или невропатологу…
– Ветврачей вроде бы и нет таких.
– Тогда на колбасу её сдайте.
– Так она стара, одни жилы. Кто её есть-то будет?
– Тогда я вот возьму и пристрелю её. А вы на скотомогильник отопрёте…
– Не имеете права. Лошадь – это частная собственность. И потом, что плохого, если она порядок на селе поддерживает? Не любит она, когда попусту лясы точат. Лошадь, а понимает, что работать надо, а не лясы точить.
Не найдя больше аргументов, участковый выпроводил мужиков. А сам подумал: «A-а, Бог с ней. Пусть живёт. Плохого ведь никому не делает. А что гоняет пьяненьких, то мне это даже на руку…»
На радостях друзья гульнули хорошо. В этот раз солнце сильно палило, спать в кустах стало жарко. Они стали расползаться, в прямом смысле этого слова, ища прохладное место. Николай забрался в сарай, на сеновал. Семён решил устроиться возле его стенки, где стояла старая заброшенная койка с панцирной сеткой. Плюхнулся на неё и уже стал засыпать, да мухи проклятые одолели. По пьянке плохо соображая, решил снять рубаху, укрыв ей лицо, руки, живот. Уснул мертвяком на туго натянутой сетке.
Спали долго. Проснулся Николай от поросячьего визга, решил: сосед свинью приканчивает. Сидел и ждал, когда кончится этот жуткий визг. Но он продолжался. «Эх, резаки, ёлки-палки! Не могут дело как следует сделать. Руки таким бы резакам оторвать!» Вышел из сарая и оторопел. Ибо это была не свинья. Визжал человек. Николай кинулся за сарай и увидел: Лыска мчалась к Волге, на другой конец мыса. А визжал по-свинячьи Семён, махая кулаками и ногами, не в силах оторвать спину от койки. Увидев Николая, он, кривясь от боли, заорал:
– Дурак, зачем меня к койке приклеил? Я не могу подняться… Спина болит, мочи нету…
– Зачем мне тебя приклеивать? Что мне, делов больше нету?
– Тогда что же это со мной случилось? – простонал он.
Николай присел возле койки на колени. Заглянул под неё и ахнул – грузное тело Семена словно продавилось в ячеи сетки, как тесто.
– Да ты, как студень, протёк сквозь сетку! – прыснув, ляпнул Николай.
Лицо Семёна стало белым.
– Помоги! – заорал он.
– Сейчас, я сейчас!
Николай лёг на спину и протиснулся под койку. Затем стал пальцем заталкивать вспучившиеся подушечки тела Семёна обратно в клетки сетки. Каждая такая попытка мучительно отзывалась в теле страдальца.
– Ой, ой! – стонал он.
А под койкой заходился в хохоте Николай.
Полчаса примерно был словно под пыткой Семён. Наконец, освобождённый из плена сетки, он, кряхтя, уселся на койке.
– Ты хуже фашиста, – упрекнул он своего друга. – Не мог поосторожней это сделать, потихонечку?
– Это как же? Наоборот, надо было взять оглоблю, да по брюху тебя, – мигом бы вскочил!
– И то лучше, – согласился Семен, – чем такие пытки терпеть.
Николай помог ему встать. Домой Семён пришел на несгибающихся ногах. Приведший его Николай, зная нрав жены Семёна, во двор не пошёл. Она сама появилась на крыльце, чернее тучи.
– Припёрся, кот блудливый? Мало тебе водки, так ещё и по вдовушкам, видать, целую ночь протаскался? Вот и ступай к ним, не нужен ты мне…
– Да какая там вдовушка? Посмотри! – Снял он рубашку и повернулся спиной к жене.
Та ахнула.
– Это кто же так тебя исполосовал?
– Это от панцирной сетки спина так разлинована…
– Сейчас я, сейчас! – кинулась она ему помогать.
Осторожно ввела в дом. Кинулась готовить соляной раствор, тараторила:
– Надысь я эдак молотком себе по руке ударила, так рука возьми да и вспухни. Я её соляным раствором промывала, и опухоль сошла…
Она полила ему спину раствором, укрыла полотенцем. Стало полегче. Потом навела ещё содовый раствор и легонько, платочком, водила по вспухшей спине мужа. Стало ещё легче. От забот и ласки жены Семён расчувствовался. Поймал её руку, притянул к себе и, превозмогая боль, стал целовать.
– Что ты меня целуешь, как девочку? – чувствуя зовущую истому в теле, слабея, проговорила она. – И сама стала ласкать его.
Потом, лёжа рядом с ним, она недоумевала:
– И как это тебя угораздило?
– Как, как… От мух на сетке спасался, а она мне впилась в спину, будто сверху кто придавил…
– Ты как тот цыган, что бреднем от дождя укрывался. Так и ты – сеткой от мух.
И они закатились счастливым смехом.
А жена Николая тем временем всё-таки решила эти пьяные дела разрулить. Как-то в близлежащий город приехал цирк. В представлении участвовала и группа дрессированных лошадей. Узнав об этом, жена Николая с соседкой, женой Семёна, тайком от мужей купили билеты в цирк. О чём они говорили там с дрессировщиком, неизвестно, только кто-то слышал, как на выходе тот наставлял их:
– Бром надо применять, если беситься будет, и перчика красного добавить побольше…
Вернувшись домой, жена Николая стала подманивать кобылу:
– Лыска, Лыска! – звала она. – Подойди ко мне…
Но лошадь, сложив уши, с визгом убегала от неё. Потом женщина догадалась накрошить в ведро хлеб, смоченный самогоном. И лошадь сдалась – подошла, уткнулась мордой в ведро и жадно стала есть. Давно она не ела с таким аппетитом и так много. Когда она окончила, женщина хотела её погладить, но Лыска, мотнув головой, откинула мордой пустое ведро и побежала поспать к своим дружкам-приятелям. Проснулась уже к вечеру – вокруг никого не было. Делать нечего, поплелась домой.
Утром вновь пришла жена Николая с ведром, полным еды. Лыска поела и побежала к водопою. Попила и пошла искать своих приятелей. Они спали под кустами. Лыска подбежала к ним, призывно заржала. Проснулся Семён, глянул на неё и пьяно пробормотал:
– Опоздала, у нас ничего нет, – и снова уснул.
Лошадь понюхала бутылку, из неё пахло тем, к чему её так тянуло. Она заржала от нетерпения получить эту огненную влагу. Но люди спали. Она топнула ногой – никто не проснулся. Тогда Лыска побежала к шинку, где сидели двое выпивох и пили пиво. Завидев летевшую к ним во весь опор лошадь, те, наученные горьким опытом, кинулись наутёк. Лыска по ступенькам проскакала к столам. В кружках был так называемый «ёрш»: смесь водки с пивом. Она сунулась мордой в кружку, повалив её. Содержимое потекло в тазик, который на полу оставил хозяин павильона, когда мыл полы. Лыска – ко второму бокалу. И он разлился по столу, замочив воблу с хлебом. Лошадь жадно схватила хлеб, пропитанный «ершом». Воблу подобрала собака-дворняга, которая постоянно ошивалась здесь. Доев хлеб, Лыска ткнулась мордой в тазик. Выпив всё до дна, она захмелела. Покачиваясь, сошла с веранды и улеглась тут же, у павильона. Рядом пристроилась собака. Во сне Лыска радостно ржала, ей снилось что-то приятное. Собралась любопытная толпа. Пришла Оля, жена Николая, надела на голову кобылы узду, дёрнув за неё, подняла её и повела, покачивающуюся, к своему двору, оставив в одиночестве воющую собаку. Там она привязала её к телеге для исполнения своего замысла.
К вечеру Лыска проснулась. Ей захотелось пить, и она заржала. Вышла Оля с ведром воды. Напоив лошадь, женщина вернулась в дом, где уже была готова лента магнитофона, наговоренная голосом её мужа. Целых три дня ей пришлось помучиться, прежде чем удалось сымитировать голос Николая. Соседка Нина, глядя на неё, смехом изошла:
– Ты, Оля, теперь можешь на сцене выступать, пародировать голоса известных артистов и политиков. Люди посмеются, а тебе денежку дадут детишкам на молочишко.
– Если надо, я, чтоб своего мужа поставить на путь истинный, хоть в президенты готова баллотироваться…
Смех смехом, но голос мужа она воспроизвела довольно точно. Теперь, приведя лошадь, она вынесла магнитофон и поставила его на крышу сарая. Потом принесла Лыске хлеб, обильно смоченный самогоном. Когда лошадь стала есть, она, забравшись на сарай, щёлкнула кнопкой магнитофона.
– Хочешь хлебца? Ешь, Лыска, ешь, – прозвучал оттуда столь знакомый Лыске голос Николая.
И она ела, тщательно пережёвывая хлеб, пока не почувствовала, как что-то неимоверно жгучее опалило ей губы, язык, обожгло весь рот. Она мотала головой, ржала, но боль не проходила. Она была похожа на ту, когда однажды кузнец скруткой захватил её верхнюю губу и крутил до тех пор, пока свет не померк в её глазах. Когда ковка копыт была окончена, скрутку ослабили и к ней постепенно вернулось сознание. Она била ногой, пытаясь очистить что-то лишнее, прилипшее к копытам, но оно никак не отставало. Потом она привыкла к своим отяжелевшим копытам и даже находила в этом удовольствие, ибо теперь на склизе и на льду ноги не разъезжались. И даже на асфальте не стирала себе копыта до крови, как раньше. Всё это она прошла. Но та боль была связана с кузнецом, сейчас же кругом никого не было. Только из чёрного ящика на крыше доносился звучавший теперь издевательски голос её друга Николая: «Хочешь хлебца?»
Лыска кинулась со двора со всех ног. Остудив её морду, ветер снизил боль. Она бегала до изнеможения по ветру, пока ноги не подкосились от усталости. Она легла, вздрагивая от боли. Когда она утихла, Лыска встала и пошла к дому. Подойдя к нему, словно очнулась. Ведь ей сделали больно именно в этом дворе! Остановилась, не решаясь зайти во двор. Только заржала. Вышла Ольга.
– Ох ты моя красавица, пришла! Сейчас, я сейчас!
Она вернулась в дом и вынесла хлеб. Лошадь потянулась к нему, раздавила мягкими дёснами и, подрагивая, начала есть, чувствуя запах самогона. И тут же через несколько секунд ей снова что-то жгучее опалило рот. Боль была настолько сильной, что она готова была даже к тому, чтоб ей оторвали губы, лишь бы избавиться от неё. А с крыши сарая вновь зазвучал голос её друга Николая: «Хочешь хлебца?» И тут ей стала понятна какая-то связь между этим ласковым голосом и невыносимой болью во рту. Она вновь умчалась со двора, оттопыривая губы. Голос Николая стал преследовать её везде: на улице, в кустах, на выступе, возле конюшни, – всюду, куда хитроумная Ольга переносила свой магнитофон.
И Лыска возненавидела и этот голос, и эти слова. Достаточно было кому-нибудь сказать ей: «Хочешь хлебца?», как она прижимала уши и, визжа, кидалась на человека. И тот в страхе бежал от неё. Дразнить её окончательно прекратили, когда один здоровенный парень предложил ей хлеб, сказав те страшные для неё слова. Вне себя, Лыска схватила его за волосы и так трепанула, что вырвала клок. Парень еле ноги унёс. Зато Ольга вместо хлеба стала давать ей конфеты. Выходила, ласковая, и, раздавив карамельку, чтобы пахла яблоками, говорила:
– На конфетку.
Видя, что это не хлеб, Лыска тянулась к ней, подымала губу, сверкая фиксой, что приводило в восторг женщину.
Прошло время. Как-то ехали домой Лыскины приятели, в дороге переговаривались:
– Сейчас приедем, клюнем. Наша лошадка, поди, уже ждёт нас.
Приехали к обеду – и сразу в магазин, а оттуда на берег. Увидела их Лыска, радостно заржала. Друзья тоже от радости готовы были обнять её. Сели возле Волги, лошадь рядом. Налили в стаканы. Николай отломил краюху хлеба, полил из бутылки:
– Хочешь хлебца?
И тут случилось нечто неожиданное. Кобыла прижала уши, схватила его за кепку на голове и сильно дёрнула. Хорошо, что Николай был в кепке, а то бы часть волос осталась у неё во рту. Все испуганно вскочили.
– Ах ты сволочь! К тебе с добром, а ты что делаешь?
Николай кинулся в кусты, схватил там доску. Замахнулся. А Лыска на задних ногах к нему, быстро перебирая передними копытами. Друзья струхнули не на шутку и понеслись, как орловские рысаки, стелющей рысью, запрокинув головы. Через двухметровый забор даже не заметили, как перемахнули. Не сбавляя скорости, залетели в сарай. Лыска за ними, бьёт задними ногами по двери. Мужики мигом подпёрли дверь, торопливо вставили засов. Но дверь была старая, еле висела на петлях. После сильного удара передними копытами она сорвалась с петель. Мужики врассыпную. Прибежали домой, чуть живые от страха.
– И что это с ней? На старости лет ума лишилась? – тяжело дыша, прохрипел Семён.
– Наверное, к какому-нибудь алкашу полезла, а тот шандарахнул ей по голове, вот она и взбесилась…
Тут вышла из дома Ольга, торжествующая, весёлая. Увидев подбежавшую Лыску, нежно так, ласково произнесла:
– Конфетку хочешь?
Лошадь приоткрыла губы, словно в улыбке, сверкнула «золотым зубом», взяв конфету. Мужики переглянулись.
– Вот что, мужики, отдыхать будете на Волге вместе с нами. Теперь лошадь наш защитник. Вы согласны? – спросила Ольга с видом превосходства над ними.
– Да, согласны, – дружно отозвались они.
С тех пор люди угощали Лыску только конфетами. И наступили для неё сладкие времена.
ВЕДОМЫЙ СТРАХОМ…
Я сидел в купе поезда и читал повесть Пушкина «Выстрел». Напротив немолодой человек пил чай из стоявшего на столике термоса.
– Отец, присоединился бы ты ко мне, вдвоём веселее. Пушкина всё зубришь, – сказал он, заглянув в книгу. – «Выстрел»?
Я положил книгу на стол.
– Да, а что?
– Так вещь себе ничего, но один изъян есть.
– Какой?
– Как вы думаете, сможете вы стоять под пистолетом и есть, с полным равнодушием к своей молодой жизни?
Он встал, открыл окно. Был он сухопарый, чисто выбрит. Глаза серые чистые, прямой нос.
– Природка… – пробормотал он, веселея лицом.
– А причём здесь стоять и есть?
– Притом, что я воевал. Когда бьёт пулемет, шкура на спине будто отстаёт, холодный пот ручьём бежит по хребтине. И ни о чём не думаешь. Порой даже забываешь, что у тебя есть сапёрная лопатка, – пальцами роешь землю, лишь бы зарыться в неё, спрятаться. А я человек не робкого десятка. Так что наврал ваш Пушкин. Надо было ему написать, что ел, но был бледен, как полотно.
Он открыл сумку, достал яйца, шмат сала, хлеб. Выложил всё это на белый платок.
– Давай поедим, а то ведь чай – не еда, – сказал он, указав мне глазами на разложенную снедь.
– Я не голодный.
– Наши великие писатели не испытывали страха смерти на себе. Потому так и писали, – продолжал он.
– Ошибаетесь. Все они были под пулями и погибли от них.
– Но писали неверно. Взять хоть бы Лермонтова. Перед дуэлью его Печорин говорит в «Герое нашего времени»: «Я не помню утра более свежего и прекрасного». Да если человек идёт на смерть, он не думает о ней, о природе, – он разволновался, сел на своё место, руки его тряслись. – Гнусь всё это: война, смерть…
Он встал, достал пачку сигарет:
– Пойду траванусь, – но тут же раздумал, сунул сигарету в карман. – Хотя в минуты порыва чего только человек не сделает… Я служил недалеко от Баку. На аэродроме, в автороте. Хвосты самолётам заносил, как говорили у нас. Часть наша состояла из лётного полка и его обслуги. Хоть мы только обслуживали его, но всё-таки носили голубые погоны и в душе считали себя птичками небесными. Познакомившись с людьми, плохо знавшими нашу службу, хвастались, что летаем, прыгаем с парашютом. Сам я, правда, прыгал со спецвышки, которая у нас была в части. Залезаешь на неё, надеваешь амуницию и прыгаешь. Ролик катится по тросу вниз – и ты приземляешься. Но это было после карантина, где я познакомился с одним мальчиком.
Заприметил его в первый же день приезда. Был он худ, голубоглаз, с тонкой шеей и белокурыми волосами. Помнится, выйдя из казармы, я увидел огромный самолёт, поднимавшийся со взлётной полосы располагавшегося поблизости аэродрома. На него, разинув рот, смотрел девочка-мальчик в мешковато сидевшей солдатской форме. По-видимому, он впервые видел так близко самолёт. Ну, как не подковырнуть такого простака, над которым сам Бог велел посмеяться? Я подошёл к нему и рукой поднял его отвисшую челюсть, закрыв ему рот. Он повернулся ко мне и спросил:
– Чего это он так дымит?
– Солому сырую в топку заложили, – сказал я, улыбаясь.
– Лодыри! – неожиданно воскликнул он.
– Кто? – не поняв, спросил его я.
– А энти, которые полетели.
– Почему?
– Потому что у нас в Сибири в лесу, если сырые чурочки заложишь в топку машины, мой батя за это мог и выпороть…
Тогда я ещё не знал, что существуют газогенераторные машины, которые работают на топливе, получаемом от сгорания дров. Подумал, что этот простак тоже умеет подковыривать. Как бы там ни было, но я его зауважал, протянул руку и представился:
– Виктор.
– Ванюша, – ответил он, пожав мои пальцы.
Мы с ним сразу сдружились. Человек он был безотказный. Что ни попроси, – сделает. После принятия присяги мы в первый раз пошли в увольнение. Кстати, в Баку тогда продавали вино, как сейчас говорят, по отпущенным ценам. Если у тебя денег не хватит на бутылочку неплохого виноградного вина, его так дадут. Но, если переплатишь, сдачи не дождёшься. Конечно, солдаты пользовались этим и, как правило, недоплачивали. При этом, если шли в увольнение человек пять, то каждый брал бутылку по очереди в разных киосках. Таким образом мы экономили на сигареты. Так вот, выпив и завеселев, мы пошли поглазеть на Девичью башню, что стояла на берегу Каспийского моря, и, может, даже представить себе красавицу-девушку в окне, которая, по преданию, бросилась в море с высоты башни, в которую её запер то ли отец, то ли муж, точно не помню. Башня была высокая, круглая, грубо сложенная из камней. Мы глазели вверх, на окно, и дух легенды захватил меня. Я живо представил, что ей пришлось пережить, прежде чем она решилась на такое.
– Врут всё. Оттуда не прыгнешь – страшно, – недоверчиво протянул Ванюша.
– Ну почему же? Решится человек и прыгнет. Да вот доказательство того, что может сделать человек, если захочет, – возразил я и указал на парашютную вышку, которая стояла неподалеку, упираясь верхом в редкие облака.
– Кто прыг нет? – спросил Ванюша.
– Я это сделаю, – пробормотал я, хотя в душе не был в этом уверен.
– И я рискну, – подхватил он.
Разгорячённые вином и полные желанием испытать себя, мы направились к вышке. Я первый полез наверх, за мной друг.
– Постой! – закричал он мне, когда мы поднялись метров на десять. – Я не полезу.
Я остановился, глянул на него и сам испугался. Он весь побелел, вцепившись руками в поручни лестницы и прилипнув грудью к ступенькам.
– Я не могу, у меня кружится голова. Наверное, у меня болезнь – боязнь высоты, – смотрел он на меня расширенными глазами.
– Зачем ты тогда согласился лезть и прыгать?
– Я думал, что смогу.
– Тогда спускайся.
– Не могу один, помоги…
– Ребята нас засмеют. Не смотри вниз, смотри вверх и спускайся, нащупывая ногами ступеньку.
– Не могу, не могу…
– Спускайся, парашютист грёбаный! На нас уже смотрят, – грубо крикнул я. – Тут низко, упадёшь – не разобьешься…
Я видел, как он дрожащей ногой стал нашаривать ступеньку, тянулся к ней носком ботинка, но руки от стояка оторвать не мог.
– Чёрт! – с досадой сказал я.
Спустился, стал сзади него, обхватил одной рукой его за талию, а другой держась за стойку, повторяя ему спокойно: «Я с тобой», спустил его вниз. Ребята подняли нас на смех.
– Что, струсили? Это вам не с учебной вышки прыгать по тросу каната…
Их смех задел меня. Я решил им доказать, кто есть кто, и снова полез по лестнице на вышку. Дошёл до половины, метров двадцать пять, глянул вниз и от страха прижался грудью к ступенькам лестницы. Мать моя женщина! У меня начала кружиться голова, стало сухо во рту, хмель быстро улетучился. Внизу, запрокинув головы и поддерживая рукой шапки, чтоб они не упали с головы, смотрели на меня ребята.
– Смотри, даже не шевелится, оцепенел от страха! – хохотали они.
Наверху это было хорошо слышно. «Нет, смеяться надо мной ещё рано», – пробормотал я. Стиснув зубы и прижимаясь плотнее к лестнице, полез вверх. Но настоящую почувствовал опасность, когда буквально вполз в полу-трубовидный туннель лестницы, которая в этом месте изменила форму, чтоб человек не упал. К стойкам лестницы были приварены полукольца, и ты как бы ползёшь вверх по полутрубе, сделанной из прутьев металла. Наконец, моя голова показалась в полукруге отверстия площадки. Первое, что мне бросилось в глаза, – ребристый металлический пол. К нему приварены решётчатые ограждения, метра полтора в высоту, и дверца. Ограждения сделаны добротно. Прутки вварены на полметра от края и с укосинами к краям площадки. Я с большим усилием втащил на неё своё тело. Стоял на одной коленке, но не мог подняться, так как мне показалось, что площадка так сильно качается, что, стоит мне только оторваться от пола, она сбросит меня, как норовистый конь. Я боялся даже голову поднять.











