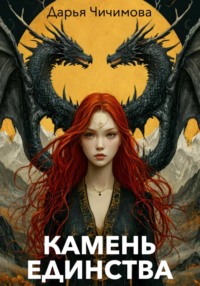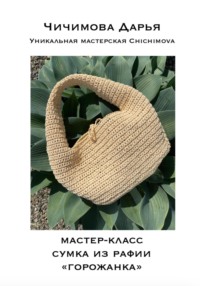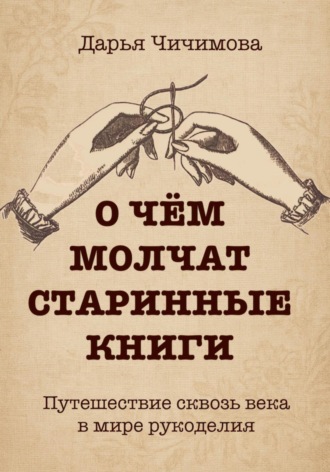
Полная версия
О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия
В своих книгах Эмилия подробно описывала технику «вышивки по счёту», которая позволяла даже начинающим мастерицам создавать сложные геометрические узоры. Она разработала систему условных обозначений для схем вышивки, которая значительно упростила процесс обучения и стала стандартом в последующих учебниках по рукоделию.
Особое место в её работах занимали австрийские народные орнаменты. Эмилия собирала и систематизировала традиционные узоры разных регионов страны, создавая своеобразную энциклопедию национального искусства. Её коллекция включала более 500 уникальных образцов, каждый из которых был тщательно задокументирован и адаптирован для современного исполнения.
Под её руководством ученицы создавали настоящие шедевры: от изящных скатертей с цветочными мотивами до сложных панно с историческими сценами. Каждое изделие было не просто украшением – оно рассказывало историю, передавало традиции и демонстрировало высочайший уровень мастерства.
Эмилия Бах также внесла значительный вклад в развитие техники «вышивки крестом». Она усовершенствовала методику нанесения рисунка на ткань, разработала новые способы закрепления нитей и создала серию учебных пособий, которые помогали начинающим мастерицам освоить эту технику от простых узоров до сложных композиций.
Её школа стала настоящим храмом искусства вышивки, где каждая ученица могла найти свой путь: одни специализировались на тонкой вышивке бисером, другие осваивали монументальные работы в технике «шпалерного шитья», третьи углублялись в искусство создания авторских вышитых картин.
Нет данных о том, сколько было у Эмилии и Генри детей, но известно, что в последние годы жизни она работала вместе с дочерью. Одним из самых впечатляющих проектов стала реставрация исторических гобеленов Хофбурга. Эмилия разработала уникальную методику восстановления старинных узоров, сочетая традиционные техники с современными на тот момент материалами. Её методика включала тщательный анализ сохранившихся фрагментов, воссоздание оригинальных красителей и подбор подходящих нитей. Также они работали над реставрацией кровати императрицы Марии Терезии – невероятное произведение рукодельного искусства.
За свои достижения Эмилия Бах была награждена Золотым крестом «За заслуги» с короной.
После нескольких месяцев болезни у неё случился сердечный приступ, ей было всего 50 лет. Она ушла слишком рано, но её дело продолжилось.
Эмилия Бах не просто учила вышивать. Она изменила отношение к рукоделию. Благодаря ей женщины получили шанс на независимость. Благодаря её книгам старинные узоры сохранились. Благодаря её школе вышивка перестала быть забытым ремеслом.
***
Настоящее время
Я смотрю на экран ноутбука. Белый лист. Курсор мигает, словно насмешливо подмигивает мне: «Ну что, скажешь что-нибудь?».
Но я не могу. Руки висят плетьми, спина ноет, голова пустая. Зачем я вообще всё это делаю? Кому интересна история вязания?
Мир меняется так быстро, что мои исследования кажутся нелепыми. Люди хотят простых решений: модных узоров, быстрых схем, лайфхаков, которые можно освоить за пять минут. Им нужна польза. Конкретная, измеримая, практическая.
А я копаюсь в архивных документах. Читаю письма женщин, которые умерли больше века назад. Разбираю старые книги, изучаю дореформенную орфографию, вглядываюсь в пожелтевшие страницы, пытаясь понять, кто их написал. Зачем?
Я открываю телефон и листаю комментарии в блоге.
«Спасибо за схемы, они классные!»
«Сделайте обзор на новую пряжу, очень интересно!»
«А что сейчас в тренде? Хочу что-то модное»
Никаких вопросов про историю. Никаких обсуждений старых книг.
Я вспоминаю, как несколько недель назад выложила пост о Терезе де Дильмон. Рассказала о начале её жизни, о том, как она пошла против системы. О том, что её книга – это не просто сборник узоров, а вызов обществу. Пост собрал в два раза меньше лайков, чем обычно. Меньше репостов. Меньше комментариев. Моё сердце тогда сжалось. И сейчас оно сжимается снова.
В голове шумит. Я устала. От всего. От поисков, от сомнений, от ощущения, что я иду в никуда. Мне нужно вернуться к привычному. К простым статьям, к энциклопедии. К тому, что востребовано. Ведь энциклопедию ждут.
Снова сажусь за ноутбук. Открываю файл с черновиками. Перечитываю список тем.
«Виды вязальных спиц»
«Как правильно выбрать пряжу»
«Популярные техники вязания»
Хорошие, полезные темы. Их будут читать. Я делаю глубокий вдох. Ставлю пальцы на клавиатуру. И понимаю, что не могу. Слова не идут. Мысли скачут. Вижу перед глазами Терезу, её аккуратные рисунки, её книгу, которая изменила мир рукоделия. Снова думаю о женщине, которая пошла против семьи, общества, норм.
Она тоже сомневалась? Тоже хотела бросить всё? Я тру руками лицо, ощущаю усталость каждой клеточкой тела. Я не Тереза, не первооткрывательница. Я просто человек, который любит рукоделие и хочет рассказывать об этом. Наверно, иногда этого достаточно.
Охота за книгами
Это было похоже на лавину.
Стоило заинтересоваться первым русским изданием по рукоделию, как книги начали попадаться мне на глаза снова и снова. Утром я проснулась с чувством, что вот он – новый день, новый шанс вернуться к привычной жизни, сфокусироваться на чём-то более практичном. Может, дописать статью для блога, разобрать материалы для энциклопедии. Но стоило сесть за стол, открыть ноутбук, как всё покатилось в знакомом направлении.
Чашка чая стояла рядом, но я забыла о ней почти сразу. Вкладки одна за другой заполняли экран. Объявления о продаже книг, архивные статьи, форумы коллекционеров. Я даже не заметила, как оказалась втянутой в настоящий книжный квест.
Сначала я наткнулась на объявление о продаже четырёх частей «Полной энциклопедии женских рукоделий». Это было удачей – обычно такие книги продаются по одной, и собрать полный комплект непросто. Почему? Потому что тиражи у разных частей были разными!
Кто-то явно решил, что вышивка заслуживает большего количества экземпляров, чем вязание или кружевоплетение. Гениальное решение (нет). Но так делали и позже, и даже сейчас такое практикуют издатели. Только в наше время разные тиражи делают у разных книг одной серии, а здесь, в прошлом, одну книгу просто разделили на части и напечатали их в разных количествах.
Представьте, что одну историю решили выпустить в четырёх томах, но первую книгу напечатали в миллионном тираже, а четвёртую – всего в десяти тысячах экземпляров. Сможете потом собрать всю историю воедино? Вот и здесь та же проблема.
Тем не менее мне повезло: передо мной был полный комплект. Я быстро оформила заказ, ощутив приятное волнение от удачной находки.
Но на этом не остановилась.
Вскоре я наткнулась на ещё одну серию «Полной энциклопедии женских рукоделий» – на этот раз из семи частей. Но в продаже было только пять. Опять обрывочная информация. Опять разрозненные части. И опять меня тянуло во всё это с какой-то необъяснимой настойчивостью.
Чем больше я искала, тем больше меня сбивало с толку. Разные годы издания, разные названия, разные издатели. Первая часть семитомника вышла в 1990 году, вторая и третья – в 1991, четвёртая и пятая – в 1992. А где остальные? Почему их так сложно найти?
Я поймала себя на том, что уже не просто листаю сайты, а веду записи. В тетради, которая изначально предназначалась для планов на день, появились столбцы с годами издания, названиями книг и номерами частей. У этих изданий была необычная деталь – первая книга была на современном русском языке, а все остальные на дореволюционном.
Из предисловия ко второму изданию:
…Первый выпуск вышел в 1990 году и вызвал широкий интерес.
По многочисленным просьбам наших читательниц мы решили, начиная со второго выпуска, повторять русское издание, сохраняя шрифт, рисунки, текст, одним словом, колорит книги в первозданном виде.
Потом я наткнулась на ещё одну книгу. «Курс женских рукоделий. Вязание на спицах и крючком». Год издания – 2016. Сначала мне показалось, что это просто современный переизданный вариант, но стоило открыть ее, как я поняла: здесь всё не так.
Во-первых, книга была в твёрдой обложке. Это уже говорило о том, что издатели вложились в её выпуск больше, чем обычно вкладываются в узко профильные издания.
Во-вторых, она снова была частью серии. Четыре книги. Разделение информации, похожее на то, что я уже встречала. Но больше всего меня удивило содержание. Я бегло просмотрела текст и фотографии. Первая реакция была: что это вообще такое? На одной странице – исторические снимки, старинные иллюстрации с изящными схемами вязания. На другой – ярнбомбинг.
Если вы не в теме, поясню: это когда предметы на улицах обвязывают разноцветными нитками. Статуи в свитерах, велосипеды с кружевными узорами, лавочки в мягких чехлах.
Контраст был резким. Открываешь книгу – ждёшь чего-то традиционного, строгого. А тут бац – и прямо посреди раздела о вязании крестообразных столбиков крючком появляется фотография дерева, обёрнутого в вязаный комбинезон. На других страницах репродукции картин, на которых изображены вяжущие люди, работы современных мастериц. Я не могла понять: это серьёзное издание или какая-то шутка?
Я продолжала искать.
Книг с названием «Полная энциклопедия женских рукоделий» и «Курс женских рукоделий» было слишком много. Некоторые явно были переводами с французского. Некоторые утверждали, что являются оригинальными русскими изданиями. Я просмотрела десятки книг. Некоторые были очень похожи друг на друга. Некоторые отличались кардинально.
Но одно меня поразило больше всего. Во всей этой книжной путанице имя Терезы де Дильмон ни разу не встречалось. Как такое возможно?
Я начала вспоминать всё, что читала о книгоиздании XIX века. Авторское право тогда работало иначе. Бывали случаи, когда издатели брали один текст, чуть-чуть его меняли – и публиковали вновь. А ещё были книги, которые просто перерабатывали на местный лад, стирая с них следы первоисточника. Неужели это случилось и с книгой Терезы? Неужели её труд стал частью русской книжной истории, но уже без её имени? Эта мысль меня потрясла.
Сколько ещё таких историй спрятано в книгах, которые мы читаем? Сколько ещё женщин, которые посвятили жизнь своему делу, остались безымянными и забытыми? Я откинулась на спинку стула и посмотрела на экран ноутбука. Книг было намного, намного больше, чем я думала. Закрыла глаза, и начала воображать…
Париж, 1878 год
Толпа текла мимо, как живой поток, в котором растворялись ароматы дорогого табака, чернил и пряных духов. Женщины в шёлковых платьях с турнюрами, мужчины во фраках и цилиндрах, с тросточками и золотыми цепочками от часов, медленно прогуливались между павильонами, с интересом изучая экспонаты. Парижская Всемирная выставка обещала открыть всему миру новое искусство, новые идеи, новые технологии.
Но Терезе де Дильмон было не до этого.
Она стояла у витрины со своими вышивками, чувствуя, как по спине ползёт капля пота. Длинный корсетный лиф её платья был затянут слишком туго, а от жары кружилась голова. Но нельзя было позволить себе расслабиться.
Её работы – крошечные крестики, филигранные узоры, едва заметные глазу мельчайшие стежки – сейчас находились под пристальными взглядами. Французские дамы, замедляя шаг, замирали перед изысканными салфетками и занавесками, мужчины скупыми кивками одобряли скатерти с монограммами, а знатоки переговаривались друг с другом, оценивая технику.
И вот один из них – высокий, худощавый мужчина в светлом костюме с орденом Почётного легиона на груди – задержался дольше остальных. Он долго разглядывал вышивки, а затем неожиданно обратился к ней:
– Кто создал эти узоры?
Тереза выпрямилась.
– Я.
– Вы? – мужчина приподнял бровь. В его голосе не было недоверия, скорее – лёгкое удивление.
Она кивнула.
– Я создаю свои узоры, исследую старинные техники, разрабатываю новые.
Он внимательно посмотрел на неё, словно оценивая не только слова, но и саму её с головы до ног.
– Это мастерство, – наконец сказал он. – Вы знакомы с DMC?
DMC. Dollfus-Mieg et Compagnie.
Эльзасская текстильная компания, известная своими нитями. Тереза слышала о них – но, разумеется, никогда не думала, что окажется с ними хоть в какой-то связи.
– Я знакома с их продукцией, – осторожно ответила она.
Мужчина кивнул.
– Меня зовут Жан Дольфюс-Миг. Я представляю DMC. Ваше искусство… – он на мгновение задумался, подбирая слова, – потрясающее. У вас есть талант. Но талант без возможностей – это пустая трата времени.
Тереза нахмурилась.
– Вы хотите купить мои работы?
– Я хочу предложить вам нечто лучшее. Работу. В Дорнахе.
Она не сразу согласилась.
Франция была чужой страной.
Вена – её дом, там её школа, её семья и, что самое важное, сестра Франциска. Они вместе открыли академию вышивки, их труды ценились, их ученицы выходили в мир с новыми знаниями.
Но в предложении Дольфюса было что-то завораживающее.
– Ваша работа достойна большего, – убеждал он. – Вы могли бы создавать больше узоров, обучать лучших мастериц, а главное – писать.
– Писать? – переспросила она.
Он кивнул.
– Энциклопедию.
Она уехала не сразу.
Ей понадобилось шесть лет, чтобы принять решение.
Шесть лет преподавания, попыток совместить страсть к вышивке и желание сохранить независимость.
Но Дольфюс-Миг не сдавался. Он знал: Тереза – ключ к тому, чтобы сделать DMC не просто фабрикой по производству нитей, а центром мировой вышивки.
26 октября 1884 года она подписала контракт. И навсегда покинула Вену.
Дорнах встретил её запахом хлопка и краски. Фабрика DMC шумела, в цехах гудели машины, рабочие в фартуках двигались, как единый механизм.
Но Тереза не была простой ткачихой.
Её работа не заключалась в том, чтобы сидеть в цехе.
Дольфюс-Миг выделил для неё отдельное здание – настоящую школу рукоделия, где лучшие мастерицы Франции и Германии изучали старинные техники вышивки.
Она преподавала, разрабатывала узоры, а по вечерам, когда в школе стихали шаги, садилась за свой главный труд. Она писала о вышивке, как писатель пишет о любви. Всё – от истории кружев до современных трендов, от старинных орнаментов до новых техник. Но самое главное – она использовала не только свои знания.
«Курс женских рукоделий». Первый тираж. «Вестник моды»
Антикварный магазин в центре Челябинска встретил меня запахом старой бумаги и пыли. Здесь пахло смесью времени, памяти и чего-то неуловимого, что чувствуется только в книгах, которые пережили века.
Тишина.
Только скрип половиц, когда я прошла вдоль высоких полок, заваленных книгами в кожаных, картонных и матерчатых переплётах. Здесь были и учебники, и справочники, и молитвенники, и пожелтевшие от времени журналы.
Антиквар, худощавый мужчина лет шестидесяти с тонкими усами и вечным выражением лёгкой скуки на лице, сидел за прилавком и читал газету.
– Здравствуйте, у вас есть старые издания по рукоделию, редкие журналы начала XX века с уроками вышивки, книги по текстилю? – спросила я, подходя к нему.
Он поднял глаза от газеты, отложил её в сторону и медленно кивнул.
– Есть кое-что любопытное. Только пришло. Дайте минуту.
Я затаила дыхание. Он исчез в подсобке, оставив меня среди книжных полок и стеклянных витрин с монетами и различными фигурками. В тот момент я чувствовала волнение. Вдруг он вынесет именно ту книгу, которую я так долго искала?
А потом он вернулся.
– «Курс женских рукоделий», 1887 год. Первый тираж.
Взяла её осторожно, словно могла ненароком испортить, если сожму слишком сильно. Книга была тяжёлой, с потёртым переплётом, когда-то, наверное, ярко-красным, а теперь выцветшим до бледно-розового. Тиснение почти стёрлось, а на обложке виднелся большой след от стакана. Кто-то за долгую жизнь книги с ней обращался небрежно.
Осторожно перелистнула несколько страниц. Тонкая, чуть шершаватая бумага. Строгий шрифт, дореформенный русский язык. Иллюстрации – чёрно-белые, выведенные с точностью, которая напомнила мне гравюры на старинных тканях.
Я погрузилась в текст, даже не слыша, как антиквар кашлянул, прежде чем снова заговорить.
– Вы знаете, что было два издания?
Я оторвала взгляд от страниц.
– В смысле?
Он пожал плечами и сунул руки в карманы.
– Было два разных издания этой книги. Оба называются «Курс женских рукоделий», оба вышли в одном и том же году.
Я смотрела на него, чувствуя, как у меня закружилась голова.
– Но как такое возможно?
Он усмехнулся.
– Вот это вам и предстоит выяснить.
Я сидела за столиком в кафе напротив антикварного магазина и листала старую книгу. Почему в 1887 году вышли одновременно два разных издания? Была ли одна версия пиратской версией? Или, может, издатели поспорили между собой и оба выпустили книгу?
Или же…
Я внезапно поняла, что это может быть частью куда более сложной истории. Если было два издания, значит, одно из них могло быть изменённым. Что, если во втором варианте книги были какие-то дополнения, которых не было в этом? Или, наоборот, что-то вырезали?
Теперь мне нужно было достать вторую версию книги 1887 года на русском языке.
Но оставался вопрос – кто написал те книги, что становились основой для переводов и адаптаций? Как эта информация терялась в лабиринтах времени?
Тайны авторских прав в Российской Империи
Помимо поиска книг меня интересовал главный вопрос. Неужели закона об авторском праве не существовало? Стало понятно, что первой была опубликована книга Терезы де Дильмон. На это указывали не только даты публикации (во Франции книга вышла в 1886 году, в Российской Империи в 1887 году), но и оформление книг. Во французском экземпляре имелись 17 полноцветных иллюстраций, которые защищены калькой. Это сделано для того, чтобы обезопасить иллюстрацию от чернил, и наоборот. В нашей книге все рисунки были черно-белые. Но и содержание, и рисунки были идентичными. Как такое могло быть? Почему в нашем варианте нет ни слова о Терезе де Дильмон, ни о переводе с французского?
Я сидела в архиве, окружённая стопками пожелтевших страниц, папками и толстыми томами юридических документов XIX века. За окнами моросил дождь, лениво стуча по подоконнику. Архив был тёплым, пыльным и почти безмолвным, если не считать шороха бумаги и приглушённого постукивания клавиатуры, когда кто-то из исследователей делал заметки.
Передо мной лежала толстая книга: «Полное собрание законов Российской Империи». Я медленно перевернула страницу. Авторское право. Эта тема давно вертелась у меня в голове, но до сегодняшнего дня я не осознавала всей глубины проблемы.
Тогда, в XIX веке, законодательство в области авторских прав предоставляло писателям уникальную возможность беспрепятственно использовать материалы, опубликованные в различных периодических изданиях. Этот правовой механизм фактически давал зеленый свет для творческого заимствования и адаптации опубликованных текстов, что значительно обогащало литературный процесс и способствовало созданию новых произведений на основе уже существующих материалов прессы.
В те времена система международного авторского права была весьма запутанной. Россия не всегда присоединялась к международным соглашениям по защите авторских прав, что создавало определенные правовые лазейки.
Издатели того времени использовали несколько способов для публикации материалов, защищенных авторским правом. Наиболее законным был путь получения официальных разрешений на перевод и публикацию иностранных материалов. Однако часто прибегали к использованию так называемых «серых зон» законодательства.
Одним из распространенных методов была переработка материала – его адаптация под местные условия. Также активно публиковались переводы произведений, перешедших в общественное достояние. Нередко издания выходили без официального разрешения правообладателей.
Издатели имели возможность получать лицензии на публикацию, использовать произведения французских авторов после истечения срока охраны авторских прав или публиковать переводы с других языков, где права могли быть менее защищены. Существовала также практика параллельного импорта: оригинальные издания покупались за границей, переиздавались на территории России и продавались без нарушения местных законов.
В случае возникновения споров судебные разбирательства были редким явлением – доказательство авторских прав представляло собой сложную задачу. Международные споры обычно решались дипломатическим путем. Все это позволяло российским изданиям активно обмениваться материалами с иностранными коллегами, несмотря на существующие правовые ограничения.
Издатели также пользовались принципом «свободного использования». До 1904 года в России не было строгих законов об охране авторских прав на промышленные образцы и дизайн.
Я закрыла глаза, прислонилась спиной к жёсткому стулу и глубоко вздохнула. Теперь всё стало очевидным.
В XIX веке книги были не только источником знаний, но и своеобразным бизнес-инструментом. Тогда можно было взять текст из французского журнала, адаптировать его, напечатать, и никто не спросил бы: «А кто настоящий автор?».
Была еще одна важная особенность, благодаря которой российские издания могли публиковать материалы зарубежных коллег – ценность открытий.
Конец XIX века стал эпохой беспрецедентного технологического прогресса. Это было время, когда научные открытия и изобретения следовали одно за другим, кардинально меняя облик мира.
Дмитрий Иванович Менделеев, создав в 1869 году периодическую систему химических элементов, не стал скрывать свое открытие, а сразу опубликовал его в журнале Русского химического общества. Более того, он не только описал закономерности, но и предсказал существование еще не открытых элементов, что впоследствии блестяще подтвердилось.
В 1876 году Александр Белл запатентовал телефон, но активно способствовал его распространению по всему миру. В России первый телефонный разговор состоялся уже в 1879 году.
Томас Эдисон, получивший более 1000 патентов, создал первую промышленную исследовательскую лабораторию в Менло-Парке. Его изобретения – электрическая лампочка, фонограф, система электроснабжения – стали достоянием всего человечества.
В России система патентования активно развивалась: если в 1872 году было выдано 325 патентов, то к 1900 году их количество выросло до 1200 в год. Особенно много изобретений относилось к металлургической и химической промышленности.
Научные журналы того времени публиковали тысячи статей ежегодно. Например, «Записки Русского технического общества» выходили ежемесячно и содержали описания новых изобретений, технологических процессов и научных открытий.
Международное научное сотрудничество достигло небывалых высот. Учёные свободно делились результатами исследований, участвовали в международных конгрессах, публиковались в зарубежных изданиях. Эта эпоха заложила фундамент современной системы обмена знаниями. Появились первые научные журналы с импакт-фактором (7), международные конференции стали регулярными, а защита интеллектуальной собственности получила законодательное закрепление во многих странах мира.
К концу XIX века сформировалась новая культура научного общения, где публикация результатов исследований считалась не просто желательной, а обязательной. Поэтому в то время было распространенной практикой делиться информацией на безвозмездной основе, особенно в области литературы и науки, где обмен знаниями считался важным для развития культуры и образования.
И благодаря этой лазейке книга в 1887 году в Российской Империи вышла без указания имени Терезы де Дильмон. Мастерицы, которые были упомянуты в предисловии отечественного издания помогали в создании книги на русском языке. Они уточняли перевод, чтобы термины были правильными и процесс был понятно описан. Они создавали ту самую адаптацию, которая не была дословным копированием, чтобы книга увидела свет.
Теперь стало ясно, почему я находила одни и те же узоры в книгах совершенно разных авторов. Почему в немецких и французских сборниках конца XIX века встречались одинаковые схемы вышивки. Почему можно было найти рисунки, явно заимствованные из болгарских или турецких текстильных традиций, но без указания их происхождения.