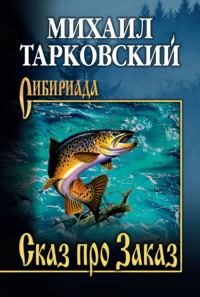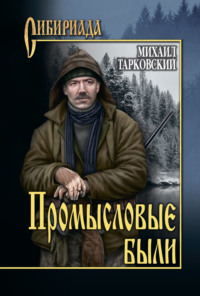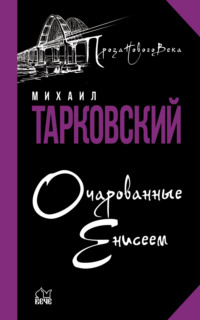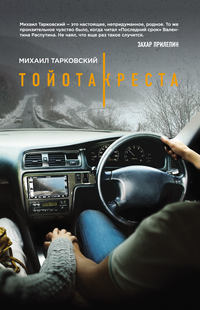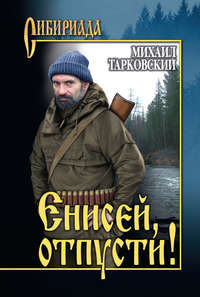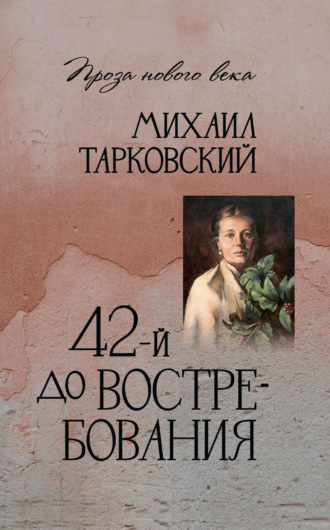
Полная версия
42-й до востребования
Дома я всё не мог заснуть: громоздились созвездия, и налетала лыжня, множась на копии и бесчисленно сходясь-расходясь.
С ночи засыпал медленный и мелкий тягучий снежок. Я, будучи на пике своей лыжной эры, ободрённый снежком, умягчавшим мой спуск, с утра отправился через Кинешму на гору. Всё тонуло в сероватой пелене, городские звуки словно подбило ватой, а фигуры казались обобщённо-чёрными. И на одной улочке вдруг с внезапным грохотом съехала плита снега с крыши.
Даль, подъём, сосняк тонули в туманчике, снежной крапчатой сыпи. Появилась издали чёрная фигура, она приблизилась, и я различил мешок за плечами. Владимир Ильич в мешке нёс гармошку:
– Пошли голоса искать!
В низине даже под свежим снежком всё было истоптано и изъеложено, и снежок пушисто повторял рисунок. Ильич вытащил гармошку, аккуратно разложил мешок и положил на него гармонь, причём не на середину, а ближе к краю, чтоб осталась свободная часть, которой он прикрыл «струмент». И принялся за дело. На корточках, а то и на коленях медленно снимал снежный пух, вёл терпеливую вскрышу, убирая пудру с окаменелой пропечатки вчерашних поисков. Потом и её, твёрдую, принялся прощупывать, вгрызаясь красными пальцами и меж них просеивая. Я как мог помогал ему, а он приговоривал: «Не затопчи, главное, не затопчи… Должны найти… Грят, и иголку в стогу сена находят… Ведь сидит где-то и над нами смеётся».
Я попробовал чистый снег в стороне от вчерашней копанины, и какова была моя радость, когда, веерно возя рукавицей, я вдруг нашёл металлический блестящий предметик, пластиночку с двумя прорезями, похожую на длинную пряжечку. На последних проходах руки она засинела сквозь пористый снежок. Не веря глазам, я убрал снег. Голос лежал, холодно поблёскивая. Рассеянный свет неба горел на нём ровно и сдержанно, и, казалось, сама музыка, как серебро, пролилась на зимнюю землю и застыла зеркальцем на выстывшем дне оврага.
Ильич тоже вдруг нашёл голос, потом ещё один. Лицо его сияло… «Никуда не денутся…» – сказал он весело и сдунул снежок с последнего голоса.
Ильич откинул мешковину, как полость, достал из кармана монетку и отвинтил резную крышку. Странно было видеть шкатулочную бездонность гармошки на фоне оврага, серых кустов, падающего снега. Аккуратно, как рамку с сотами, он вытащил колодку с щербинами недостающих голосов.
Голоса приклеиваются на нагретый воск с добавкой канифоли. Всё было мёрзлое, и я хоть и ничего не понимал в гармошечном деле, но был уверен, что обрадованный Ильич, убедившись, что все голоса найдены, приберёт их до дома. И было наладился из оврага, но Ильич, не глядя на меня, буркнул загадочно-тихо: «Да подожди ты» – и засунул колодку с голосами за пазуху под пальто, а голоса стал греть дыханием.
Потом достал колодку и положил на мешковину. Пошарил по карманам, зажёг спичку и поднёс к голосу. Блестящее зеркальце мутно взялось копотью, Ильич додержал быстро чернеющую спичку, лоскуток пламени подошёл под пальцы, и он не отпустил, пока спичка не сгорела полностью. Потом разжал пальцы, и она чёрная, худюще кривенькая, упала на снег. Расстегнув пальто, он протёр голос углом рубахи и, поставив на место, прижал. Потом так же прогрел, протёр и поставил второй и третий голоса. Пробормотал, кряхтя и очень тихо, с придыханием: «Пока так… На холодную…» Потом аккуратно взял колодку меж ладоней и, наружу вывернув локти, погрузил её в гармошкино чрево, а на последнем движении, напряжённо взглянув на небо, кивком отметил, что пришлась по месту: «Зато сыграем… на горячую…» И подмигнул: «Да, Михась?»
А мне не верилось, что она заиграет. Но Ильич сработал мехами, и гармошка запела. «Подсачивает», – покривился Ильич, глаза которого неуправляемо сияли. Медленнее и крупнее пошёл снег. «Пошли…» – грозно и чуть дрогнув голосом сказал Ильич и, заиграв, начал медленно, в такт снегу, подниматься в гору. Играл он ту самую кантатную мелодию, которая так мне запомнилась в тот вечер у тёти Гали. Что-то близкое к «Зимней дороге» Свиридова, которая теперь окончательно встала на место.
Ильич так и ушёл под музыку в снежный просвет. Пришла бабушка с проверкой округи – и потерянных голосов, и меня, и погоды. Перестал снег, и мутно пробилось солнышко. На его фоне тёмно гляделись остатки снежной крошки, с разворотом летящие из поднебесья. Под ногами всё рельефней проступали лыжные следы. Я съезжал с горы с громким воем. Бабушка спросила, зачем я вою, и я сказал, что «для грандиозности».
5Когда я подрос, бабушка устроила нам поездку до Астрахани туда и обратно на трёхпалубном и точно астраханском пароходе. Поход начался в конце мая и длился в оба конца дней двадцать.
Бабушка писала: «На улице солнце, но ветер. Холодно. Ночью несколько раз ходила смотреть шлюзы. Соловьи пели со всех сторон. Сейчас берега интересные, а потом будет очень широко и скучно. Денег хватит. Проедаем не больше 3 р. в день, а то и меньше – порции огромные. Мишка изучил весь пароход и пока больше ничего не делает. Вечером в 7 часов 30-го будем в Кинешме».
А я писал в письме школьному другу Ваське: «Сперва мы 12 часов плыли по каналу. Пожалуй, самое интересное было шлюзы. Мы подплываем ко вторым воротам, тем временем первые ворота закрываются за нами. Мы пришвартовываемся к таким штукам на рельсах в стене. Воду спускают, и мы с этими штуками опускаемся до нужного уровня. Здесь полно чаек, сизая и серебристая. Видел даже крачку. Сейчас на Волге ветер – барашки… Проехали шлюзы. Бабушка дала читать „Годунова“. Письмо отправлю в Угличе».
Храмы, монастыри, памятники казались моими личными заметами, чем-то обычным и должным, и потом только выяснялось, насколько каждая из них единственна и общеизвестна. Запоминалось всё порой в запутанном порядке: знаменитую и многострадальную церковь в Бармине за Нижним я запомнил, будто она чуть ли не на въезде в Волгу. Увидев силуэт церкви с колокольней, я спросил про неё у высокой пожилой женщины с девичьим каким-то пучочком. Она гуляла по палубе и необыкновенно охотно ответила: «Это Бармино», причём тоном, как у бабушки, – когда названием всё объясняется. Меня удивило, что она мгновенно назвала первую попавшуюся церковь, и было непонятно: то ли она всю Волгу так знает, то ли одно это место.
Следующим впечатлением была калязинская затопленная колокольня, стоявшая средь вод мрачно и чуть косо. Дул ветер, и её низ был сумрачно и сыро захлёстан волной.
Дальше был Углич с храмом Димитрия на Крови. Потом помню Кинешму.
Опершись на деревянный брус, я часами простаивал у ограждения палубы в компании молодого ещё человека, казавшегося мне матёрейшим дядей. Он недавно закончил речное училище, и я его мучил судовыми и речными вопросами, на которые он отвечал негромко и наставнически подробно. Я спросил, почему на нашем теплоходе две трубы, и он ответил, что одна настоящая, а другая «фальшивая», сделанная для вида. Говорили мы и про Кинешму, и про площадь, на которую мне обязательно надо попасть… Когда пришли и начали швартоваться, речник негромко сказал: «Ну, иди, иди. Посмотри на свою Кинешму».
Дальше был Горький, который бабушка звала Нижним. В Нижнем я проснулся от странной музыки, хорового пения, льющегося мелодично, ритмично, с медными подголосками. Оказалось, работает земснаряд, а мы стоим на рейде напротив города. В Нижнем бабушка стремилась в два места: к монастырю и в музей Пешкова. Алёша Пешков нравился ей своей мальчишеской тягой к книге. И она повторяла торжественно: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди». Звучало это и мне в упрёк – мол, у тебя-то, слава Богу, до этого не доходит, так что знай, как бывает! И цени. Музейный домишко выглядел домашне – с деревянным, низеньким подворьем.
Потом был Волгоград с Мамаевым курганом, который мы подробно осмотрели весь, хотя, кроме фигуры Родины-матери и стен-руин, я ничего не запомнил. Чебоксары привиделись мне выше Волгограда и запомнились благодаря зеркально-золотистому значку, купленному бабушкой у пристани. Я собирал значки, которых накопилось с горсть, но этот мне нравился особо. Золотистый фон, коричневые буквы, а сам зеркальный, и когда под небом – с отдачей в синеву. Зеркальная грань с небесной поволокой меня манила, и казалось, что главные Чебоксары – там.
Кругом все окали, и я тоже начал окать, имея врождённую чувствительность к говорам, в которые погружался с головой и которые, воротясь в Москву, берёг в пику столичности.
На пароходе, добавляясь и сменяясь, ехали дети. Царило слоняние по салонам и палубам, выбирание какого-нибудь матроса-кумира и хождение за ним по пятам. В салонах обязательные шашки, в которые я настропалился играть и с такой скоростью обставил глухонемого молодого дядьку, что тот порывисто сгрёб шашки и ушёл. Был он чёрный, усатый и с густой чёрной щетиной.
Была ещё занозистая черноглазая девчонка с хвостиком. Как-то мы, бегая, потерялись с моим товарищем, и она, сползая вниз по поручню трапа и нависая надо мной, выпалила, окая: «Иди, он на третьей палубе, твой соперник!»
Чем ближе к Астрахани, чем больше боялась бабушка холеры и мучила мытьём рук. В Волгограде зазвучал гхакающий говорок, который я немедленно и не в первый раз перенял и, гуляя по Астрахани, говорил бабушке, как здесь много «гхорлиц». Матово-бежевые кольчатые горлицы с тёмной рисочкой на шейке бегали, семеня, под акациями, по раскалённому асфальту. Жёлтый песочный свет был разлит над городом.
На обратном пути был вал на огромном Куйбышевском море. Пароход покачивало, и эту небольшую, но настоящую и первую в жизни качку я и изо всех сил выщупывал, сливаясь с палубой, и будто участвовал в ней, всем телом добавляя размаха. Второе посещение Кинешмы в памяти не отложилось. Зато команды «Отдать швартовы!» и торжественное «Прощание Славянки» на каждом отходе от пристани стали привычно-родными. Так же, как и кормление чаек с кормы, и бесконечные разговоры у поручня с моим другом-речником: про города и пароходы, из которых мне больше всего нравились колёсные: «Станюкович», «Писемский».
Хорошо легли на душу и волжские города – привычно родным стало устройство: набережная, площадь, торговые ряды, монастырь. Хотя музейное, монументальное, историческое до меня не особо доходило и больше запоминалось ближнее, людское.
Ехал благочестивый бородатый дед с подростком послушнического вида, худощавым, узколицым и веснушчатым. Бабушка говорила, что дед, видимо, священник. Обедавший с нами полковник скалозубского обличья назвал деда «поповатым», а бабушка обиделась.
Был ещё парнишка в чём-то чёрном, истрепанном, татарин ли чуваш, веснушчатый, круглолицый, похожий на Мустафу из «Путёвки в жизнь». Он был постарше и, будто отвечая за меня, поучал: «Надо маслы есть, маслы есть». А я не понимал: масло или мослы. Был он разговорчивый, несуразный и совершенно раненый, безденежный, видно, сирота.
У бабушки он так описан: «От Горького едет татарчонок лет 16–17. Был там на операции. Живёт в Куйбышеве, скоро доедет. Мишка с ним подружился. Он знает места и всё показывает. Едет голодный-холодный. Дали ему рубль: он вчера поужинал. Сейчас Мишка послал его завтракать – у него ещё осталось 40 коп. Всё это Мишку волнует. Хорошо. Я не вмешиваюсь».
А у меня так в письме: «До Куйбышева я подружился с одним татарским парнем. Он ехал из Горького из больницы без копейки денег. Я дал ему рубль. Он вышел в Куйбышеве. Он работает на заводе и учится в вечерней школе. Я подарил ему переливающийся значок, купил ему мороженого и сока. Когда наш пароход отчаливал, он стоял на пристани и плакал».
По прошествии лет смотрю на Волгу издали и будто чуть сверху. Город с церквами, Торговая площадь с розовато-творожными домишками, пристань и ещё что-то белое, заветное на реке – не то льды, не то остатки тумана. Не то Стенькины паруса… Сильнее разгоняет клочья крепкий ветер, вздувает ребристую рябь, и вижу: буксир ведёт баржи пыжевым счалом, а за ними то самое белое и несбыточное – длинный пароход с колёсами и коптящей трубой. На палубе капитански стоит бабушка в плаще и с поднятым воротом, щурит глаза и курит «Прибой». Играет «Славянка». А я бегу к Кинешемской набережной с криком: «Астраханский! Астраханский!»
Ленинградское
Ничто не вызывало во мне такую тоску, как вид безголовой колокольни с берёзками, растущими по контуру яруса звона. Или огромного полушарного купола на ротонде, мрачно-пузатого, ржавого и будто распухшего без креста. Особенно страшен вид погибшего железа. Дом без крыши не так жуток, как храм без маковки.
Хорошо помню одну такую церковь на Серпуховке. При всей тоске от разрухи – берёзкам я дивился и умилялся их цепкости и живучести. Хотя вряд ли думал о том, что почвой им стала пыль, принесённая ветром, и что семена эти ветер таинственно носит над городом.
Мимо этой церкви (Вознесения Господня) мы ходили в парикмахерскую и в «амбулаторию» – так бабушка называла поликлинику на Житной, – большое серо-зелёное здание в витиеватом стиле с широкими окнами – думаю, конца того века, а тот век для меня навеки XIX.
Из детских событий память брала лишь по одному событию. Один пуск спички по ручью, одни первые вербы. По одному зубному и одной парикмахерской.
Бабушкина строгость к расхожести, к преходящим ценностям касалась и того, как меня стричь. Всех мальчишек в ту пору корнали «под бокс» или «полубокс»: на лбу пирожок, а остальное и особенно затылок – голый. Бабушка такой фасон звала «куриной попкой». «Знаешь, когда курице сзади ветер дует»… И ещё не любила, когда скобкой затылок: надо постепенно – «лесенкой».
Пришли в парикмахерскую, усадили, укутали. Мне понравилось, что парикмахерша начала стрекотить ножницами ещё издали, словно они стрекоза или косилка.
– О, две макушки – значит, две жены будет! – сказала парикмахерша.
А когда стрижку закончила, с недоумением оглядела работу:
– У него голова пятна́ми.
Драньё зубов тоже одно запомнил. Ехали на троллейбусе мимо всё того же храма с берёзками и шли к серому зданию «амбулатории». Ждали в коридоре, пока наконец не запустили в кабинет. Открыл я рот и всё ждал, когда появятся огромные страшенные щипцы. Тем временем врачиха сказала сестре между прочим: «Дайте, пожалуйста, клювики». Едва я задумался над птичьим этим словечком, как у неё в руках оказалась небольшая безобидная штучка с боковыми губками. Пока я гадал, что эта за кочерёжка, зуб деревянно хрустнул и со стуком упал в ванночку. С разрешения врачихи я прибрал его в карман.
В коридоре от одной крепкой и разговорчивой бабки я услышал, что после дранья зуба очень хорошо «морожено». И вот, щупая языком кислую кровавость ямки, я начал канючить, что хочу мороженого. Понятно, что «не сразу, а вечером дома», но всё равно мороженое, «Ленинградское», в шоколадной обкладке. С плотным, ярко-белым нутром, в несовместимости которого с кровавой лункой было что-то великолепное.
Бабушка страшно не любит ходить со мной в магазин и старается оставить в каком-нибудь скверике, где я, по обыкновению, пытаюсь потеряться. Если скверика не оказывается, то, конечно, «тащит по магазинам», предупреждая, чтоб я ни обо что не «мызгался», «не обтирал» поверхности и «не собирал микробов», ну и ничего не «клянчил». А я клянчу тресковые палочки, мармелад и «Ленинградское» мороженое в шоколадной обкладке. И изредка перочинный ножичек.
И вот зима. Сумерки. Саднит зубная рана.
Ради одного мороженого бабушка в магазин не пойдёт, и я попадаю на поход за продуктами. У нас два магазина – один на Серпуховке, на нашей стороне, другой – на той. Он называется «Под часами» за большие круглые часы, словно будильник, вывешенные над тротуаром. Начинаем с него, поскольку идём от Житной. Я его называл рыбным, потому что там на стенах морские раковины – ребристая лепнина в виде карманов, над которыми горят светильники. Несмотря на океанский рыбный дух, отделы там имелись и мясной, и молочный.
Заходим в пахучий и первозданный дрызг, связанный с полнейшей оптовой натуральностью всего, что там теснится, начиная от свиных и коровьих туш и кончая живыми карпами, которых выуживают сачком. Под ногами мокрые опилки, их сгребает деревянной шваброй уборщица в чернильно-лиловом халате.
С опилками связано ощущение талого снега, который все тащат на ногах, и чего-то густеющего, зимнего, глубинного, что связано с приходом вечера в город… С переходом, который случается в момент загорания фонарей, когда за секунду целая пора сменится, и накопленный день, прежде чем обратиться во что-то блистательно сверкающее, осадит тебя вдруг тяжестью.
В опилках я вязну, и приходится ступать по выпуклой толще, противоестественно мягкой под подошвой. Уборщица истово орудует шваброй, и ручка угрожающе замирает возле боков и животов покупателей.
В зале крепкий и свежий рыбный запах. За стеклом на прилавках белая севрюга горячего копчения, мраморная с прожилками, и чёрная икра в наклонных ванночках – паюсная и зернистая. Икра такая изредка бывает на столе. Зернистая мне не нравится – как всё скользкое, мягкое, противное детскому естеству, а, наоборот, твёрдую и будто подсохлую паюсную в ястыках – я люблю. Икра на столах нечасто – её брали «для ребёнка», а сами не ели.
Бабушка покупает наши любимые тресковые палочки в коробке, но нам нужна ещё колбаса, и мы идём в мясной. Здесь тоже целое царство. На стенах картины разделки туш «на сортовые отрубы» – свиной, коровьей, бараньей. Границы частей жирно прочерчены, и туши будто перетянуты верёвками, а свиная – как толстая бутыль и мордой как кобура. За прилавком широченная колода, измочаленная до такой волокнистой серости, что края её нависают грибом. На ней рубит мясо огромным топором мужик в белом халате и чёрных нарукавниках. Лезвие длиной едва не в полтопорища. Оставляя ровнейший срез мяса, костей и жил, оно с одного удара рассекает оковалок до колоды, глухо в неё ударяя.
В молочном отделе смешанный запах свежего мяса, молока и чего-то сывороточного-сырного. Высокий и узкий ковш, которым разливают молоко из фляг, – в жирной молочной плёнке. На прилавке грубыми пластами – разные сорта масла. На слуху «Вологодское», белое и отборно-добротное. Ещё шоколадное, которое мы никогда не покупали, и оно так несбыточно прошло сквозь раннее детство, как перочинный ножичек.
Продавщица кладёт на весы толстую жёлтую бумагу, на неё кусок масла. Бумага крылато торчит в стороны, а продавщица держит длинный нож на отлёте и смотрит на шкалу. На прилавке штырь, на который надеваются чеки.
Лежат сыры, копченья, буженина, колбасы. Среди них какая-то толстенная языковая, пятнистая, которую однажды купила бабушка. Колбасу и сыр брали понемногу, «грамм» двести-триста, и такую порцию могли по просьбе порезать.
Переходим Серпуховку и идём в самый известный магазин: «У Ильича». При этом названии мне почему-то представлялся чёрный каравай, который держишь под мышкой и отрываешь от него пахучий кусок. Может, из-за созвучия с куличом или кирпичом чёрного хлеба.
Если рыбный сочный, дрызглый, то в «Ильиче» дух сухой и какой-то цветной, сродни конфетной бумажке. В кондитерском конфеты, из которых самыми дорогие и вкусные – «трюфеля». Торты «Сказка» с цукатами… Сливочное полено – плотное в продольную риску и цвета варёной сгущёнки. Постный сахар кубиками с крошечкой на гранях – то розоватый, то белый, а то какой-то бледно-зеленоватый, мутным светом напитанный. Сливочные помадки, мармелады.
У «Ильича» бабушка покупает хлеб – белый батон и чёрный, обязательно «обдирный», пряный с кислинкой.
Был ещё овощной, где картошка с грохотом ссыпалась по дощатому жёлобу в сумку. Ещё «бакалея». Я толком не понимал, что это такое, и, хотя там продавались сухие съестные товары – чаи и приправы, почему-то думал, что это связано с табаком – «табак – бак – бакалея».
От «Ильича» идём мимо табачного ларька. Кроме папирос и сигарет там те самые слоёные перочинные ножички – толстенькие, с кучей лезвий и приспособ.
«Север» и «Прибой» у меня были связаны только с бабушкой, и досадно было, когда я в школе услышал куплет:
Хороши в палатке сигареты,Ещё лучше «Север» и «Прибой»,Выкуришь полпачки, встанешь на карачки,Сразу жизнь покажется иной.О моём отношении к куреву бабушка писала: «Мишка о папиросах: „Мне скажут „кури“, а я возьму папиросу, будто курю, а курить не буду“. Прочла мораль, подходящую случаю: о храбрости духовной».
Раз уж речь о магазинах, нельзя не вспомнить необыкновенно породистый «Гастроном» на Валовой. Он располагался внизу высокого и запредельно плоского дома, первый этаж которого выложен был гранёной коричневой подушкой, очень роднящий его с бежевыми конфетами-подушечками. На магазине были крупные и косые красные буквы: «Гастроном», и я поначалу читал эту надпись как «Тастроном», принимая «Г» за «Т». В «Тастрономе», как войдёшь, слева здоровенный медведина пил сок – поднимал и опрокидывал в крашеную пасть стакан. Все ребятишки ходили медведя смотреть. Наискось от медведя сок продавался за прилавком в стеклянных конусах, томатный, виноградный, яблочный. Всё это многоцветье было за пределами нашей жизни, угощать меня, поить в магазине бабушка считала дурным тоном и всегда говорила: «Придёшь домой – попьёшь». Да и не особо я зарился за всю эту вкуснятину, она далеко была, там же, где шоколадное масло и слоёные ножички.
За табачным ларьком наша цель – ларёк с мороженым. Про мороженое у бабушки свой рассказ: как приехал иностранец в зверский мороз и дивился, как девчонки идут с мороженым и хохочут на всю Серпуховку.
Ларёк на Серпуховке особенно и хорош в мороз – крашеные неказистые рамы и заросшие льдом окна, сквозь которые не разобрать названия пачек. И продавщица в халате, надетом на что-то огромное, пухлое. И талые кругляши по индевелым окошкам. И тусклый свет. А в кругляши видно продавщицу частями, она то пошевелится, то замрёт и будто живёт там.
Сортов много. Пломбир в вафельном стаканчике, с нежнейшим сливочным вкусом и кремовой розочкой: розовой или жёлтой. «За двадцать восемь» колбаска с шоколадной оболочкой, пупырчато осыпанной орехами. На палочке эскимо – брусочек в шоколадной корочке. И не менее великолепный брусочек в шоколаде – «Ленинградское» за двадцать две копейки. Его мы и купили.
Болела челюсть, но я плёлся, не сдаваясь, зная, что в сумке у бабушки «Ленинградское». Дома бабушка положила мороженое на блюдце – подоттаять. Я не удержался и отвалил шоколадный бортик, и оно дало белую лужицу по блюдцу. Наша кошка Мяка тигрового окраса оживилась, подошла и заинтересованно прогладилась о мои ноги. Когда я уже взялся за ложку, бабушка вдруг задумчиво сказала:
– В войну привезли к нам в Юрьевец в эвакуацию ленинградских детей. Идут они по улице бритые (вши же), худющие, как скелеты. И вдруг кошка перебегает дорогу. И тут они как закричат: «Кошка! Смотри, кошка!»
Я представил всё: и колонну по двое одетых в серое худющих подростков, и юревецкую деревенскую улицу, и как прокатывается это: «Смотри, кошка!» – ветерком по измождённой этой поросли… Всё, как живое, видел. Но не понимал одного – при чём тут кошка:
– Они что – кошек не видели?
– Нет.
– Почему?
– А съели в блокаду.
Хорошо устроена память – ощущение, что всё ладно да гладенько и ты молодец: помесь покладистости с созерцательностью. Однако бабушкин сказ о зубном походе выглядит иначе: «25-го Мишке вырвали ещё один зуб – распухла десна, выросла шишка. Что там было, не знаю. Дома орал, что не пойдёт. Надену башмак – снимает, завяжу – развяжет, насилу натянула пальто. На улице замолк, в троллейбусе – забыл, в очереди был спокоен и без единого звука дал вырвать. Дурак, я чуть инфаркт не заработала, с такой лошадью боролась. Почему-то в острых случаях я абсолютно спокойна, а мелочи – доводят немыслимо».
Горка
1Вечер, темно, на Втором Щиповском пылает домишко. Мы стоим в толпе, и бабушка говорит: «Костром горит». Я не ощущаю ни страха, ни горя, ни сострадания к погорельцам и вижу только одно – торжествующий огромный костёр, и, как обретение, беру его с собой – в память, в дорогу.
Утро. По радио звучит песня «Солнечный круг», и бабушка кривится: её возмущают слова: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».
– Опять «я». И солнышко, чтоб грело… Ну и, конечно, мамочка – чтоб кормила. Тоже мне пуп земли… Запомни: «я» – последняя буква алфавита. Всегда говори: «Васька, Серёжка и я».
Я умом понимаю бабушку, но с головой погружён в ощущение, что всё вокруг, включая пожарное зарево, – моё и ради меня, и нет ничего, кроме моего сверкающего окоёма, и что бабушка – его часть и всё на свете управит.
К этому времени стену давно сломали, на пустыре закончилась стройка, и Мишка переехал в новый блочный дом. Тот Двор наполнился целой ватагой, к которой мешалась ребятня из соседних избёнок. Ватага была рыскучей. Лазили везде. Нашли мы в кирпичном сарае, на чердаке, залежи ламп дневного света, длинные мутные трубки. Вытащили их, аккуратно передавая друг другу, слезли и стали кидать в кирпичную стену дома. Стена была без окон – мы высоко целили, и лампы летели, вращаясь, и если попасть всей плоскостью, то разбивались с великолепным хлопком, оставляя на стене белую полосу.