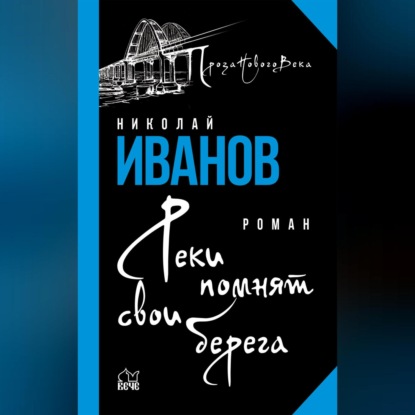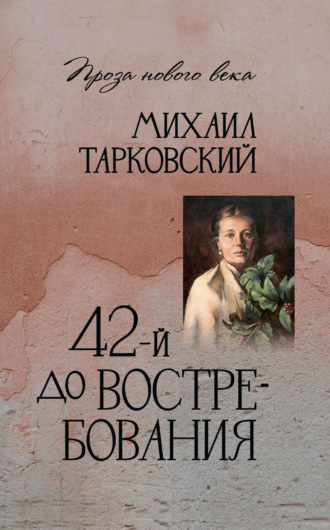
Полная версия
42-й до востребования
Она пододвинула мне вазочку с крыжовником и сказала: «Пробуй чай – это индийский, как ты любишь».
Ещё в Солнечногорске было много зимы, вечеров, огней, мерцающих на морозе протёрто и колко. Морозных иголочек в носу… Кочегарок и запаха угольного дыма.
Идём с Ирочкой мимо каких-то кочегарок, гаражей. Тихо, только лают собаки и задумчиво перемигиваются звёзды. Звёздочка, а перед ней кто-то стеколки меняет: подержит и сменит, подержит и сменит – алмазно-синее, малиновое, зелёное. И из Ленинграда идёт скорый. Гудок электровоза протяжно-напряжённый и с завитком книзу – будто в омуте тонет.
Ёлка
1Я снова в Замоскворечье. В предновогодние дни взрослые хлопотали по дому, а я занимался двором. Играл под вечер до жаркого пота, до жгуче-шершавой шапочной сырости на лбу. До слюнной брызги жужжал машиной, нарыв в сугробном склоне серпантинов, капониров для танков, синих отнорков. Норы и тоннели особенно осторожно выбирал ближе к вершине, где вот-вот загорится светлинка в потолке и может просы́паться снег.
Конечно, ничего не успел – побежал домой за Никитками и был схвачен бабушкой. Никитки – близнецы, коричневые резиновые медвежата со свистками. На холоде они деревенели, но от них и не требовалась мягкость – я собирался их поставить на охрану тоннеля, но дело пришлось отложить до завтра. Я еле пережил ночь, поутру быстро съел кашу с рассветным маслом-солнышком и, схватив Никиток, выбежал на улицу.
А там ни следа моей инженерии.
«Чёртов Васька!» Как я ярился, как орал – наверное, самая сильная вспышка за всё детство. Ведь ничего не оставил! Не просто заровнял, а именно порушил, уничтожив и приподножное, равнинное, так сказать, хозяйство. А сугроб ещё выше вывел и аккуратно загладил крахмальное изваяние.
Дядя Вася наш дворник. Внешностью он как дядя Гриша или мужички, что просят стаканчик. Тоже некрупный, не добравший жирка, а в одёже не чёрный, а, включая кепку, коричневый, как лётная вытертая куртка. Если те обобщённые, как путейская бригада, то дядя Вася явный, знакомый. На кого похож? Трудно сказать… Может, на Чапаева, но безусый и ещё более скуластый, со сходом в щёчную впалость. Глаза сильные, большие, и брови, надбровные дуги ярые. И какая-то задиристость, требовательность в лице. Может, и скандальность. А в движениях – развалочка.
Прибирал наш двор, паковал сугробы, и сыпалась синяя крошка по крахмальному боку, и дядя Вася подскребал её, как мучицу, и на сугроб закидывал, и бока гранил, и особенно текучими были именно последние эти струйки, и пустынно подножие сугроба.
Кроме нашего внутреннего двора дядя Вася огребался и на уличной стороне. Часть снега собирал в сугробы в проулке, а часть длинным движением лопаты подавал на дорогу, где её мололи колёса. Дворники были в каждом дворе, и цепочка сугробов тянулась по всему переулку. Их собирала снегоуборочная машина, и я любил на неё смотреть.
Машины эти все называли «автопогрузчиками», а недавно оказалось, что правильное название трудовой этой железяки «лаповый снегопогрузчик С-4». Жаль, что мы с бабушкой не знали тёплого и звериного этого названия. Четырёхколёсный агрегат на основе грузовика с одноместной будочкой, смещённой к боку. И на плече наклонно «балалайка» – жёлоб с лентой, похожий на гриф с ладами. Он ещё и подломлен по корпусу. А сама дека – челюсть-лопата с бортиками. В лопате две локтястые ручищи, крутятся на двух дисках, а диски заподлицо с лопатным дном. Лапы грабастают снег необыкновенно одушевлённо, сзади пятится самосвал, и в кузов с грифа сыпется снег, то кускастый грязный, то, наоборот, чистый до крахмальности. Бабушка терпеливо стоит рядом, а я пожираю глазами погрузчик. Самосвал пятится, то ударяя в погрузчик, то приотставая – ЗИЛ-164, зелёный, но не «болотный», как бабушка называла хаки, а тёмно-зелёный, будто подсинённый. Радиатор у него был укутан стёганой попоной на ремешках.
Завидя погрузчик, я замедлялся, якорно тянул бабушку за руку и вставал, а она ждала, пока насмотрюсь. Очень хорошо помню эту терпеливость – и вынужденную, и признающую важность происходящего. Так ждут, когда ребёнок наестся.
Рука у бабушки худощавая, и я чувствовал её будто древесную силу – и сухую, и тёплую. Рука – вообще витое место, и сучок, и развилка, и точка крепости. В нашем ручном замке вечно шла борьба. Бабушка то поджимала, то приотпускала, а я то вырывался, то пытался в бабушкину ладонь вложиться поудобней. Едва устрою плотвичку ладони и бабушка подладится встречно, найдёт самое ухватистое место, тотчас рыбка извернётся или, сложившись лодочкой, раздаст бабушкину руку и отвоюет свободного хода.
У автопогрузчика я выходил из замка и маячил отдельно.
Снег увозился машинами, и я почему-то думал, что его высыпают за городом. Однажды мы с бабушкой гуляли по набережной между огромным высотным зданием и Москворецким мостом. Дни стояли неморозные, и обвалом шли снегопады. И вода в Москве-реке была чёрная и сизо-пятнистая от шуги.
Вдруг к невысокому каменному парапету, пятясь, подъехал самосвал со снегом. Из кабины, открыв дверь и став на подножку, высунулся водитель и, глядя на кузов, начал его поднимать. Снег поначалу держался, а потом мешаниной кусков и сыпучих прядей ссыпался в воду. Водитель опустил кузов, но ему показалось, что прилипли остатки снега, и он ещё раз откинул его, грохотнув, а потом медленно опуская, отъехал от берега. Пока я, открыв рот, смотрел на него, на набережной появилась вереница одинаковых тёмно-зелёных самосвалов. Друг за другом они пятились и сбрасывали снег с высокого берега. А потом образовалась целая шеренга пятящихся машин, которые почти одновременно остановились у края каменной пропасти и вскинули кузова. Снег могучей лентой сыпался в тёмную реку и оказывался неожиданно плавучим, не пропитывался водой, а только нарастал горами и медленно сплывал по течению. Вместе со снегом из кузова упал камень и плыл черновиной вместе со снежной грядой.
Темнело. Затлев и отдрожав, зажглись синие неоновые фонари, а грузовики всё тянулись по набережной, пятились и, вздымая кузова, сбрасывали груз в речную пропасть. На чёрной воде в сиянии фонарей сыпанина снега ярко светилась рубленым белком.
2Последний самосвал завершил грозное своё действо, и мы отправились на трамвай. Всё краснее и ярче горели огни на высотном здании со шпилем, чернеющем на фоне подсвеченного неба. Его мглистый силуэт, гнутая линия реки, обросшей домами-утёсами, подчёркивали налитые силой названия: Котельническая набережная, Краснохолмский мост, Большой Каменный. Купола Ивана Великого и Архангельского соборов сияли поразительно зеркально, словно натёртые шлифовальной пастой, зелёной купоросной пылью с чешуи кремлёвских башенок. Внемасштабность циферблата на Спасской, сходство луковок с ёлочными шарами потрясало и обращало город в бескрайнюю детскую. Бабушка сказала, что в войну купола соборов укрывали, чтобы они не светились во время ночных бомбёжек. И мне представились стёганые попоны, вроде тех, которыми укутаны морды у самосвалов.
Предновогодним вечером мы подъехали на троллейбусе к кремлёвским воротам, к Кутафьей башне. Вместе с вереницей детей прошли в Кремль, где бабушка отдала меня устроителям ёлки, на которую у меня был билет. Стоял мороз. Сотни детей, густо дыша паром, столпились вокруг снежной площади с огромной ёлкой. Вышел рослый Дед Мороз в красной шубе и необыкновенно зычно поприветствовал, постучал посохом, а потом заозирался: «Как так – скоро Новый год, а у меня ни мешка, ни котомки. Да-а-а… была у меня волшебная котомка, да вот где она – ума не приложу…» И крикнул: «Ребята, где же котомка?» То ли ему кто-то подсказал из ребятишек, то ли он сам догадался: «У Снегурочки котомка! А где же Снегурочка?» Ну и, конечно, велел её звать. Целая площадь закричала: «Ау, Снегурочка!», – сначала нестройно, а потом слаженно, громко и эхово. Дед Мороз пошёл искать Снегурочку. Рядом с ёлкой стоял снежный домик. Оттуда раздался звонкий крик, и вышла Снегурочка в серебристо-голубой шубке с блестящими звёздами и с волшебной котомкой в руке. В рукавичках, тоже серебристых и в пушистой белой оторочке. Дед Мороз к этому времени незаметно исчез, и теперь вышло, что уже Снегурочка его ищет.
Снегурочка перебегает по снежной площади, озирается, приложив ко лбу козырёк рукавички. Вдруг из снежного домика, вздымая чёрные руки-крылья, вырывается чёрная фигура. Лицо в маске и на голове клюв – это Чёрный Ворон. Самое страшное, что Снегурочка не видит, как он подкрадывается, чтобы вырвать волшебную котомку. Ворон догоняет её, грозно вскидывая чёрные крылья и страшным охлёстывающим движением собираясь её захватить. Вдруг совсем рядом со мной девочка истошно вскрикивает: «Ворон!» – и я, и кто-то ещё, и все мы вместе подхватываем: «Ворон! Ворон!» Ворон вздрагивает, отшатывается. Снегурочка оборачивается, а Ворон, плавно кренясь, взмахивает крыльями, разворачивается и улетает. Снегурочка мгновенно забывает об опасности, Ворон снова её догоняет, и снова несколько сотен детишек кричат: «Ворон! Ворон!» – и Ворон снова улетает. И на третий круг всё повторяется. Ворон идёт на четвёртый, но появляется Дед Мороз и, грозно вздев посох, прогоняет Ворона.
Уже не помню, каким образом волшебная котомка обратилась в бездонный мешок и всем нам роздали подарки – красные пластмассовые шары на верёвочках – внутри конфеты, игрушки. Но ни конфеты, ни весь остальной праздник не поразил меня так, как наше вмешательство, ощущение единящей силы, которую мы испытали, выкрикивая это отчаянное: «Ворон!» И то, что мы смешали, проломили действие, и в этом прорыве жизненного в сказочное был особый разряд правды.
Когда уезжали с бабушкой на троллейбусе по Большому Каменному мосту, купола сияли таинственно-домашне, давая ощущение вхожести, привычной причастности к этим башенкам и елям. Они были одного с нами поля, не игрушечными, не сказочными, а таким же понятными и равными, как и мы с бабушкой.
Дома было по-праздничному чисто. Блестела шарами ёлка, у подножия под ветками стоял Дед Мороз с шапкой и воротом из белоснежной и будто запёкшейся ваты. Корочка с искоркой была особенно хороша. Засыпая, я видел зубчатые стены и протёртые луковки, и несомненность существования протирающей руки усиливалась с каждой предновогодней минутой. Казалось, именно она сеяла белую пыль над городом и укрывала купола, раскладывала подарки под ёлкой, а синим утром будила скрёбом скребка по льду, мерным звуком лопаты, сгребающим снег под рассветным нашим окном.
Альбастра
1Кирпичная стена, так называемый брандмауэр, отделяла наш двор от округи. И вот событие. Вид с улицы: пустырь, расчищенный под стройку нового дома в двенадцать этажей. Толпа народу. Около стены экскаватор с гусеницами из тускло-белых пластин. К стреле привязана на тросу блестящая клин-баба, которой он бьёт по стене, в клубах пыли с грохотом рушит, выламывает из стены щербатые глыбы. И при всей законности дела в болтании бабы что-то катастрофически разрушительное и хулиганское.
У стены снесли большую верхнюю часть, и она стала намного ниже, а там, где примыкала к «Гипрожиру», появился седловина-лаз, открывавший путь на Тот Двор, по новые земли.
– Не смей шляться на Тот Двор! – сказала бабушка, выпуская меня из дома.
Перед такими походами хоть на парад, хоть в музей, я должен был благопристойно прогуливаться, пока бабушка собиралась, настраивалась, а возможно, и пила чай. Я же стремился на Тот Двор, где шла стройка и каждый день появлялось что-нибудь драгоценное.
Был цементный раствор, который мы называли «альбастрой». На кирпич наносился шлепок альбастры, приглаживался горкой, в неё втыкалась палочка, и получался танк. Откуда-то взялось ведёрко с солидолом, настолько похожим на повидло, что у нас головы вскружились. Звали мы его «силидол». А как-то раз на повороте из грузовой машины выпала плита парафина – целую неделю мы плавили, топили, и он тёк струйками, подёрнутыми плёночкой сажи. Или плавили на руки, чтоб получались перчатки. Так и ввалился я к бабушке – в перчатине и с изгвазданным рукавом.
В предыдущий раз бабушка подзадержалась, настраивая душевные струны на поход в консерваторию. Любила ли она музыку, как любят иные, погружённые, одержимые и сыплющие названиями симфоний и ораторий, – не знаю. Знаю точно, что боготворила, как всё классическое.
Я времени не терял и, перемахнув в проём на Тот Двор, обнаружил там Мишку Кузнецова и компанию «коло» бочки со свежайшим столярным клеем. Похож он был на «силидол», такой же добротный и зовущий к употреблению. До сих пор помню своё бессилие – вижу великолепие материала, понимаю, что пропадёт, и не знаю, куда приткнуть, – хоть ешь.
Выскочил я в единственном «приличном» кительке с большими боковыми карманами, куда бабушка всегда совала носовой платок. Швыркал я без конца, и она говорила: «Выбей нос». Надыбав драгоценную бочку, я, зачерпнув пятернёй клея, засунул его в карман. Клей оказался тягуч и тошнотворно запашист. После я удовлетворённо вернулся на наш двор и ждал бабушку.
Наконец она вышла в чёрном пальто, в чёрно-синем берете с червячком и с «дамской сумочкой» под мышкой. Дамская сумочка – потёртый предмет с металлическим замком-двухлапкой и ремешком, который бабушка складывала на верху сумки, как кнут. Бабушка называла сумку именно «дамской», хотя дамство ей претило и никак не пересекалось с «Севером» и «Прибоем». Вид у бабушки был недовольный: в руках она держала забытое мной пальтишко.
В консерваторию у нас имелся абонемент, и мы туда ходили каждые выходные. В тот раз давали Сороковую симфонию Моцарта. Консерватория объёмно и гулко отзывалась на шорохи, шарканья, голоса. Иконостасно и трубчато сиял орган во всю стену, глядели портреты композиторов со стен, недовольный Бетховен с копной волос и забулдыжно-невыспатый Мусоргский. Мы сели в кресла. Вышел дирижёр, совершенно непонятная для меня фигура, но с поразительными хвостами фрака, похожими на двух пиявок. Началась музыка, требуя от меня немыслимого напряжения, входя трудно, волнами – то ложась на душу, то отдаляясь и предавая посторонним мыслям. Помню, я светлел сердцем от звучания струнного оркестра, чистого, небесно высокого и похожего порыв ветра, склоняющий берёзы… Рояль же со светскими россыпями и капелью наводил тоску…
На волне очередного приближения симфонического смятения в берёзах бабушка спросила громким шёпотом: «Почему так воняет?» Я швыркнул носом и попытался внюхаться в музыкальные запахи консерватории – бабушка говорила, что смычки мажут канифолью. Бабушка рявкнула шёпотом: «Выбей нос! В кармане, невежа…» Я сунул руку в карман и едва не подскочил, потому что рука влипла во что-то холодное, склизкое, а главное, внезапное. Точно так же летом я забыл в кармане подберёзовик, а когда через несколько дней надел куртку – до слёз испугался.
Бабушка побелела и велела сидеть с рукой в кармане «до антракта». Мы пошли в уборную, и там я освободил кисть из клея.
Концерт сопровождался ещё и лекторием, где тётенька в бледно-зелёном длинном платье рассказывала о музыке. Бабушка, напрочь сбитая столярным клеем («карман вырезать придётся!»), особенно раздражилась. Она терпеть не могла умных разговоров о музыке, особенно когда к произведению притягивали образ. Приводила пример, как сыграли некий «Ручеёк», и рядом сидящие дамы извосхищались точностью передачи композитором бега ручья. Потом оказалось, что музыканты перепутали и сыграли вместо «Ручейка» «Шествие гномов».
Зелёная дама вытащила на сцену девчонку моего возраста и одновременно знаменитую пианистку. Девочка долго и очень уверенно отвечала на вопросы зелёной дамы, а когда в завершение та спросила, что, по её мнению, главное в жизни, бросила небрежно: «Эстэвить след в эскээсствэ…» Бабушка фыркнула.
– Бабушка, а важно оставить след? – спросил я после концерта, чтобы хоть как-то выправить своё положение.
– Важно человеком быть! – отрезала бабушка.
Карман засох, и бабушка его вырезала и края дыры сшила. После этого случая я заработал запрет на предпоходные вылазки на Тот Двор и на всю жизнь запомнил сороковую симфонию.
2У бабушки есть несколько слов, которые её сильнее всего выражают. Одно из них – «башмаки». Не «ботинки», а именно «башмаки». Поначалу я пытался поддаться на блескучую гладь «ботинок». Больно уж выражали «башмаки» какой-то связанный с бабушкой простой и беспощадный жизненный дрызг. Приятие холода, ветра, стыни. Нечто неприглаженное, требовательное, учащее выносливости и неприхотливости телесной и душевной и накрепко связанное с русским духом. Но довольно быстро почувствовал я силу именно башмаков, сначала из товарищества с бабушкой, а потом и нутром поняв их крепящую силу. Ботинки, ботиночки представлялись чем-то приличненьким, маменьки-сыночным, торчащим из-под глаженой штанинки, точнее, брючинки костюмчика. То ли дело башмаки – простое, старинное. Никакие дороги не страшны в башмаках.
– Не смей шляться на Тот Двор, – повторила бабушка, и я послушно кивнул, выбегая на дощатый пол длиннющего нашего коридора.
Был праздник. С самого утра в открытую форточку лилась песня и сеялся небесный розовый свет. Праздник был редчайший, потому что к розовой музыке уготовили мне нежданную добавку – новые башмаки. Именно те, о каких мечтал, с подошвой, как ёлочка на колёсах ЗИЛ-157, который мы звали пятитонкой. «За одним не гонка – человек не пятитонка».
Машины и, конечно, грузовики были для меня живыми – и военные, и послевоенные, в которых я досконально разбирался лет с четырёх. Строки «Шла машина тёмным лесом», «Выходила на берег Катюша» работали на образ, а образ был трудовой: мне нравилось, как газоны, зилы и кразы справлялись с работой, а угловатый вид мазовского самосвального кузова с торчащими стойками напоминал локти с засученными рукавами. Когда я спросил бабушку, почему все грузовики такие однотонно зелёные, она отвечала, что если на нас снова кто-нибудь нападет, то «все грузовики пойдут на фронт». Словно сами решают – идти или нет.
На Тот Двор дорога была закрыта, и я послушно пошёл по длинному нашему коридору на улицу. Дверь выходила на асфальтовую площадку, которая вечно крошилась и разваливалась. По случаю праздника дядя Вася встал пораньше и залил её цементом.
Удивительно в тон розовому утру пришлась эта нежнейшая зеленоватая поверхность, проглаженная дощечкой-гладилкой. Дрожащая, как студень, и резко пахнущая стройкой.
И какой-то огромный голос во мне восхищённо прошептал: «Альба-а-астра…» Как я преодолел альбастру и была ли там доска проброшена на двух кирпичиках, не помню – но вот форсировал я преграду и оказался на улице. Но тот же голос сказал мне: «Развернись» – и вернул к дрожащему болотцу, которое нипочём человеку-пятитонке. Испечатал я ёлочкой всю «альбастру» и изгваздал выше рантов башмаки, а выйдя на сухое, притихше и сглатывая слюну, замер, «прижав уши».
Бабушка появилась, и мы долго шли по Щиповскому переулку, пока она не сказала: «Ну что, оставил след?» Больше ничего не помню из того похода. Как ругали, не помню. Что сказал дядя Вася, не помню. Что сказала ему бабушка… Разбивал ли он ломиком площадку и заливал заново… Или доливал по моим ёлочкам… Разглаживал ли ровнялкой? Копалась ли вообще возле двери невысокая его фигура в кепке…
До сих пор видятся бессмертные те утра. С фабрики «Новая заря» нежно наносит духами. Песня звучит в прозрачно-розовом просторе, в нём дымная примесь синевы, шершавость туманчика, огромность неба. Голоса направлены на самоё себя со смущённой какой-то самосильностью. «Утро красит нежным светом» льётся не из репродуктора, не из радио, не со сцены. Оно растворено, смешано с серебряным небесным песочком и просто живёт в этом благом свет-воздухе.
Кинешма. Первый приезд
1В Кинешме прошла бабушкина юность, и туда мы не раз ездили на каникулы к бабушкиному сводному брату, дяде Коле Петрову, и жене его – тёте Шуре. Кинешму я воспринимал как продолжение какого-то нашего с бабушкой общего жизнеустройства. Обязательный городок и там двое основательных и образцовых людей, бабушкиных родственников. И старинный буфет и стол, за которым меня потчуют чаем с вареньем из хрустальных блюдечек. Солнечногорск – Иван Николаич и Фелицата Евгеньевна. Кинешма – и там почти то же самое, только для… отвода глаз зовут их дядя Коля и тётя Шура.
И с той лишь разницей, что дядя Коля время от времени приезжал к нам в Замоскворечье – грузный, осанистый и напоминавший старого слона: нос с лёгкой горбинкой, длинное полное лицо. Молодым пройдя германский фронт, когда-то офицер и красавец, говорил он подобно Ивану Николаичу Крупину надтреснутым басом, только ещё более зычным, театральным. Считалось, что в Москву он ездил за нюхательным табаком и зелёным сыром. Но не сыр-табак нужны были, а дорога да поезд. Да четвертинка с резиновой чёрной пробкой, в которую ему возле магазина наливали, когда соображали на троих. Вот он и соберётся и в своём чёрном драповом пальто метнётся по зимней кинешемской ветке.
Зелёный сыр бабушка покупала ему заранее. Он в виде конуса с отрезанной вершинкой – как перевёрнутый стаканчик.
Табак дядя Коля брал сам и пересыпал из кубической бумажной пачечки в круглую табакерку. Дядя Коля же научил ещё молодую бабушку курить. Лежал на диване: «Маруська, прикури мне папиросу!» Видимо, спичек не было лишних, и Маруська шла к печке или лампе.
Отпрашивался я у бабушки гулять, и на дяди-Колин зычный вопрос: «Куда это он?» – она отвечала, что «на лыжах кататься». А дядя Коля презрительно-разочарованно тянул: «Ну-у-о-о…» – и, откашлявшись, декламировал: «В эти годы у него должна быть одна дорога: туда, где Она!»
От дяди Коли сладковато-жарко пахло смесью переработанной водочки и колбасы. Однажды бабушке позвонили с Ярославского, или, как она говорила по-довоенному, с Северного вокзала. Сказали, чтобы приехала. Вдрабадан пьяный дядя Коля сидел у стенки вокзала.
Бабушка крепко дружила с его женой – тётей Шурой, которая жила в Кинешме и в Москву не металась. Она была украинка, урождённая Кисляк, дядя Коля привёз её с Украины. Родители её почитали чтение, и на стене висел портрет Толстого. Говорила тётя Шура без акцента и была небольшого роста, с прозрачно-голубыми глазами.
Однажды, когда она гуляла по Кинешемской набережной, подошёл пароход. Московская туристка спесиво вопросила: «Как живёте вы здесь, в эдаком захолустье?» Тётя Шура отвечала преспокойно, что «для мыслящего человека нет захолустья» и что здесь, включая театр, музей, картинную галерею и прочее, имеется совершенно всё.
У дяди Коли и тёти Шуры был единственный сын, Алька. Трижды с фронта приходила на него похоронка. Две оказались ложными, а третья настоящая: в конце войны в Прибалтике его в спину убили из пулемёта. Алька был красавец несусветнейший, порода ушла и в дочь его, и когда та приехала с Украины, сбежались все кинешемские парни. Дядя Коля её отправил восвояси.
2Северный вокзал, зима, ночь – всё новое и сильное давало дух той дороги, снежной, вьюжной, с инеем в тамбурах, с заоконной тьмой и огнями. И звёздами, которые неслись куда-то вперёд за мелькающими ёлками, пока я не понял, что бегут-то как раз ёлки, а мы не то летим, не то парим в студёной связке со звёздами.
Из названий запомнился Александров, где нас перецепили на паровоз, и эта незримая паровозная тяга ещё добавила зимнего, клубящегося, свирепо-первозданного. А я всё пытался ощутить новизну этой тяги по изменившейся побежке поезда. Проснулся я от ночной остановки: кто-то входил с сумками, таща морозный воздух. Бабушка сказала с тихим торжеством: «Вичуга». И, не удержавшись, добавила заветный перечень: Вичуга, Нёмда, Решма.
Утром стояли на станции неподалёку от Кинешмы, и я смотрел с верхней полки в окно на паровоз – он был кофейного цвета и, скорее всего, мне привиделся, по крепкому обычаю оставшись картиной навсегда. Другой образ, за него ручаюсь: гуляем по перрону, вдоль него работает маневровый паровоз. Он медленно набирает ход. Нарастает мощная и отрывистая отсечка, словно рубят пар, как тугую капусту. Она на четыре такта, ритмичная и оглушительная. И кажется, участившись, сольётся во что-то катастрофическое.
Особенно грозным было замедление и остановка паровоза. И то, что когда он полз медленно, мог и фыркать, и не фыркать по настроению, что подтверждало его одушевлённость. Пар, валящий из соединений, локтястые привода. Дышла, вращающие колёса с неестественной бешеностью, их головки, описывающие эллипсы, – такого не было ни в одной технике. Другие машины прятали свои потроха под капоты и кожуха, а этот выставлял напоказ, будто кичась.
Ясно помню выход из поезда в Кинешме, умятый снег вокзальчика и обилие лошадей, запряжённых в розвальни, и эти розвальни с колокольным развалом к корме и похожие на расстёгнутый тулуп, в котором, извернувшись, боком сидел мужик. Розвальни были разные – и попроще, и побогаче, и везде с великолепным этим развалом… Морозно-свеже парил пахучий навоз с овсяными шелушинками, валялись клочья сена, и воробьи сновали под ногами. И бабушка шагала победно-счастливо.