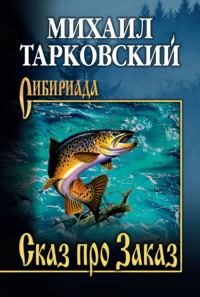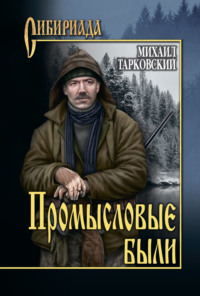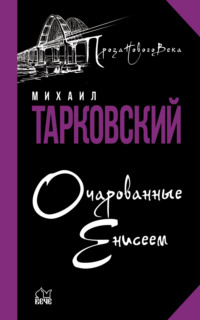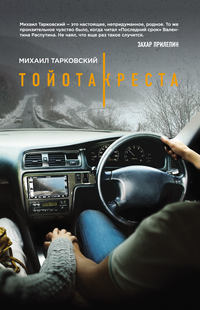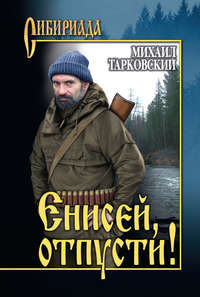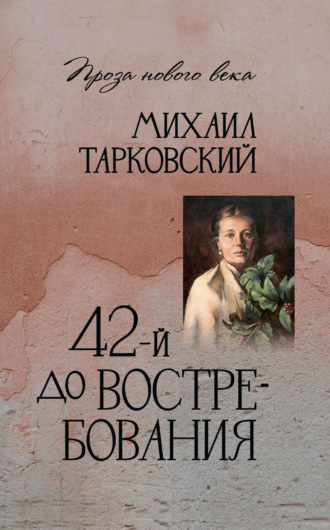
Полная версия
42-й до востребования
Жизнь Того Двора кипела вкруг горки. Мы не запоминали, не знали, кто её строил, кто заливал… Всё будто само творилось… Светлый сизо-зеленоватый лёд, дощатые бортики – скрипучее единение дерева и льда. Горка поскрипывает, чуть ходит, и лёд будто держит доски.
Однажды я катился с горки на санках, и большой палец попал под полоз. Бабушка кровавый ноготь забинтовала и сказала: «Теперь сойдёт», а я не понял: «Как сойдёт?» (Не снег всё-таки.) – «Так и сойдёт».
Кто поменьше – катились на картонках и санках, постарше – лихо съезжали стоя, балансируя и выправляясь, когда ставит совсем боком. В конце ледяного языка, где он терялся в снегу, полёт обращался в почти комичную побежку.
Бывало, карапуза развернёт в конце ледяной дорожки. Он замешкается, отползая на снег, пытаясь ухватить заледенелой рукавицей картонку, та отскальзывает по льду, он тянется, а тут кто-то большой, истошно крича: «Ээээ! Отход, малой!», сметёт малыша, да и сам завалится, смешно заперебирав ногами.
Обязательно какая-нибудь поперечная карапузная душа ползёт по горке против движения вверх, цепляясь за бортик, не обращая внимания на возмущённые крики и толчки несущихся с горки. Или вдруг все начнут тоже с разбегу залезать на горку по ледяной дорожке, падать и снова лезть. А кто-то не успел съехать, отпустил картонку, и она несётся, пустая.
Здоровые лоботрясы, подгуляв, завалились на горку, и несколько раз скатились с режуще-басовитыми криками: «Жекаааа! Жекааа! Давай!» А долговязый неуклюжий Жека поехал и упал. Встав, деланно застонал и, держась за крестец, матюгнувшись, отковылял с ледяной дороги под дикий хохот. И откуда-то ещё колоссальный, толстый дядька взялся, еле забрался на горку и полетел… Снарядом, глыбой, ядром вынесся по ледяному языку и, вспоров снег, с грохотом врезался в ржавый гараж. С гаража рухнул на него пласт снега. Лёг весь двор.
А девочку звали Наташей. Она каталась на саночках – в белой шапочке и синем пальтишке. И в очередной куче-мале меня прибило к ней, и я шарахнулся лицом в ледяное её личико, в зубки, и потом всё старался рядом с ней забираться на горку и ехать рядом. Как-то вечером мы остались с ней вдвоём, и она сказала: «Хочешь, покажу тайну?»
Обычно девчонки всякими секретиками мучили: «Пойдём секретик смотреть», – землицу раскопает, там стёклышко, а под стёклышком цветные фантики. Да малахольный Алёша всё приставал к нам с Мишкой, будто знает «военную тайну». «Что за такая тайна?» – пытали мы его, а он после долгого упирания и хихиканья сдался: «А Наташка сказала, что вы… вы-ы-ы… эта… что вы дулаки».
Наташа оставила санки и, взяв меня за руку, повлекла на горку. Вечер был ясный, а тайна оказалась в том, чтоб съехать с горки на спине, а потом так и лежать на ледяной дорожке и «смотреть на звёздочки».
Чувствую, как складываются зимние эти девочки в один образ, святой и прекрасный: темнеющая округа, синее пальтишко с белым пушистым воротничком и белая шапочка… Где ты, моя хорошая? Какие звёзды мерцают над твоей головушкой? Помнишь ли детство?
Оно выдалось безгранично счастливым, несмотря на все беды, которое испытывало многострадальное наше государство. Мне даже кажется, что его последующее ослабление случилось именно из-за нас – слишком многое было упущено, чтобы нам взрослелось спокойно. И эти годы – сами как горка: за полвека не было счастливей поры у нашего народа…
2Из домишки, прилежащего к Тому Двору, был один Чернышёв, года на два меня старше, крепкий, с худощаво-широким ликом и смолёво-смуглый. Есть такие лица – ещё и с пятном где-нибудь на щеке, словно от избытка смоли. На горку пришла Наташа, и я нарочно устроил свалку, чтобы снова к ней притолкнуться. А потом начал толкаться уже на самой дощатой площадке. Между Наташей и мной оказался как раз тот самый малахольный Алёша. Я грубо его толкнул, а Чернышёв на меня прикрикнул. Я ответил, завязалась перепалка, и я крикнул: «Черныш чёртов!» Выражение «чёртов» я перенял от бабушки и им словно продолжал её всевластие.
– А ну, проваливай в свой двор! – рыкнул Чернышёв и прогнал меня в шею. Я попёрся с санками домой и, веря во всесильность бабушки, доложил о несправедливости и заставил навести порядок. Бабушка притащилась со мной через лаз, вернула справедливость и ушла домой.
Довольный, я скатился с горки. За мной следом на ногах слетел Чернышёв, опрокинул меня и, локтем придавив шею, вжал в снег: «Ну что? Бабка-то дома. А ты тут. Так что не выдрыпывайся. Пока я добрый. По-о-онял?» Я действительно понял.
3Зима постепенно заканчивалась, снег таял и таял. И с моим лиловым ногтем тоже что-то происходило таинственное, он словно задышал. Я проковырял иглой почерневшую, исшорканную корку: под ней нарос молодой и чудный розовый ноготь…
Уже текли ручьи вдоль мостовых. Мы пускали спичку и бежали за ней, и по ребристым треугольникам мутной воды она неслась и исчезала в решётке. На оттаявшей пахучей земле мы играли в ножички. Их было несколько разновидностей, включая сложнейшие «ордена и медали», где участвовала ещё и свинцовая бита-кругляш. Не помню вовсе… И никто, видно, не вспомнит…
Только запах оттаявшей земли, воткнутый треугольный ржавый напильник и жар на лице.
А потом завязался розовый воздух в поднебесье и настала знакомая праздничная пустынность… И когда тишина достигла эховой силы, то стал слышен далёкий и раскатный гул. Это со стороны Чернышевских казарм по Серпуховке и дальше, по Ордынке, шли на парад танки.
Все ходили их смотреть – так и называлось: «пойдём на Ордынку смотреть танки».
На Ордынке вдоль мостовой стояли людские берега, дети сидели на плечах, на пиково острых железных заборах, на деревьях…
– Смоли, «анфибии»!
Несмотря на плотнейший людской барьер, мы с Мишкой обязательно оказывались около мостовой и, дрожа от нетерпенья, вперивались в даль улицы, невидную и будто туманную.
Гул невидимой колонны рос и близился. И наконец они появлялись – зелёные какой-то особой зеленью, с животворной примесью желтизны. Бабушка называла этот цвет болотным, и мне он очень нравился за природные истоки.
Сначала ехала по Ордынке какая-то колёсная мелочовка, потом колёсные же «анфибии» и бронетранспортёры, потом, наконец, танки, потом ракеты. На ракетах мне становилось скучно – по сравнению с танками, они представляли собой лишь нечто транспортно-инженерное, и поддерживало интерес лишь нарастание размеров.
…Сухой лязг гусениц по асфальту. Сильнейший синий дым, звёзды на броне, остроконечные, выточенные, с прямизной линий, лучевых треугольников, обрамлённых жёлтой каёмкой. И кругло, отдельно торчащая голова механика-водителя в шлемофоне – как чёрная фара. Она настолько внизу, что непонятно, куда помещается остальное тело. Башни у танков выпуклые с боков и неровные, словно их ляпали с размаху из огромного зелёного теста и наскоро правили шершавым мастерком.
И вот проходит последняя ракета, огромная зелёная труба, в которой меня волнует только мощнейший тягач… Потом через промежуток проносится какой-то ошалевший газик, и всё…
И шевеление начинается в людских берегах, и нас выносит на площадь, где народ разбредается… И снова простор, и празднично-пустынно, и где-то вдали затихает грохот, и мы идём по отпечаткам гусениц, белёсой крошке. И стоит запах выхлопа, уже слабый, но такой терпкий, что кажется, синий дым ещё висит волокнами над оживающим городом. А розоватая дымка уже до совершенства настоялась на серебряном поднебесье.
Был у бабушки специальный один голос. Он негромкий и чуть ниже обычного. И с торжественной почти шершавинкой, но не перерастающей в явную дрожь. И вот мы идём по пустой улице, и смесь музыки и дымки сеется с неба, и бабушка вдруг говорит, что в 41-м году танки с парада с Красной площади «прямо на фронт пошли». Меня это поражает. Танки, как живые, решили с завода совсем попутно на парад заскочить. Проведать площадь напоследок… И эта решимость – часть какой-то огромной и тягучей силы, завладевшей нашей землёй в те туманно далёкие годы и спасшей её от погибели. И я ещё крепче держу за руку бабушку и не понимаю, какое считанное число лет отделяет меня от Победы.
А бабушка вдруг начинает говорить, что, когда я вырасту, придёт совсем другое время и я стану очень занятый, и мне совсем не до неё будет… А я чувствую, что и в моём голосе вот-вот завяжется шершавинка, что надо успеть до неё, пока совсем не свело скулы, и говорю: «Бабушка, я всегда с тобой буду». И бабушка тоже хочет что-то сказать, но не говорит и только отворачивается и сжимает мне руку…
Потом мы с Мишкой и Чернышёвым лупили битой по чижику, и чижик был обоюдоострый, кто не знает, и острия эти имели необыкновенно чёткие грани. А девчонки играли в «классики» на асфальте, и мы тоже иногда перетекали к этим классам, расчерченными розовыми или белыми мелками. И блажь стояла в воздухе, и мама говорила: «Теплынь».
И бабушка уже говорила о деревне, о том, что меня надо пораньше забрать из школы. И что уже договорилась с Екатериной Фроловной.
И мне снится первый мой сон, который я осознаю и запоминаю: будто огромная и довольная морда электрички оказывается в нашем дворе, как раз в районе лаза. Очень хорошо показаны огромность и круглость морды и уменьшение, сход состава в перспективу, дающее что-то летящее, полное надежды и шири. И я восхищённо повторяю первое в жизни толкование сна: что, оказывается, во сне соединяется то, что волнует тебя в жизни, что тебя окружает, – вот, например, наш двор и моё ожидание дороги. И что вписана дорога в моё окошко, в мой дом и двор, с которым я сросся до самых тополиных корней.
Хутор
1На Москве-реке в Игнатьеве мы жили два лета.
Долгожданную туда дорогу помню мазками. Ожиданье на Белорусском вокзале на платформе. Теплынь, солнышко и дорожный запах шпал. Круглая морда электрички, которая не стоит, не ждёт нас у перрона, а приходит – с какой-то Каланчёвки. Просторные вагоны с деревянными сиденьями на две стороны… Бабушка обязательно ищет «немоторный вагон, чтоб не рычало». И в самом вагоне тоже поиск – чтоб сидеть «по ходу».
Разлётный вой электрички, полоса несущегося травяного откоса с мазаниной одуванчиков. И вот станция Тучково, площадь и посадка в автобус в какое-то Кулюбякино. И болтанка, и наконец мост через Москву-реку и выход из автобуса. И название – Поречье… Освобождающее, вольное… И уезжающий на гору автобус. И тишина, словно ждущая, пока он скроется. И тогда обступает – огромная, дышащая, живая.
Грачиные гнёзда на липах, ветерок тёплым опахальцем. Предельная какая-то свежесть, острота всего, что вокруг. Грачи не каркают, а издают глубокий, объёмный и ликующий воркоток. Бабушка тащит два узла – «наперевес». Узлы из каких-то покрывал. Идём вдоль речки, вот и деревня, и полоса огорода под капусту и картошку меж рекой и домами. Только вспахали, и вывернутые пласты земли – выпуклы и металлически-лиловы. Из них блестящие скворцы тянут червей, переговариваются жирно и довольно.
И ощущение, что мы опоздали на что-то важное, на весенние события, свеже-студёные, живящие, и ты будто виноват, что не жил здесь всегда, не делил зимы-весны… И все повторяют, что «смыло лавы» – мостки через Москву-реку на столбах. Женщина в огороде распрямляется и сходу начинает разговаривать с бабушкой, маша рукой на реку. Мне кажется, что она говорит очень громко. У неё платок узлом назад, и платок съехал, и видна полоска лба, молочно-белого по сравнению с лицом, нажаренным солнцем в какие-то первые жгучие дни, так что загар уже глубокий, закрепившийся. Я замечаю всё, что вокруг, но бабушку будто не вижу. Я просто при ней, а она рядом, как тёплое дерево.
2Утро. Просыпаюсь в незнакомой комнате и вижу в окне яркий лучисто-жёлтый свет солнца. И осознаю, что никто меня не будил, а что я сам проснулся от полноты жизни.
Выхожу во двор.
Там дядя Паша Горчаков – наш хозяин, сухощавый, небольшого роста. Ходит без рубахи и в кепке: кисти в перчатках загара, такие же лицо, шея и под ней красно-коричневый клин на груди. Белое в синеву туловище со поперечной складкой под грудиной в районе поддыха и под ней выступающий белый живот. На боку живота внизу гнутый с росчерком малиновый шрам – ударило вылетевшей доской на пилораме. Хромал – ранило на войне.
Когда мы приехали, дядя Паша как раз заканчивал стройку, забирал углы досками и красил тёмно-зелёной краской. Мне очень нравился цвет и то, как дядя Паша работает. Всё, что он делал, я почитал за эталон. В завершение он выпилил и наличники и покрасил зелёным с белыми завитками. Сам сруб тоже был забран дощечкой в ёлочку и крашен той же зелёной краской. Я думал, что тёсом называется как раз ёлочка.
Дядя Паша вытаскивает иголкой занозу – и мне диковинно, что он не ковыряет, а гладит плоско иголкой, задирает её, наклонную, и будто выманивает, а заноза вылезает и топорщится. Пахло от дяди Паши смесью опилок, какой-то заквасочной кислинки и пота.
Что-то мужики делали возле нашего дома во дворе, не то варили, не то раствор месили, и я при них вертелся, тоже что-то излаживал. Был Сева, молодой парень из города в белом свитере с воротом. Он настолько рьяно участвовал, что загваздал свитер, и все его осаживали: «Сева, Сева! Ну что же ты… Эх…» Бывалый один мужичок меня привечал и в работе между трудовым покряхтыванием нет-нет да и обращался ко мне или просто одобряюще подмигивал. Я не то напевал что-то, не то бормотал, и он спросил: что, мол, за бубнёж? С кем говорю? Я отвечал, что сам с собой, а он качал головой: будешь сам с собой разговаривать – «бэ-э-эстро… шарики за ролики зайдут».
3Иду по двору. Тянет пружинистый ветерок, пахнет дымком и навозцем. Забор, воротца на улицу, на столбе скворцы в скворечнике. Через улицу луговина, поле и лес на пригорке. На луговине стреноженные кони – с путами на передних ногах. Срывают траву с громким и резким хрустом, и я не понимаю, чем они производят такой звук – как полотно рвут. Конь обирает траву перед собой тщательным полукругом, голова двигается то правее, то левее, и хруст гулко меняет тон, отдаляется, приближается. Время от времени то один, то другой конь отрывается от травы и, оглядевшись, перепрыгивает вперёд, высоко поднимая спутанные ноги. Этим движением он напоминает мне детских коников, их бодрое качание на полозьях, и большие живые лошади тоже кажутся частью детства, подтверждением запредельной сказочности происходящего.
Луговина перед домом. И на ней коровьи лепёшки с мухами настолько рыжими, что кажутся вечно подсвеченными солнцем. Сидят друг на друге, и я называю их «двухэтажными мухами», а взрослые смеются и глаза прячут. На лепёшке дождевая лужица – сбоку зеркальцем, а напросвет жёлтая.
Я зазеваюсь на коней и влезу сандалькой в лепёшку, и нутро лепёшки под корочкой окажется ярким, жёлто-зелёным и остро пахучим. Проскольжу, промажу дорожку по траве и чуть не упаду. Подошва противно-скользкая, никак не вытру.
Запах свежего навоза особенно въедлив после дождя, когда ещё и комары повылезут на мокрые голые ноги. И один белёсо-рыжий, злючий вопьётся в коленку, где поверх ссадины зеленеет смазанный травяной след – елозил по траве на коленках.
4Сегодня сухо и солнышко. Я смотрю на коников. Подходит быстрой походкой бабушка, берёт за руку: «Пойдём на Хутор».
Над деревней сосновый бугор и за ним поле. На бугор колеи в сухой траве. По ним мы и идём. Бабушка наклоняется, показывает: «Тимофеевка, лисохвост». Травы она знает, и ей нравятся названия. Поднимаемся на сосновый бугор. Под ногами шишки. На жаре раскалённая палая хвоя пахнет сильно и терпко. В кронах всегда ровно и отстранённо шумит ветер. Бабушка останавливается: «Видишь, верхушек нет». На некоторых соснах они действительно грубо сбриты, оторваны. Бабушка говорит, что за рекой стояла наша батарея и била по немцам.
Идём дальше – то по опушке, то по полю. Вдоль дороги разорванные гильзы от снарядов, с передней части они расщеперены, изогнуты, как щупальцы. Видимо, рядом рванул боекомплект или склад. Никто не берёт их, не тащит на память, и они лежат, как придорожные камни. В некоторых местах на опушке заросшие ямы от снарядов. Бабушка идёт быстро, и я отстаю, то у снаряда задержусь, то просто канючу.
За бугром поле поднималось к лесу, мы идём по опушке и подходим к хвойному месту – ёлки, сосны сбились как-то особенно семейно. Бабушка останавливается: «Хутор».
5И тут сквозь слои заворожённости, вечной тягуче-медовой обкладки, в которой я пребываю, до меня доходит: оказывается, бабушка здесь жила раньше, да ещё с детьми! И, выходит, домой пришла!
Во мне, будто глыбы, ворочаются пятна времён, и я понимаю, что здесь, среди леса когда-то давным-давно стоял дом Горчаковых. Тех самых дяди Паши и тёти Дуни, у которого мы сейчас живём, но только молодых. Почему они отсюда переехали – не понимаю, наверное, в Хутор попал снаряд. Почему бабушка жила у Горчаковых, не понимаю, но чувствую одно: что мы все родня, все связаны.
– Вот здесь крыльцо было. Нет, здесь. Там вот сарай. Сеновал. Витька сарай поджёг. Кланькин брат.
Кланька и Витька – горчаковские дети.
– Как поджёг?
– Так поджёг. Со спичками играл. Сарай сенной. Там сено было. Поджёг и в лес убежал со страху. Спрятался. А все думали, он там, в сарае.
– А он?
– А он в лесу. Прятался.
Мне всё не даёт покоя Витька.
– А потом?
– Потом пришёл.
– А сарай?
– Сарай сгорел.
– Его ругали?
Бабушка отворачивается…
Солнышко снижается, густеет, горит на соснах… Всё это неподъёмно… Война, бабушкины дети, мама – одна из них… И так далеко, сложно, но каким-то странным образом… оно уже моё. Рыжим закатным солнцем его в меня впекает. Постепенно, задумчиво.
На Хутор мы с бабушкой ходим постоянно. Место заросшее и почти ровное. Никаких почему-то развалин. По краю земляника. Под соснами кошачьи лапки, и мы там сидим с бабушкой. Она берёт книжки и читает мне вслух. «Как муравьишка домой спешил». И нам особенно нравится, когда муравьишка кричит землемеру: «Стой, а то укушу!» Когда на дороге я устаю, а бабушка уходит, я тоже так кричу, и бабушка смеётся.
Лет в двадцать я приехал на это место зимой и у костра выпил бутылку водки. Снег, солнце, сухое сосновое пламя. Замёрзшая до индевелого просверка колбаса. Бабушки уже не было. От выпивки она всю жизнь оберегала меня, как от огня. Но, думаю, на этот раз простила.
Остальное восстановил позже, хотя так и не узнал, кто познакомил бабушку с Горчаковыми и их хутором, где она с детьми три года жила летом до войны. В 1937 году дом на Хуторе сельские власти перевезли в Игнатьево. В 1941 году в районе Игнатьева шли страшнейшие бои. Снаряд действительно был, но попал он не в Хутор, а в дом Горчаковых уже в Игнатьеве! Дом сгорел, и дядя Паша отстроил глиночурочную избёнку, где они зимогорили до стройки нового дома. Мы жили уже в новой избе, и дядя Паша при нас обшивал её тёсом.
Избёнка-глиночурочка меж тем была замечательна: стены сделаны из чурок-тонкомера и поленьев, положенных поперёк, и стены выглядели как кладка из треугольников и кругляшей на глиняном поле. Вид был очень исконный, и, думаю, дом был теплейший.
Помню, на пороге этой избёнки стоял радиоприёмник дяди-Пашиной молодой родственницы, возможно, той самой Клани, и на фоне глиняной стены с древними глазами-торцами вдруг взгорланило: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал…»
6Никогда не чувствовал я так деревенского умиротворения, как в те годы. Естественное счастье просыпания. Постепенность распаляющегося зноя. Единство и моей, и окрестной услады…
В жару вдруг начнёт блажить корова – с переливом в октаву. Овечки, семеня, перебегут крепким и кудрявым облачком, блея на разные лады и твёрдо сыпля блестящим горошком. Снёсшаяся курица вдруг заорёт, или петух найдёт съестное и закудахчет по-особому дробно, на одной гулкой ноте, сзывая куриц, и они побегут сломя голову. Особенно смешно бегут большие рыжие – размашисто орудуя ляжками и наклонив вперёд головы.
Кину кусочек, чтоб курица видела. Она заметила и осторожно приближается, вот сделала шаг и сыграла взад-вперёд шеей, ещё шаг – и ещё раз туда-сюда сходила любопытная голова, будто приводком соединённая с ногами. Курица на меня косится и поворачивает голову в несколько острых отрывистых движений. Я вижу светло-карий глаз, который смаргивает нижним веком, на долю секунды оказывается затянутым и получается дурашливое дохлое выражение. А потом клюёт хлеб и её гребешок трясётся, свешиваясь набок. А на проводе поёт ласточка-касатка, и бабушка говорит, что она в конце песни завязывает узелок. И надо всем этим вдали безмятежно рокочет трактор.
К вечеру стихает шум, медленно и тягуче проходит по деревне стадо, обдавая молочно-навозным чадом и слепнёвым гудом, звонко брякает ботало на рыжей комолой корове… и снова тихо. Изредка ребятня где-то закричит. Телёнок замычит совсем по-детски. А потом слышно только, как дядя Паша отбивает косу в огороде. Чуть темнеет, стелется туманчик по луговине и кричит вдали коростель. Будто по огромной и пересохшей расчёске дерут гвоздём.
Бабушка уже сварила на керосинке кашу, покормила меня, и я лежу на своей кровати, а она читает вслух «Как муравьишка домой спешил». Насекомых я вообще люблю, и мне хочется превратиться в кузнечика и сидеть в травах, чтобы тимофеевка и лисохвост были высокими, как сосны. Читает бабушка и «Жизнь насекомых» Фабра с фотографиями. Ещё была книга «В стране дремучих трав», на которую я питал большие надежды, но мне, пятилетнему или шестилетнему, она показалась заумной, тем более и героя звали Думчев.
Читали мы «Руслана и Людмилу», «Сказку о царе Салтане». И, конечно, повторялось бесконечно «У Лукоморья дуб зелёный», картины которого, не вмещаясь в детский кругозор, только сильнее поражали: как служит бурый волк царевне? Почему бурый? И почему колдун несёт богатыря? И почему так страшно, что именно перед народом?
Ещё была какая-то бабушкина своя ненаписанная сказка, начало которой она любила повторять – очень задумчиво, грустно и мечтательно: «Далеко-далеко за речкой…»
7Бабушка никогда не называла в одно слово «Москва́река», «пойдём на Москварику». Нет. Всегда неспешно – Москва-река́.
На Москве-реке вместо смытых лав уже стоят высокие свеже-жёлтые деревянные мостки. С них мы с бабушкой смотрим на воду. Течение несильное, глубина небольшая, желтоватое дно с крошкой известняка, длинные и волнистые водоросли, про которые бабушка говорит, что это волосы русалок. И сама улыбается почти восхищённо…
В оконце меж русалочьих прядей стоят рыбки, поигрывая тельцами. Для меня открытие, что тельца такие узкие, ножевые и что рыбки держат их вертикально, не заваливаясь на бочок.
Бабушка – речная душа. На море она была один раз, в детстве, и никогда не вспоминала. Не любила пляжный зажар, курортный дух, жила среднерусскими речками и детства без них не представляла.
Бабушка хорошо плавала. Обычно детвора и женщины гребли по-собачьи, а бабушка имела свой стиль – что-то среднее между кролем и сажёнками. Сажёнки (её слово) не раз показывала, очень размашисто и как-то тягуче закидывая руку через верх и кладя набок голову, поворачивая, словно собираясь обернуться, но каждый раз передумывая. Волосы у неё были русые и длинные, для купанья она их укручивала вокруг головы, закалывала шпильками. Однажды замочила волосы и очень огорчилась. Став вдруг неожиданно серьёзной, с потусторонней почти решимостью пресекла мои липучие приставания, мол, бабушка, что случилось, волосы намокли, ну что тут такого?
Купалась бабушка в беззащитно розовом купальнике, набранном из мелких мешочков. Очень белая, стройная, в воду шла, напряжённо щурясь и водя по поверхности руками.
Любила утра и вечера, тогда мы и купались, и мылись, и стирались. Хорошо помню стылое намыленное состояние и беспомощную и виноватую сутулость, с какой намыленный входит в воду. И как плохо мылится мыло, и хлопья уносит теченьем. А бабушка говорит, что вода «жёсткая», и я не понимаю, как жидкое может быть жёстким.
Тихими и задумчивыми были речные вечера. Боковое рыжее солнце с сеевом мелких лучиков, с золотыми иглами совсем подле глаз. Комары, подлетающие неверным шатучим табунком. Я их шлёпаю, а бабушка говорит:
– Ты одного убьёшь, а десять тебя укусят.
– Ну я же его убью!
– Убьёшь. А тебя десять укусят.
И я не понимаю, почему, если меня укусят аж десять, то их шлёпать нельзя.
Редкая грусть подступала ко мне в такие вечера. Она будто не во мне рождалась, а в окрестности. Завязывалась и выводилась в особенно сырых, тихих местах, и только когда уляжется ветер, проливалась, стелилась туманом, серебряной росой садясь на подстывшую детскую душу.
Бабушка в то лето, как заворожённая, бродила со мной по Хутору и его окрестностям. Там был тёмный и высокий ельник с запахом прели и грибницы. По нему шла дорога, две лиловые колеи, кое-где присыпанные сухими иголками. Неестественно зелёная и мясистая трава недвижно стояла промеж колей и по обочинам. Было одно растение, похожее на глухую крапиву, с белыми цветами – небольшими, не то башмачками, не то колокольцами. С неряшливым переходом зелени от лепестков к цветам, и дурманно-тошнотворным запахом.