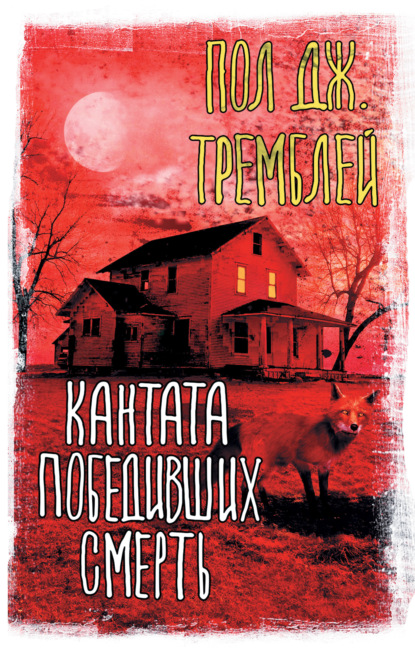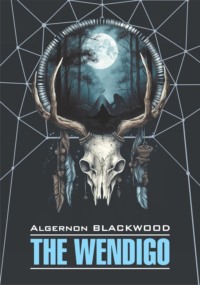Полная версия
Вендиго
Теперь, когда им открылась вся неприглядная истина, они решили поговорить начистоту, отбросив недомолвки и притворство, и трезво оценить факты и свои возможности. Даже на памяти доктора Кэткарта то был далеко не первый случай, когда человек поддавался наваждению Чащи и сходил с ума, тем более что Дефаго был отчасти к этому предрасположен, имея в крови склонность впадать в меланхолию. Организм его, вдобавок, был ослаблен запойным пьянством. Что-то в этой вылазке – невозможно установить, что именно, – послужило спусковым крючком для болезни, и он ушел. Ушел в край деревьев и озер, чтобы умереть от голода и истощения. Шансы, что он сумеет найти лагерь, крайне малы; его умоисступление с тех пор наверняка только усилилось, и вполне может быть, что он совершил над собой насилие, приблизив тем самым ужасный конец. Вероятно, пока они тут беседуют, конец этот уже наступил. Впрочем, все дружно согласились с предложением Хэнка подождать еще немного и весь следующий день, от рассвета до захода солнца, посвятить самому тщательному прочесыванию леса. Они разделятся, и каждый будет искать следы в своем секторе. Обсудив план в мельчайших подробностях, они завели разговор о том, какую именно форму мог принять Ужас Дебрей, поразивший рассудок несчастного проводника. Хэнк, хотя и был в общих чертах знаком с этой легендой, явно не обрадовался повороту, который принимала беседа. Он почти не участвовал в разговоре, но и то, что он успел сказать, пролило немало света на произошедшее. Так, например, он признал, что в этих краях с прошлого года ходят слухи, будто минувшей осенью несколько индейцев «видели Вендиго» на берегах Воды Пятидесяти Островов и что именно по этой причине Дефаго не хотел здесь охотиться. Хэнк, несомненно, полагал, что своими уговорами он в каком-то смысле поспособствовал гибели давнего приятеля.
– Когда индеец сходит с ума, – пояснил он, обращаясь скорее к самому себе, нежели к своим спутникам, – про него говорят, будто он «видел Вендиго». А бедный старый Дефаго верил во все эти бредни! Он же суеверный до мозга костей!
Тогда Симпсон, почувствовав, что обстановка располагает к откровенности, заново рассказал друзьям, как все было. На сей раз он не опустил ни одной подробности и тщательно описал собственные чувства и страхи, умолчав лишь о словах, какие выкрикивал Дефаго.
– Да ведь он сам должен был рассказать тебе эту легенду, дорогой мой, – опять взялся за свое доктор Кэткарт. – И, само собой, его рассказы заронили в твой воспаленный разум семя идей, которое впоследствии проросло и дало плоды!
Тут Симпсон вновь привел факты. Дефаго, заявил он, почти ничего не говорил о чудище из легенд. Он, Симпсон, легенд этих не знал и, насколько мог помнить, даже не читал о них в книгах, а имя зверя слышал впервые.
Конечно, он говорил правду, и доктор Кэткарт вынужден был с неохотой признать, что дело это в высшей степени необычное и таинственное. Впрочем, вслух он ничего подобного не сказал. Изменилось его поведение: он старался не поворачиваться спиной к чаще и всегда следил, чтобы за ним был ствол толстого крепкого дерева; стоило костру начать гаснуть, как он тут же принимался его раздувать; быстрее остальных он настораживался, если из ночной тишины доносились какие-нибудь звуки – плеск рыбы в озере, хруст веток в зарослях кустарника, буханье снежных шапок, подтаявших от теплого воздуха над костром. Голос у Кэткарта тоже изменился, став чуть менее уверенным и тихим. Попросту говоря, страх сковал всех обитателей маленького лагеря, и хотя они с радостью побеседовали бы о чем-нибудь другом, все попытки сменить тему были тщетны: разговор вновь и вновь сводился к обсуждению причины их страха. Хэнк был самым честным из присутствующих и оттого почти всегда молчал. Но и он ни разу за вечер не повернулся спиной к чаще. Лицо его неизменно было обращено к лесу, и, когда приходилось идти за дровами, он не забредал дальше необходимого.
VIIВокруг лагеря стеной стояла тишина, поскольку свежего снега было хоть и немного, но все же достаточно, чтобы приглушать любые звуки; вдобавок все кругом сковал весьма крепкий мороз. Ночную тишь нарушали только их голоса, гул пламени, да изредка что-то проносилось в воздухе с едва различимым звуком, подобным шелесту крыльев ночного мотылька. С отходом ко сну никто не спешил. Дело шло к полуночи.
– А ведь легенда весьма интересная, – заметил доктор, просто чтобы нарушить в очередной раз воцарившееся у костра гробовое молчание. – Вендиго и есть воплощение того самого Зова Дикой Природы, который иные впечатлительные натуры слышат и идут за ним на верную смерть.
– Ваша правда, – отозвался Хэнк. – Если услышишь его – не ошибешься. Он тебя кличет по имени, ей-богу!
Опять наступила тишина. Тогда доктор Кэткарт вернулся к запретной теме, да так поспешно и настойчиво, что остальные в испуге подскочили на месте.
– А все-таки аллегория весьма примечательна! – воскликнул он, озираясь во тьме по сторонам. – Говорят, что Голос напоминает все бесчисленные звуки Чащи разом: вой ветра, плеск воды, крики животных и тому подобное. Стоит жертве услышать это – пиши пропало! Еще говорят, что у бедолаги больше всего страдают ноги и глаза. Ноги, понятное дело, из-за жажды к перемене мест и неостановимого бега, а глаза – от наслаждения красотой. Бедный скиталец мчится с такой скоростью, что стирает ноги, и из глаз у него течет кровь.
Доктор Кэткарт все это время продолжал напряженно вглядываться в окружающую тьму.
– Так и Вендиго, говорят, стирает себе ноги, – очевидно, из-за чудовищной скорости бега и трения о землю. В конце концов они отваливаются, а на их месте отрастают точно такие же.
Симпсон слушал дядю, замирая от ужаса и изумления; однако больше всего его поразила бледность, разлившаяся по лицу Хэнка. Симпсон с радостью заткнул бы уши и зажмурил глаза, если бы посмел.
– А еще он ходит не только по земле, – раздался гнусавый голос проводника. – Но и по небу, да так высоко, что ему кажется, будто его жгут звезды. Иногда он с грохотом оттуда спрыгивает и бежит по верхушкам деревьев, волоча за собой жертву, а потом бросает ее оземь, как скопа швыряет рыбину, чтобы убить ее и съесть. Только жертв своих он не ест. Надо же, из всей дряни, что можно найти в Чаще, его пища – мох! – Он коротко, неестественно хохотнул. – Пожиратель мха, вот он кто, этот Вендиго, – добавил проводник, заглядывая в глаза спутникам. – Пожиратель мха… – И он разразился самой непристойной бранью, на какую только был способен.
Симпсон теперь понял истинное предназначение этого разговора. Больше всего на свете его спутников, сильных и «бывалых» звероловов, пугала сейчас тишина. Беседа служила им защитой от времени, и от мрака вокруг, и от подступающей паники, и от осознания, которое неизбежно постигло бы их, осмелься они хоть на минуту умолкнуть и дать волю самым сокровенным своим мыслям: они одни-одинешеньки во вражеском стане. Тут Симпсон имел над остальными превосходство, ведь он уже пережил одну такую ночь, прошел крещение ужасом, и душа его, очерствев, стала к нему невосприимчива. А души этих двоих – рассудительного, скептически настроенного доктора и сурового знатока леса – пробирал сейчас самый настоящий сокровенный ужас.
Так шли часы; и так, упрямо крепясь духом, эти трое представителей человеческого рода, забравшиеся в самую пасть безлюдной глуши, сидели у костра и вели неразумные беседы об ужасной, бередящей душу легенде. Учитывая произошедшее, битва им предстояла неравная, ведь у Природы было преимущество первого удара, и она успела взять одного заложника. Судьба пропавшего товарища тяготила всех троих, ложась на сердце тяжким бременем, и в конце концов бремя это стало невыносимым.
Первым не выдержал Хэнк. Когда у костра в очередной раз воцарилось молчание, которое никто не в силах был нарушить, проводник внезапно дал волю накопившимся чувствам, причем сделал это весьма своеобразно: вскочил и испустил в ночной мрак оглушительный вопль. Казалось, он больше не мог себя сдерживать. Простым криком он не ограничился: чтобы звук разнесся как можно дальше, он, крича, похлопывал себя ладонью по губам.
– Это для Дефаго, – пояснил он, поглядев на своих спутников и странно, вызывающе хохотнув. – Для моего старинного дружка! – Опустим все сложносочиненные ругательства, какими он сдобрил свою речь. – Зуб даю, он сейчас где-то рядом!
В этой выходке Хэнка было столько безрассудства и слепой ярости, что Симпсон от страха невольно вскочил на ноги, а у доктора изо рта выпала трубка. Лицо Хэнка было мертвенно-бледным, и Кэткарт внезапно потерял всякое самообладание. Гневно сверкнув глазами, он тоже встал, хотя и с неспешностью, обусловленной привычкой держать себя в руках, и приблизился вплотную к проводнику. Тот вел себя недопустимо, глупо, опасно в конце концов, и это следовало сейчас же прекратить.
Можно долго рассуждать о том, что случилось бы дальше, но доподлинно мы никогда этого не узнаем: в мертвой тишине, воцарившейся сразу после того, как Хэнк испустил свой чудовищный вопль, и словно бы в ответ ему что-то с огромной скоростью пронеслось в небе над их головами – что-то очень крупное, поскольку оно рассекало воздух со свистом, – а потом вдруг раздался слабый и тонкий человеческий крик, полный неописуемого страдания и мольбы:
– О! О, эта огненная высь! О! Мои ноги горят огнем! Как жжет!
Побелев до самого воротника рубашки, Хэнк ошалело озирался по сторонам, как испуганное дитя. Доктор Кэткарт, прокричав что-то нечленораздельное, в ужасе кинулся было к единственному укрытию – палатке – и замер на месте как вкопанный. Один лишь Симпсон сохранил некоторое присутствие духа. Его собственный ужас засел слишком глубоко и не мог сразу же дать о себе знать. И потом, Симпсон уже слышал этот зов.
Повернувшись к остолбеневшим товарищам, он совершенно спокойно произнес:
– Вот этот крик я и слышал! Эти самые слова.
Запрокинув голову к небу, он завопил:
– Дефаго! Дефаго! Давай к нам! Спускайся!
И, прежде чем они успели что-либо предпринять, раздался треск, что-то тяжелое упало с неба, ломая на лету сучья деревьев, и со страшным грохотом ударилось о мерзлую землю. Треск и шум были поистине ужасающими.
– Это он, Господи помилуй! – сдавленно зашептал Хэнк, машинально выхватывая из-за пояса охотничий нож. – Он идет! Идет сюда! – добавил проводник, хохоча от ужаса, и в следующий миг умолк: из темноты к костру приближались по снегу тяжелые шаги.
Неверные шаги звучали все ближе и ближе, а три охотника стояли на месте. Доктор Кэткарт в считаные секунды постарел; взгляд его был пуст и неподвижен. Хэнк так невыразимо страдал, что, казалось, вот-вот выкинет еще что-нибудь, однако он тоже стоял, не шевелясь, точно высеченный из камня истукан. Все они напоминали потрясенных детей – зловещее зрелище! А шаги все близились, и все громче скрипел под чьими-то невидимыми ногами мерзлый снег. Это медленное, размеренное и неотвратимое приближение тянулось слишком долго – словно все происходило в кошмарном бреду.
VIIIИ вот наконец тьма, зачавшая в таких муках, разродилась: в круг неверного света, где зарево от костра мешалось с тенями, ступила фигура. Секунду она медлила, незряче вглядываясь в охотников, а потом странной, дерганной поступью марионетки двинулась дальше, к самому костру, вышла на яркий свет, и тут все наконец увидели, что это человек. Не кто-нибудь, а сам Дефаго.
В этот миг пелена ужаса, казалось, заслонила лица всех присутствующих, и сквозь нее три пары сверкающих глаз словно заглянули за пределы обычного зрения и увидели Неведомое.
Дефаго двигался шатким, разболтанным шагом; сперва он приблизился ко всей троице, затем резко повернулся к Симпсону. С губ его слетело:
– Вот и я, шеф Симпсон! Кажется, меня звали. – Он говорил сиплым, сухим, едва различимым голосом человека, находящегося на грани смерти. – Черт, ну и горячий прием мне там устроили! – И он захохотал, откинув голову и заглядывая в лицо юноше.
Его смех привел в движение всю группу застывших фигур с белыми, как воск, лицами: Хэнк кинулся вперед, изрыгая такую невообразимую брань, что Симпсон даже не узнал в ней родного наречия и решил, что проводник с испугу перешел на язык какого-нибудь индейского племени или иной неизвестный диалект. И все же юноша очень обрадовался – необычайно обрадовался, – что тот встал между ним и Дефаго. Доктор Кэткарт тоже приближался, но медленней, то и дело оступаясь.
Симпсон почти не помнит, что было сказано и сделано в следующие минуты, ибо вид омерзительного призрака, подошедшего к нему почти вплотную и уставившего на него свой исступленный взгляд, сперва привел его в полнейшее замешательство. Он остолбенел. И ничего не говорил. Не обладая закаленной волей своих старших товарищей, заставлявшей их действовать вопреки даже самым сильным душевным потрясениям, он просто стоял и смотрел. Все происходило точно за стеклом и оттого казалось почти ненастоящим: кошмарное видение, порожденное воспаленным сознанием. Сквозь потоки бессмысленных ругательств Хэнка он все же различил властный голос дядюшки, сдавленный и хриплый, который говорил что-то о тепле и горячей пище, одеялах, виски и тому подобном… А потом в нос ударило то самое неведомое зловоние, сбивающее с толку, едкое и одновременно сладкое.
Однако именно он, Симпсон, – охотник куда менее опытный и искушенный, чем остальные, – сформулировал и произнес слова, сумевшие немного разрядить чудовищную обстановку, потому что кто-то наконец выразил вслух сомнения и страхи всех троих охотников.
– Это… это ведь вы, Дефаго? – спросил он срывающимся от ужаса голосом.
И тут же, не успел проводник хотя бы пошевелить губами, Кэткарт выпалил громогласный ответ:
– Конечно, это он! Конечно! Но ты разве не видишь, что он полумертв от усталости, холода и страха! Разве подобные испытания не способны изменить человека до неузнаваемости?
Ясно было, что так Кэткарт пытался успокоить остальных и самого себя, о чем говорил хотя бы сделанный им упор на слове «испытания». При этом он непрерывно зажимал нос платком: весь лагерь заполнила та самая едкая вонь.
В действительности сидевший у жаркого костра «Дефаго», закутанный в толстое одеяло, с кружкой виски и куском хлеба в иссохших руках, не больше походил на себя самого, каким его видели в последний раз, чем человек шестидесяти лет похож на юношу с дагеротипа, где он запечатлен в одежде давно минувшей эпохи. Никакими словами не описать, сколь неправдоподобно, почти карикатурно выглядело существо, выдающее себя за Дефаго. Порывшись в руинах кошмарных воспоминаний о том дне, Симпсон заявляет, что лицо его скорее было звериным, нежели человеческим. Черты стали непропорционально вытянутыми, кожа одрябла и висела складками, как если бы ее долго и с огромным усилием тянули во все стороны. Симпсону невольно вспомнились головы из бычьих пузырей, какими торговали в лавках Ладгейт-хилла: когда их надуваешь, они меняют выражение лица, а при сдувании испускают тихий писк, отдаленно напоминающий человеческий голос. И лицо, и голос этого существа имели такое же отдаленное сходство с лицом и голосом Дефаго. Когда Кэткарт впоследствии стал пытаться объяснить необъяснимое, он предположил, что так может выглядеть лицо человека, долгое время пребывавшего в разреженной атмосфере, где на тело не давит атмосферный столб, отчего оно становится рыхлым и грозит разлететься в клочья…
Наконец Хэнк сдвинул дело с мертвой точки; трясясь от обуревавших его неизъяснимых чувств, с которыми он при всем желании не мог сладить, он немного отошел от костра, видимо, чтобы не слепил яркий свет пламени, и, прикрыв глаза руками, громко закричал. В его голосе чудовищным образом смешивались ярость и любовь:
– Ты не Дефаго! Ты не Дефаго, и точка! Чтоб мне… провалиться, но ты не мой друг, которого я знаю больше двадцати лет! – Он воззрился на съежившуюся у огня фигуру так, словно хотел испепелить ее взглядом. – А если это ты, то я готов до скончания веков зубочисткой драить полы в преисподней! Господи помилуй… – добавил он, охваченный омерзением и ужасом.
Заставить его умолкнуть было невозможно. Хэнк вопил как одержимый, и слова его, и лицо вселяли ужас – потому что он был прав. Он вновь и вновь повторял свою мысль, твердил ее на разные лады, выбирая все более витиеватые выражения. В лесу звенело эхо его криков. Наконец Хэнк разбушевался настолько, что, казалось, он вот-вот набросится на «самозванца»: рука его то и дело тянулась к длинному охотничьему ножу, заткнутому за пояс.
Однако он этого не сделал, и очень скоро буря завершилась громкими слезами. Голос Хэнка вдруг надломился, а сам он рухнул на землю, после чего Кэткарту удалось уговорить его вернуться в палатку и прилечь. За остальными событиями Хэнк наблюдал из укрытия: белое и напуганное лицо его маячило в темной щели приподнятого полога.
Доктор Кэткарт и его племянник, которому по-прежнему лучше остальных удавалось сохранять самообладание, решительно двинулись к скорченной у огня фигуре. Доктор поглядел на него в упор.
– Дефаго, расскажите же, что с вами произошло – хотя бы в двух словах, чтобы мы понимали, как вам помочь! – властным и твердым, почти приказным тоном произнес он, однако вскоре голос его изменился, ибо создание, обратившее к нему свое лицо, имело вид столь жалкий, столь ужасающий и нечеловеческий, что доктор невольно отпрянул, как от нечистого духа. Внимательно наблюдавший за всем этим Симпсон говорит, что лицо Дефаго походило на маску, которая вот-вот отвалится, явив им во всей ужасающей наготе нечто черное, злое, дьявольское… – Говорите же, Дефаго, выкладывайте! – испустил Кэткарт вопль, в котором ужас мешался с мольбой. – Это невыносимо!.. – То был зов не разума, но инстинктов.
И тогда «Дефаго», осклабившись, ответил тонким голосом, переходящим в звук совсем иного рода:
– Я видел великого Вендиго, – прошептал он и принюхался – точь-в-точь, как зверь. – Я носился с ним по свету…
Хотел ли он что-то добавить – и стал бы доктор Кэткарт продолжать свой бессмысленный допрос, – теперь сказать нельзя, потому что их разговор пресек дикий вой Хэнка из палатки: самого проводника было не видно, лишь сверкали его вытаращенные от ужаса глаза. Так он не вопил еще никогда.
– Его ноги! Господи, посмотрите на его ноги! Они… изменились, они огромные!
Дефаго в ту минуту придвинулся к костру так близко, что его ноги впервые оказались на свету и их можно было хорошо разглядеть издалека. Симпсон, однако, не успел увидеть того, что видел Хэнк, потому что его дядя испуганным тигром метнулся к Дефаго и накинул одеяло ему на ноги, причем сделал это так поспешно, что студент-богослов лишь мельком заметил странное темное нагромождение там, где должны были быть ноги проводника, обутые в мокасины.
И вдруг, не успел доктор что-либо предпринять, а Симпсон – хотя бы придумать вопрос, Дефаго вскочил, пошатнулся от боли, и бесформенное искаженное лицо приняло столь зловещее и грозное выражение, что его можно было назвать только мордой чудища.
– Вы тоже это видели, – просипел он, – видели мои ноги, что горят огнем! А теперь… если вам не вздумается меня спасать… Прощайте…
Его скорбное завывание вдруг прервал звук, напоминающий рев урагана над озером. Спутанные еловые лапы над их головами дрогнули. Пламя в костре легло, словно от порыва ветра, и что-то громадное со свистом налетело на лагерь, захлестнув его целиком. Дефаго отшвырнул одеяла, повернулся к лесу за спиной и той же дерганной поступью, какой пришел, исчез в чаще – сгинул, прежде чем кто-либо успел что-то предпринять, растворившись во мраке с поразительной, сверхъестественной быстротой. Тьма будто проглотила его, а секунд через десять или того меньше над стенаниями деревьев и ревом внезапно поднявшегося ветра раздался крик, летевший с самих небес:
– О! О, эта огненная высь! О! Мои ноги горят огнем! Горят огнем!..
А потом и он исчез в неведомых безмолвных далях.
Доктор Кэткарт, мгновенно овладев собой, тотчас взял дело в свои руки и едва успел перехватить Хэнка на пути к Чаще.
– Я должен понять… Слышишь, ты! – верещал проводник. – Я должен… увидеть! Это не он, а… ей-богу, в его шкуру влез дьявол!..
Неизвестно, как доктору это удалось – он признает, что и сам толком не помнит, – но он сумел вернуть Хэнка в палатку и успокоить его. Кэткарт, очевидно, вошел в то состояние, когда над инстинктами возобладала внутренняя сила и собранность. Ему в самом деле замечательно удалось «сладить» с Хэнком, а вот племянник, до сих пор чудом державший себя в руках, напугал его не на шутку: напряжение и ужас последних дней вылились в слезливую истерию, из-за чего пришлось уложить его на импровизированное ложе из ветвей и одеял подальше от Хэнка, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах.
Покуда над лагерем тянулись последние часы той проклятой ночи, он лежал в одиночестве, испуганно вскрикивая или бормоча что-то нечленораздельное в скомканное одеяло. К отдельным возгласам о высоте и скорости примешивались обрывки заученных в школе библейских цитат. То он стенал: «Люди с изувеченными лицами идут сюда! Они горят огнем! О, как страшна их поступь!», то вдруг садился и начинал прислушиваться к темноте, шепча: «Эти ноги… как ужасны ноги лесных скитальцев…», и дядя подходил к нему, чтобы направить его мысли в иное русло и успокоить его.
К счастью, истерия оказалась временной. В конце концов сон исцелил и юношу, и Хэнка.
До самых рассветных сумерек, забрезживших около пяти часов утра, доктор Кэткарт нес свой дозор. Лицо его стало цвета мела, кожа под глазами странно вздулась и побагровела – то были только внешние приметы непримиримой борьбы, которую его воля все эти часы вела с подступающим неизъяснимым ужасом.
На рассвете Кэткарт сам развел огонь, приготовил завтрак и разбудил остальных; к семи утра они уже снялись с лагеря и поплыли обратно, на первую стоянку, – три сбитых с толку измученных человека, каждый из которых худо-бедно одолел внутреннее смятение и сумел установить в душе некое подобие порядка.
IXГоворили мало и только о самых простых, обыденных вещах, ведь у каждого в голове по-прежнему гремели вопросы без ответов, и никто не осмеливался задать их вслух. Первым пришел в себя Хэнк, который оказался ближе остальных к природе и оттого имел более простое душевное устройство. Доктору Кэткарту отразить неизъяснимую угрозу помогла его «цивилизованность», и она же оказала ему медвежью услугу. По сей день у него «нет уверенности» по некоторым вопросам, и на «возвращение к себе» ему потребовалось больше времени, нежели остальным участникам событий.
Симпсон, студент-богослов, пожалуй, лучше других справился с попыткой увязать воедино все сделанные выводы о случившемся, пусть объяснение у него получилось и не слишком научное. Там, в сердце реликтовой глуши, они стали свидетелями существования некой грубой первозданной силы, которая все это время тайно жила в лесу, вдали от людей, и вдруг самым жутким образом явила себя во всей своей громадности и неукротимости. Симпсон полагал, что им выпала возможность заглянуть в те доисторические времена, когда сердцами людей еще правили суеверия, дикие, примитивные и незыблемые, когда природа еще не была укрощена, а Силы, управлявшие первобытной Вселенной, еще не покинули наш мир. По сей день он размышляет о том, что в написанной им много лет спустя проповеди назвал «дремучими и грозными Духами, обитающими за пределами людского разумения, не злыми по сути своей, но все же инстинктивно враждебными по отношению к современному человеку».
Симпсон ни разу не обсуждал с дядей тех событий: слишком высока оказалась преграда, разделяющая умы двух этих людей. Лишь однажды, много лет спустя, что-то натолкнуло их на разговор – не о самом происшествии даже, а об одной маленькой детали…
– Разве не можешь ты хотя бы примерно описать, как выглядели его ноги? – спросил племянник.
И ответ дяди, сколь угодно мудрый, не слишком обнадежил его:
– Лучше тебе не пытаться это узнать.
– Ну а запах? – не унимался Симпсон. – Что ты скажешь о нем?
– Запахи, – ответил дядя, – в отличие от звуков и того, что видимо глазу, гораздо сложнее передать телепатически. Я в этом смыслю так же много – или, вернее сказать, так же мало, – как ты сам.
В тот раз он, вопреки своему обыкновению, даже не стал разглагольствовать. Больше они эту тему не затрагивали.
На исходе дня, замерзшие, усталые и оголодавшие после долгого перехода путники притащились наконец к стоянке, которая на первый взгляд показалась им пустой. Костер не горел, и Шатун не вышел им навстречу. Душевные потрясения последних дней не позволили охотникам выказать ни удивления, ни досады; однако спонтанный крик радости, сорвавшийся с губ Хэнка, когда тот ринулся к кострищу, должен был послужить остальным сигналом, что их удивительные приключения еще не закончились. Позднее и Кэткарт, и его племянник утверждали одно: стоило Хэнку подлететь к остывшему кострищу и крепко обнять что-то прислоненное к стволу дерева, они оба «нутром почуяли», что это Дефаго – настоящий Дефаго, вернувшийся из своих странствий.