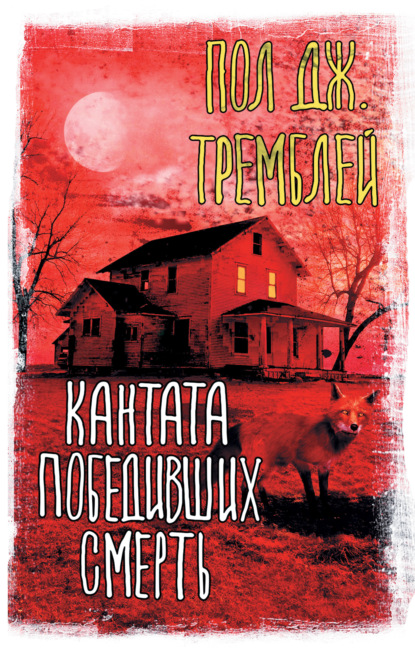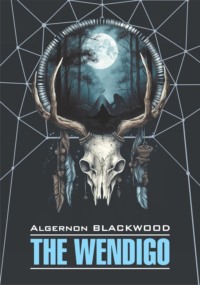Полная версия
Вендиго
– Дефаго, – наконец сказал он, – этот лес такой огромный, что чувствуешь себя как-то неуютно, верно?
Он просто облек в слова собственные ощущения и не ожидал, что Дефаго воспримет их так серьезно, так близко к сердцу.
– Тут вы в точку попали, шеф, – ответил тот, уставив на Симпсона пытливый взгляд карих глаз. – В самую точку! У этого леса нет ни конца, ни края. – Он помедлил и добавил уже тише, словно обращаясь к самому себе: – Из тех, кто это понял на собственной шкуре, многие тронулись умом.
Его серьезные слова пришлись Симпсону не по душе, слишком уж зловеще они прозвучали в данных обстоятельствах. Шотландец невольно пожалел, что поднял тему. Ему вспомнился дядин рассказ о странном умоисступлении, какое порой находит на покорителей лесной чащобы: соблазн перед необитаемыми просторами оказывается столь велик, что они, не разбирая дороги, бредут все вперед и вперед, наполовину околдованные, наполовину обезумевшие, покуда не испустят дух. Симпсон подметил, что его проводнику не понаслышке знакомы чувства этих безумцев. Он переменил тему, заговорив о Хэнке, докторе и естественном соперничестве, которое теперь ведется между двумя группами охотников: кто первым заметит лосей?
– Если они весь день шли прямиком на запад, – беспечно заметил Дефаго, – то теперь нас разделяет миль шестьдесят. А Шатун, небось, знай себе набивает брюхо рыбой да нашим кофе!
Они вместе посмеялись над этой картиной. Однако небрежное упоминание шестидесяти миль вновь заставило Симпсона поежиться и осознать грандиозный размах этого края, куда они приехали на охоту; шестьдесят миль были каплей в море, двести миль – чуть больше, чем каплей. В памяти невольно всплывали истории о пропавших без вести охотниках. Страсть и любопытство, влекшие этих бесприютных странников все дальше и глубже в дивные лесные дебри, внезапно захлестнули и его душу. Чувство было чересчур резким и пронзительным – приятного мало. Симпсон невольно задумался, уж не настроение ли Дефаго вызывает в нем эти непрошеные мысли.
– Спой-ка песню, Дефаго, если еще есть силы, – попросил он. – Старинную вояжерскую песню из тех, что ты пел вчера вечером.
Он вручил проводнику кисет с табаком, а позже набил и свою трубку, пока легкий голос канадца струился над озером в протяжном, почти заунывном напеве, какими лесорубы и звероловы облегчают свой изнурительный труд. Песня обладала притягательным романтическим звучанием, навевая воспоминания о тех днях, когда американские первопроходцы покоряли новые земли, где индейцы и природа были заодно, сражения происходили едва ли не каждый день, а дом был гораздо дальше, чем сегодня. Голос Дефаго красиво и далеко летел над водой, а вот лес его проглатывал в один присест, не оставляя ни эха, ни отзвука.
Посреди третьего куплета Симпсон заметил нечто такое, что моментально вырвало его из мечтаний о давних временах и заставило вернуться в настоящее. С голосом Дефаго происходили странные перемены. Симпсон даже не успел осознать, в чем дело, как его охватила тревога. Он вскинул голову и заметил, что Дефаго, не переставая петь, пристально вглядывается в Чащу, словно что-то увидел там или услышал некий шум. Голос его стал стихать, сменился шепотом, а потом и вовсе умолк. Тотчас Дефаго вскочил на ноги, замер ипринюхался. Как легавая, зачуявшая добычу, он стал часто-часто втягивать носом воздух, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Наконец сделал «стойку» и уставился вдоль берега на восток. Зрелище было неприятное и пугающее, при этом полное необычайного драматизма. Симпсон наблюдал за происходящим с замиранием сердца.
– Господи, Дефаго! Я чуть не умер от страха! – воскликнул он, подскочив к проводнику и вглядываясь через его плечо в черную тьму над озером. – Что случилось? Вас что-то напугало?
Не успел этот вопрос слететь с его губ, как он понял, что спрашивает напрасно: только слепец не увидел бы, что Дефаго побелел, как полотно. Даже загар и алые отсветы пламени не могли скрыть его бледности.
Студента забила дрожь, коленки подогнулись.
– Что такое? – спешно повторил он. – Вы учуяли лося? Или что-то непонятное, что-то… плохое? – Он невольно понизил голос.
Лес стоял вокруг них плотной стеной; стволы ближайших деревьев приглушенно светились бронзой, а за ними начиналась непроглядная тьма и, быть может, таилась смерть. Прямо за спинами охотников ветерок поднял с земли упавший лист, словно бы осмотрел его и мягко положил обратно, не потревожив остальные. Казалось, миллионы невидимых причин соединились, чтобы произвести это единственное зримое действие. Биение иной жизни на миг проступило из тьмы вокруг – и исчезло.
Дефаго резко обернулся к Симпсону; его мертвенно-белое лицо стало грязно-серым.
– Ничего я не слышал… и не чуял… Вот еще! – медленно, с расстановкой выговорил он со странным вызовом в голосе. – Я просто… осмотреться хотел… так сказать. Вечно ты торопишься с вопросами, не разобравшись, что к чему. – Потом, сделав над собой видимое усилие, он добавил обычным голосом: – Спички найдутся, шеф?
Он раскурил трубку, которую успел набить наполовину перед тем, как запеть. Не обменявшись больше ни единым словом, они вновь устроились у костра, только Дефаго сел теперь по ветру. Даже неопытный охотник понял бы, зачем он это сделал: чтобы услышать и унюхать все, что можно было услышать и унюхать. Сев спиной к лесу, он дал понять, что вовсе не оттуда следовало ждать угрозы, которая столь странным и неожиданным образом подействовала на его поразительно чуткие нервы.
– Петь что-то расхотелось, – заговорил Дефаго. – Нехорошие воспоминания в голову лезут. Напрасно я запел эту песню. Сразу мерещится всякое, понимаешь?
Проводник явно боролся с неким сильнейшим чувством. Он хотел как-то оправдаться перед спутником. Однако предложенное им объяснение, правдивое лишь отчасти и, следовательно, ложное, не обмануло Симпсона. Никакие воспоминания не способны вызвать в человеке того неприкрытого испуга, что исказил лицо Дефаго, когда тот стоял на берегу озера и принюхивался. И ничто – ни жаркий костер, ни болтовня на обыденные темы – не могло бы теперь разрядить обстановку и вернуть лагерю былое ощущение безопасности. Тень безотчетного, неприкрытого ужаса, что успел отразиться на лице и во всех движениях проводника, пусть неопознанного, смутного и оттого еще более могущественного, легла и на Симпсона. Очевидные усилия Дефаго по сокрытию правды только подлили масла в огонь. Вдобавок юный шотландец тревожился и терзался оттого, что теперь было трудно – решительно невозможно! – задавать какие-либо вопросы об индейцах, диких животных, лесных пожарах… Все эти темы, сознавал он, теперь под запретом. Воображение Симпсона отчаянно хваталось то за одну догадку, то за другую, но все было тщетно.
Еще час-другой охотники курили, беседовали и грелись у большого костра; наконец тень, столь внезапно накрывшая их мирный лагерь, начала рассеиваться. То ли усилия Дефаго все же принесли плоды, то ли прежний спокойный и безмятежный настрой вернулся к нему сам собой; вполне может быть, что у Симпсона с перепугу просто разыгралось воображение; или же свое целебное действие оказал бодрящий лесной воздух. Как бы то ни было, ощущение неизъяснимого ужаса исчезло так же загадочно, как появилось, и никаких событий, способных его воскресить, более не происходило. Симпсону начало казаться, что он, как неразумное дитя, просто вообразил себе невесть что. Отчасти он списывал свой страх на подспудное волнение крови, вызванное грандиозностью окружавших их пейзажей, отчасти – на воздействие одиночества, а отчасти – на переутомление. Да, внезапная бледность проводника плохо поддавалась объяснению, но все же она действительно могла просто примерещиться Симпсону: сделала свое дело игра отсветов пламени вкупе с разыгравшейся фантазией… Будучи шотландцем, он мог подвергнуть сомнению все что угодно.
Когда непривычные ощущения исчезают, человеческий ум всегда подыскивает им десятки разумных объяснений… Раскуривая на сон грядущий последнюю трубочку, Симпсон пытался посмеяться над собой. Да уж, дома, в Шотландии, ему будет что вспомнить! Он не сознавал, что смех его был верным признаком ужаса, все еще таящегося в темных закоулках души, что именно так не на шутку напуганный человек обычно пытается заверить себя, что он ничуть не напуган.
Дефаго, заслышав тихий смешок Симпсона, удивленно поднял глаза. Двое стояли рядышком у костра, затаптывая перед отходом ко сну последние тлеющие угли. Было десять вечера – для охотников час уже поздний.
– Что смешного? – спросил Дефаго своим обычным, но все же серьезным тоном.
– Да так… припомнил леса у себя на родине – маленькие, будто игрушечные, – с запинкой выдавил Симпсон: вопрос проводника заставил его вернуться к ненадолго забытой, но господствующей в сознании мысли. – Не то что… этот. – Он обвел рукой Чащу вокруг.
Оба притихли.
– Я поостерегся бы смеяться, – наконец произнес Дефаго, вглядываясь через плечо Симпсона в темноту. – Там, в глуши, есть такие места, куда никто никогда не заглядывал… И никому не ведомо, что в тех местах обитает.
– Слишком они… отдаленные? Глухие? – спросил Симпсон, услышав в речи Дефаго намек на нечто огромное и ужасное.
Дефаго, помрачнев лицом, кивнул. Ему тоже было не по себе. Юноша догадался, что в «глухомани» таких размеров могут быть заповедные уголки, куда нога человека за всю историю мира никогда не ступала и не ступит. Мысль была не из приятных. Громким веселым голосом он объявил, что пора на боковую. Проводник мешкал: возился с кострищем, зачем-то перекладывал камни и вообще делал то, в чем не было явной необходимости. Ему будто хотелось что-то сказать, но он не знал, с какой стороны к этому подступиться.
– Слышь, босс Симпсон, – вдруг начал он, когда в воздух поднялся последний залп искр, – ты случаем ничего не чуешь? Ничего… эдакого?
За невинным вопросом явно скрывалось что-то важное и страшное. По спине Симпсона пробежала дрожь.
– Да нет… Кроме костра ничем вроде не пахнет, – отозвался он, вновь принявшись затаптывать угли и невольно вздрогнув от собственного топота.
– Раньше тоже ничем не пахло? – допытывался проводник, сквозь тьму сверля Симпсона взглядом. – Не чуял ничего странного, необычного, ни на что не похожего?
– Да нет же, ничего! – в сердцах ответил Симпсон, начиная злиться.
Лицо Дефаго прояснилось.
– Вот и славно! – воскликнул он с видимым облегчением. – Очень рад слышать.
– А вы что учуяли? – резко спросил Симпсон и сразу пожалел о своем вопросе.
Канадец приблизился к нему в темноте и помотал головой.
– Да нет, ничего, – отозвался он без особой уверенности в голосе. – Наверное, песня виновата. Ее поют в лагерях дровосеков и прочих богом забытых местах, когда боятся, что где-то рядом совершает свой стремительный путь Вендиго…
– Силы небесные, что еще за Вендиго? – выпалил Симпсон, досадуя, что вновь не сумел предотвратить невольного содрогания нервов.
Он понимал, что почти подобрался к тайне Дефаго и причине его ужаса. Однако взыгравшее любопытство оказалось сильнее страха и доводов разума.
Дефаго резко повернулся к нему и вытаращил глаза, словно вот-вот закричит. Глаза его сияли, открытый рот перекосило, однако вместо вопля с губ сорвался лишь едва различимый шепот:
– Да так… Ерунда… Враки, какими всякие проходимцы любят друг дружку пугать, когда упьются… Живет, мол, там… – Дефаго мотнул головой на север. – Живет там огромный могучий зверь, быстрый, как молния, больше любой лесной твари, ну и не шибко приятный с виду… Вот и все!
– Местные суеверия… – начал было Симпсон, поспешно пятясь к палатке, чтобы стряхнуть с себя руку Дефаго. – Идемте, идемте, ради бога, и скорей зажигайте фонарь! Пора нам с вами укладываться, если завтра хотим подняться с первыми лучами…
Проводник шел следом за ним.
– Иду, иду, – доносился из темноты его голос. – Иду…
Через некоторое время он подошел с горящим фонарем и повесил его на гвоздь, вбитый в переднюю стойку палатки. Когда он это сделал, тени сотен деревьев мелькнули по матерчатым стенкам, а потом вся палатка содрогнулась, словно от порыва ураганного ветра: это Дефаго, торопясь нырнуть внутрь, споткнулся о растяжку.
Оба, не раздеваясь, легли на хитроумно сложенные постели из пихтовых ветвей. Внутри было тепло и уютно, однако со всех сторон палатку теснили мириады деревьев и мириады теней, норовящих проглотить их крошечное жилище, похожее на белую скорлупку в бескрайнем лесном океане.
Однако и в палатке между двумя одинокими фигурками охотников лежала тень – порождение не ночи, но Страха – того самого, до сих пор так и не изгнанного, что одолел Дефаго, когда тот затянул свою печальную песнь. Симпсон, глядя во тьму за откинутым пологом палатки и готовясь нырнуть в душистый омут сна, впервые в жизни познал удивительную, безбрежную, единственную в своем роде тишину первозданного леса, когда ее не нарушает ни единое дуновение ветра… и когда ночь обретает вес и тело, входя в человеческую душу и обволакивая ее черным покрывалом… Наконец он заснул.
IIIПо крайней мере, Симпсону казалось, что он спит. Плещущие за пологом палатки волны еще отбивали время своими стихающими толчками, когда он осознал, что лежит с открытыми глазами и что в тихий шелест волн коварно и едва заметно вплетается иной звук.
Задолго до того как Симпсон понял происхождение звука, тот разбудил в его мозгу участки, отвечающие за тревогу и жалость. Он вслушивался в темноту напряженно и поначалу тщетно, ибо в ушах его ревела и била во все барабаны кровь. Откуда несется этот звук, гадал Симпсон, с озера или из лесу?..
Вдруг он с замиранием и трепетом сердца осознал, что звук раздается совсем рядом, прямо за палаткой. Симпсон приподнялся на локтях, чтобы лучше слышать, и понял, что источник звука находится в паре футов от него. То был плач: Дефаго, лежавший на постели из пихтовых ветвей, рыдал в темноте так безутешно, словно у него разбивалось сердце, и пытался заглушить всхлипы, зажимая рот скомканным одеялом.
Первым чувством Симпсона, не успевшего еще осознать или обдумать происходящее, был прилив щемящей нежности. Сокровенные звуки человеческого плача в безлюдной глуши пробуждали жалость – так они были несуразны, так прискорбно неуместны и так напрасны! Что толку от слез в этом диком и жестоком краю? Симпсон вообразил дитя, безутешно рыдающее посреди Атлантического океана… А потом, конечно, он пришел в себя, вспомнил события минувшего вечера, и леденящий кровь ужас охватил все его существо.
– Дефаго, – прошептал он. – Что такое? – Он старался говорить как можно ласковей. – Вам больно?.. Грустно?..
Ответа не последовало, но звуки мгновенно утихли. Симпсон протянул руку и дотронулся до проводника. Тот не шелохнулся.
– Вы не спите? – Ему пришло в голову, что Дефаго мог плакать во сне. – Вам холодно?
Он заметил, что голые ноги проводника торчат из палатки, и закутал их своим одеялом. Проводник во сне сполз вниз, к выходу, и пихтовые ветви как будто сползли вместе с ним. Очевидно, он не стал поправлять постель, потому что боялся разбудить Симпсона.
Симпсон осторожно задал еще пару вопросов, но ответа так и не дождался. Дефаго не шевелился. Теперь с его стороны доносилось лишь тихое и мерное дыхание. Еще раз ласково положив руку ему на грудь, Симпсон почувствовал, как та вздымается и опадает.
– Если что не так – дайте знать, – прошептал он. – Или если вам нужна помощь. Сразу меня будите, если почувствуете… неладное.
Других слов Симпсон не нашел. Он снова лег, гадая, как все это понимать. Дефаго, понятное дело, плакал во сне. Ему явно что-то приснилось. Однако звуки его плача Симпсон запомнил на всю жизнь, такие они были жалобные и пронзительные, да еще это ужасное чувство, словно громадная Чаща внимательно, настороженно слушает…
Симпсон еще долго крутил в уме последние события, иэто событие заняло свое место в их загадочной череде. Хотя аналитический ум юноши благополучно развеял все неприятные предположения, беспокойство никуда не делось: странная, неизъяснимая тревога пустила упрямый корень в самую глубь его сознания и не желала отступать.
IVВ конце концов сон оказывается сильнее любых чувств. Мысли Симпсона вновь принялись блуждать; он лежал в тепле и уюте и ощущал, как усталость берет над ним верх; ночь утешала и убаюкивала, смягчая острые края тревожных воспоминаний. Не прошло и получаса, как он, забывшись сном, уже не видел и не слышал ничего вокруг себя.
Однако в его случае сон нес лишь опасность, притупляя внимание и заглушая отчаянные предостережения нервов.
Как порой бывает в ночных кошмарах, когда череда поспешно сменяющих друг друга событий наводит на человека ужас своим правдоподобием, а потом какая-нибудь мелкая несуразная подробность вдруг заставляет усомниться в реальности происходящего, так и последующие события, хотя и происходили на самом деле, убедили разум Симпсона, что в общей сумятице и неразберихе он просто упустил заветную деталь, которая позволила бы ему все объяснить, и, следовательно, события эти правдивы лишь отчасти, а остальное – фантазии. В глубине спящего разума всегда бодрствует частичка души, готовая пренебречь здравым смыслом: «Это не по-настоящему; скоро ты проснешься и все поймешь».
Так случилось и с Симпсоном. События, сами по себе не слишком невероятные или необъяснимые, все же остаются для их свидетеля чередой разрозненных, леденящих душу кошмаров, потому что крошечная деталь, что позволила бы сложить картину воедино, укрылась от его внимания.
Насколько Симпсон помнит, все началось с порывистого движения: нечто пронеслось через палатку в сторону выхода, разбудив его и заставив осознать, что его спутник сидит на постели прямо, как штык, и все его тело сотрясает дрожь. Судя по всему, минуло несколько часов: на фоне матерчатой стенки, чуть подсвеченной с улицы едва брезжащей зарей, уже проступал силуэт Дефаго. Он не плакал, но трясся, точно осиновый лист; дрожь его передавалась по земле сквозь одеяла, и Симпсон ощущал ее всем телом. Дефаго жался к нему, ища защиты, стремясь отползти как можно дальше от того, что, по-видимому, таилось за пологом их маленькой палатки.
Тут Симпсон громко обратился к проводнику – спросонок он забыл, о чем именно тогда спросил его, – но ответа опять не получил. Все вокруг пронизывала пугающая атмосфера подлинного ночного кошмара, отчего речь и любые движения давались с трудом. Поначалу Симпсон даже не понимал, где он – на одной из предыдущих стоянок или у себя дома в Абердине, – и эта неразбериха вселяла безотчетную тревогу.
А в следующий миг – казалось, это произошло одновременно с его пробуждением, – глубокую рассветную тишину на улице сокрушил поразительный звук. Он прогремел внезапно, ничем не выдав своего приближения, и был невыразимо страшен; хриплый и в то же время скорбный рев летел не снизу, а как будто с высоты, и от его громкости и мощи закладывало уши, при этом ему была присуща странная, пронзительно чарующая нежность. Он распадался на три отдельные ноты или выкрика, в которых поразительным образом угадывалось, хотя и не сразу, имя проводника: «Де-фа-го!»
Студент-богослов и сейчас признает, что не в состоянии подобрать точных слов для описания сего звука, ибо ничего подобного в своей жизни не слышал, к тому же крик этот сочетал в себе столько противоречивых свойств. «Он напоминал надрывный плач или завывание ветра, – вспоминает Симпсон, – вопль одинокого, неукротимого и дикого создания, могучий и оглушительный».
Прежде чем рев умолк и все вновь погрузилось в безбрежную тишину, проводник вскочил на ноги и испустил ответный вопль. Он с размаху врезался в переднюю стойку палатки и заметался из стороны в сторону, суча руками и ногами в попытке выпутаться из мешающих одеял. На миг-другой он замер у выхода – темный силуэт его вырисовывался на фоне бледного рассвета, – а потом одним порывистым и стремительным движением выскочил на улицу, прежде чем Симпсон успел его остановить, и был таков. Удаляясь – на столь поразительной скорости, что голос его уже стихал вдали, – он непрерывно кричал, и в крике его слышался не только мучительный ужас, но и исступленный восторг:
– О! О, мои ноги! Они горят огнем! О! О, эта высь! Эта скорость!
И в считаные мгновения крик исчез; на лес вновь опустилась прежняя глубокая тишина.
Все свершилось так быстро, что, если бы не пустая постель рядом, Симпсон готов был принять случившееся за отголоски ночного кошмара. Он по-прежнему ощущал тепло только что прижимавшегося к нему тела; на постели из пихтовых ветвей лежала груда одеял; сама палатка, казалось, еще подрагивала от неистовых метаний Дефаго. В ушах Симпсона звенели слова проводника – безумные бредни, порождение внезапно помрачившегося рассудка, – как будто вдали по-прежнему звучало их эхо. Причудливые сигналы мозгу посылали не только зрение и слух: пока Дефаго с криками убегал, палатку заполнил странный душок, едва ощутимый, но острый и едкий. Кажется, именно в тот миг, когда бередящий душу запах проник через ноздри в горло Симпсона, тот наконец сумел найти в себе смелость, вскочил на ноги и вылетел вон.
В брезживших среди деревьев первых рассветных сумерках, холодных и сверкающих, уже можно было что-то разглядеть. За спиной Симпсона стояла мокрая от росы палатка; рядом темнело круглое пятно еще теплого кострища; озеро лежало под белым туманным одеялом, из которого поднимались острова, словно бы упакованные в вату; дальше на полянах и более открытых местах лежал белыми заплатами снег. Все застыло в ожидании солнца. И нигде не было ни следа сбежавшего проводника, который, несомненно, до сих пор несся со всех ног по лесу. Не слышно было ни его удаляющихся шагов, ни хруста ветвей, ни эха стихающих вдали криков. Дефаго исчез – окончательно и бесследно.
Кругом не было ни души; в лагере ощущалось разве что недавнее присутствие проводника – вместе с едким, всепроникающим запахом.
Впрочем, и тот стремительно рассеивался. Несмотря на охватившее Симпсона душевное смятение, он изо всех сил пытался установить природу этого запаха, однако для того чтобы дать название или определение неуловимому аромату, человеческий разум должен произвести немало сложных действий. Разум Симпсона не справился с этой задачей. Запах бесследно исчез, и юноша не успел ни распознать, ни назвать его. Даже приблизительное описание стоило ему большого труда, поскольку ничего подобного Симпсон прежде не ощущал. По едкости его можно было сравнить с львиным духом, но в то же время он был мягче и не лишен приятности, в нем слышались сладковатые ноты прелой листвы в саду, влажной земли и мириады других тонких ароматов, составляющих вместе запах большого леса. И все же, когда необходимо коротко описать этот запах, Симпсон называет его «львиным духом».
И вот запах исчез, а Симпсон стоял один у потухшего костра в полнейшем оцепенении. В тот миг он был столь беспомощен, что появление любого живого существа повергло бы его в обморок, даже если бы из-за камня высунула морду ондатра или по стволу ближайшего дерева стремглав пронеслась бы белка. Во всем происходящем Симпсон явственно ощущал прикосновение великого Сверхъестественного Ужаса и, пребывая в растрепанных чувствах, нипочем не смог бы собраться с силами настолько, чтобы постоять за себя.
К счастью, ничего не произошло. Лес понемногу просыпался от легких поцелуев ветра, с тихим шелестом падали на землю кленовые листья. Небо разом посветлело. Щеки и непокрытую голову Симпсона тронул морозный воздух; юноша вдруг осознал, что трясется от холода, и, сделав над собой великое усилие, понял наконец, что остался один в глуши и теперь ему нужно немедленно принять ряд мер, чтобы найти и выручить из беды своего сбежавшего проводника.
Усилие-то он сделал, но пользы от него оказалось мало. Вокруг была бескрайняя чаща, путь домой отрезала раскинувшаяся за его спиной озерная гладь, а кровь юноши еще леденили истошные вопли Дефаго, и он поступил так, как поступил бы на его месте любой неопытный человек: принялся бегать по лесу, не разбирая пути, словно обезумевшее от ужаса дитя, и громко выкликать имя проводника:
– Дефаго! Дефаго! Дефаго! – вопил он, а деревья вторили, правда, чуть тише: «Дефаго, Дефаго, Дефаго!»
Он побежал было по тропе, лежавшей через заснеженные поляны, но вскоре потерял ее, когда она нырнула в чащобу, где деревья стояли слишком часто и снега не было. Симпсон орал до тех пор, пока не охрип и пока звук собственного голоса, тонущего в этом безмолвном и настороженно прислушивающемся к любым звукам мире, не начал его пугать. Смятение юноши росло прямо пропорционально приложенным усилиям. Он все острее сознавал бедственность своего положения и через некоторое время окончательно выбился из сил. Изможденный, он вынужден был отказаться от своей цели и вернуться в лагерь. До сих пор остается загадкой, как он не заблудился. Это стоило юноше огромного труда; несколько раз он принимался идти по ложному следу и отчаивался, но в конце концов меж деревьев впереди все-таки замаячила белая палатка.