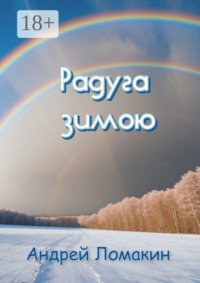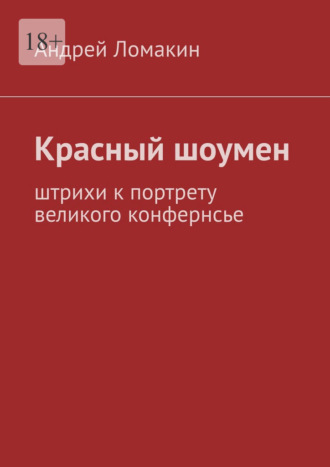
Полная версия
Красный шоумен. Штрихи к портрету великого конфернсье
«Синеблузникам пришлось начинать, что называется, на голом месте. Никому не было известно, что такое агитбригада. Каковы должны быть номера, исполняемые этой бригадой? Каков нужен артистический состав? Экономические основы? Где выступать? Всё это должен быть Южанин совместно со своими соратниками – а таких набралось сравнительно много. Вокруг этого неугомонного инициатора – артисты, режиссёры, художники, администраторы… Интересно, что бюджет «блузы» был самостоятельным. С первого же дня она работала на самоокупаемость. Но работала! Работала же! И как работала! Благодаря неукротимой воле Южанина и энтузиазму всех её участников, «Синяя блуза» после кратчайшего репетиционного периода начала выступления. Где? Да повсюду! В цехах заводов, в клубах и даже в пивных! Репертуар на эстрадках этих заведений исполнялся артистами, которые всячески пытались протащить в своих шутках и куплетах антисоветские темы и похабщину. Вот тут-то и надо было дать бой недобитому прошлому: завоевать пролетарскую аудиторию было просто необходимо. И «Синяя блуза» одержала эту свою первую победу. Заведующие государственными, кооперативными, общественными предприятиями народного питания и владельцы частных пивных стали приглашать к себе для выступления коллективы «Синей блузы». …Очень скоро одного коллектива стало не хватать. Возникали всё новые и новые. К началу тридцатых годов существовали 15 бригад центральной московской «Синей блузы», состоявших из профессиональных артистов. …А самодеятельных коллективов возникло несколько тысяч. Появился деловой термин: синеблузное движение. Оно перелилось даже за границы Советского Союза: в Германии (вспомним, что это были годы Веймарской республики, созданной после Версальского мира 1919 года), в Швеции, Дании, Чехословакии звучали песни и слова «синеблузного» репертуара. А наши коллективы не только ездили по всему СССР, но и проходили зарубежные гастроли в Скандинавии и Китае, в Германии и Польше.
Чем же объясняется такой беспримерно бурный успех? Главным образом тем, что потребность в агитбригадах вообще в советской эстраде была очень велика. «Синяя блуза» возникла и действовала в то же самое время, когда зачиналась и советская литература. Когда в репертуаре драмы появились первые пьесы из советского быта. Когда молодой артист Н. Смирнов-Сокольский создавал свои первые фельетоны на эстраде. И народ с жадностью внимал новым словам о новых делах родной страны. Самое важное в искусстве и литературе было и остаётся – отражение и осмысление настоящего времени. Здесь немалую роль сыграла инициатива Южанина: он внимательно следил за журналистикой и газетами, за литературой и театрами. Всё пригодное «Блузе» он немедленно отбирал и раздавал коллективам. Так впервые попали на подмостки «Синей блузы» произведения Маяковского и Асеева, Кирсанова и Демьяна Бедного. Но вскоре авторы уже сами пришли в тесные комнаты бывшего ресторана «Лондон» – рядом с Домом Союзов в Охотном ряду – приносили сочинения специально для «Синей блузы». …В двадцатых годах помещение «Синей блузы» видело в своих стенах и Маяковского, и Катаева, и Ильфа, и Петрова. Там начинали молодые В. Масс, Н. Эрдман, В. Казин… Но подчас, когда жизнь опережала темпы наших авторов, «синеблузники» сами брались за перо. Рождались бесхитростные, примитивно звучащие сегодня, но всегда боевые активные частушки, такие, как, к примеру, эти:
Ах, не буду никогда
Есть консервы я —
Консерваторы для нас —
Стервы первые.
(В. Шершеневич)
Слушатели, очевидно, делали скидку на молодость и горячую заинтересованность авторов и исполнителей, потому что принимали подобные тексты всегда одобрительным гулом и аплодисментами.
Помним, пользовалась успехом даже такая прихотливая частушка, сочинённая в коллективе:
Пекарь знает, что железо
Оченно полезное:
В хлеб всегда он запекает
Что-нибудь железное».
Да простят меня досточтимые Виктор Ефимович и Михаил Наумович, но я хочу привести ещё несколько примеров частушечного творчества «Синей блузы». От откровенно богохульских:
***Наш «Безбожник» прёт вперёд:Вышел на дорогу.Круг безбожников растёт!Ну и слава богу!…до надзирательно семейных:
***Пионер крепит победу,Он отважен и суров.Мамка кликнула к обеду,Он в ответ: «Всегда готов!»Казалось, не было ни одной стороны нашей жизни, которую «синеблузники не отразили в своём творчестве»:
***Я куплю себе калошиНа резиновом ходу,Чтобы наши не сдыхали,Как с собрания уйду.***Дурака заставь молиться —Мигом лоб расквасит свой.Дурака заставь напиться —Он расквасит лоб чужой.***У одной семейки бравойДочь Трибуною зовут,И к Трибуне той оравойВсе ораторы бегут.Извините, что перебил, дорогие мэтры, продолжайте, пожалуйста!
«Все выступления «синеблузников» строились на пластике, движении, поэтому музыка в каждой программе играла большую роль. Для «Блузы» писали музыку не только композиторы Д. Покрасс, М. Блантер, Ю. Милютин. В её спектаклях принимали участие в качестве пианистов К. Листов, С. Кац – в будущем популярные композиторы, пианисты Е. Макухин, Е. Рохлин, Б. Зазерский, К. Ставицкий – очень способные музыканты, умевшие, а это было обязательно, писать, подбирать и копировать музыкальные тексты.
По музыкальной части «Блуза» не брезговала готовыми вещами.
Начиная с песни-зачина – своеобразного гимна «Блузы» – многое в выступлениях коллективов опиралось на прежние популярные мелодии. И это было правильно, ибо снобистское желание давать только новые мотивы крайне обеднило бы спектакли, мешало бы проникновению в массы таких нужных в те времена мыслей и слов, создаваемых для пропаганды и агитации, для разъяснения всего нового, что существовало в жизни или должно было возникнуть в результате Октябрьской революции… Разумеется, новый репертуар потребовал и новых методов сценического решения. И по сей день на нашей эстраде и в цирке, в какой-то мере и в драматических театрах, в опере и балете живы находки постановщиков «Синей блузы». Режиссёры опирались на творчество Мейерхольда и Таирова, они заимствовали свои приёмы в спортивных играх и парадах, которые буквально покоряли зрителей… «Синеблузные» режиссёры С. Юткевич, Б. Шахет, Т. Томас, Н. Форрегер, Н. Тодес и другие умели сочетать патетику с сатирой, бытовой юмор с лирикой. Многие из них вошли в первую шеренгу советской режиссуры.
Художественное чтение – сольное и ансамблевое – украшало программы «Блузы». Прологи и парады, номера, где оратории сочетались с перегруппировкой участников в чисто физкультурном плане, сообщали выступлениям «Блузы» не только художественное разнообразие. Они поднимали идейное звучание спектаклей, ибо пафос наиболее широких лозунгов и идей выражался в таких номерах свободнее и ярче, нежели в обычных эстрадных формах.
Частушки и куплеты, сценки и малая драматургия эстрады, фельетоны и конферанс были неотъемлемою частью всех программ. И здесь «синеблузники» почти не имели соперников: ведь для них писали лучшие мастера этих жанров… Вот почему сборники репертуара «Блузы», выходившие периодически и включавшие в себя не только текст и ноты, но и советы постановщикам, расходились огромными тиражами.
…Актёры приходили сюда и из театров, и с эстрады, из самодеятельности и из театральных вузов. Считалось почётным оказаться среди этих мастеров малых форм… Концерты «Синей блузы» проходили в Колонном зале Дома союзов, и в Большом зале консерватории, и в ленинградском зале Капеллы, и в мюзик-холлах…
На «Блузу» стала ориентироваться вся советская эстрада. …Здесь первым достоинством спектакля и репертуара полагали именно современность. И не просто «объективную» современность, а отклики в пользу Советской власти. …Это и привлекло к ней таких артистов, как Л. Миров, Е. Дарский, Г. Тусузов, И. Чувелев, О. Шахет, Л. Беркович, С. Ягодинский, М. Грановский, Л. Михайленко-Луарина, Б. Тенин…
…Кончилась «Синяя блуза» в начале тридцатых годов по причинам организационным: «блуза» явно переросла возможности своего руководства, а в «инстанциях» не сумели перевести дело на нужные рельсы…»
Вот так – несколько конспективно – я представил читателю лекцию о «Синей блузе». Интересно, на мой взгляд, следующее наблюдение.
Как же это так получилось? Два человека и художника – писатель Виктор Ефимович Ардов и Артист Михаил Наумович Гаркави – одни из самых остроумнейших людей своего времени умудрились написать официальную до жути, застёгнутую на все пуговицы статью! А ведь и у того и у другого к моменту написания этого материала (начало 60-х) наверняка за плечами был «вагон и маленькая тележка» баек, хохм, историй и курьёзов, в том числе связанных с «Синей блузой», но…
Оттого и не порадовали они своих читателей «чем-то этаким», что на дворе стояли шестидесятые! Оттого, наверное, они и ограничились сухим перечислением фамилий и фактов. Впрочем, и за это им большое спасибо. Благодаря их выступлению в печати сегодня можно узнать, что в коллективе «Блузы» работали Л. Беркович и Л. Михайленко-Луарина. Каждая из них в своё время была связана с «красным шоуменом» семейными узами.
Несколько слов о первой избраннице конферансье.
Беркович Людмила Михайловна (1903 – 1998) – родилась и умерла в Москве. Дочь танцовщицы Ларисы Ерохиной, на сцене – мадемуазель Жиньори, работала в театре миниатюр «Мозаика» с номерами «Вампир», «Искушение» и др. Начала заниматься балетом с девяти лет в школе при театре Зимина у М. Мордкина13, затем в студии «Детский балет» у К. Голейзовского14, после в студии Э. И. Элирова15. С 1920 г. С 1920 г. занималась в балетной труппе Театра оперетты, где её заметил А. Кошевский16, пригласив солисткой в кабаре «Нерыдай» (1922 – 1924). Участвовала во многих пародийных номерах, технически сложном номере «Трансформация»17, а также в синтетическом номере «М» и «Ж», в котором с помощью трансформации исполняла три роли: гимназистки, кокотки и «синего чулка».
Выступала в театре «Кривой Джо» (1922), летний сезон 1924 г. в «Вольном театре», где вместе с Я. Хенкиным18 играла в обозрении Н. Агнивцева19 «Неугомонный Моссельпромщик». В 1924 – 26гг. в «Синей блузе», где снова проявляет себя синтетической актрисой, исполняя не только эксцентричные номера, но и сценку «Злободневная шарманка» с будущим актёром Театра сатиры Г. Тусузовым20, «Частушки Моссельпрома» с танцовщиком и акробатом М. Эскиным.
В 1926 – 1927 гг. в Московском театре Сатиры наряду с танцами занята в характерных ролях. В 1928 – 1947 гг. вместе с мужем танцовщиком Сергеем Ивановичем Ягодинским (1903 – 1952) работает на эстраде в жанре эксцентрических пародийных танцев (пародии на театр, цирк, кино).
В 1927 г. в «Цирке и эстраде» была опубликована небольшая рецензия на «Справочник синеблузника» М. Розовского:
«Приоритет подачи эстрадного сценария в форме живой газеты принадлежит „Синей блузе“, – писал автор рецензии Р. Блюменау, – которая за короткое время своего существования создала целый ряд абсолютно новых жанров эстрады: марш-парад, фельетон, аттракцион…»
Молодой коллектив познал настоящий успех, тот самый, что редко прощается коллегами и конкурентами.
26 сентября того же года в Колонном зале Дома Союзов «Синяя блуза» отметила свой небольшой 4-летний юбилей. Почему 4-летний? Почему не дождались хотя бы «пятилетки»? Возможно, её создатели чувствовали, что век их детища недолог и потому спешили. В годы своего расцвета «Синяя блуза» успешно конкурировала с профессиональной эстрадой. Да и, собственно, сама была таковой. В интервью журналу «Цирк и эстрада» ответственный руководитель «Синей блузы» Б. С. Южанин признавался:
«Колоссальное количество блестящих отзывов не только рабочей, но и буржуазной прессы показывает какое политическое значение имели выступления „С.б.“ за границей. …Рурскому району (Дюссельдорф, Золинген, Эссен) – этому гигантскому очагу металлургической промышленности „С.б.“ также имела возможность показать свою работу…»
Постепенно началось то, что можно было бы назвать как «синеблузомания». В бельгийском Брюсселе при бюро объединения украинских и русских рабочих был организован подобный коллектив. Берлинская «Синяя блуза», работавшая под руководством тов. Вильде, приезжала на гастроли в СССР. Объединённая группа «Синей блузы» завершила трёхмесячную поездку по Северному Китаю. За истёкшее полугодие 1929 года все группы «С.б.» только в Москве и в губернии сыграли 1100 спектаклей (180 выступлений в месяц). За это время состоялось 15 выездов на места, где зрители увидели 300 спектаклей.
Всё было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.
Гаркави всё активнее заявляет о себе как конферансье. Своих читателей журнал «Цирк и эстрада» информировал: «С 10 января 1930 года базовая группа „Синей блузы“. Григорий Мармеладов. Коферансье М. Гаркави».
И вдруг как гром среди ясного неба появилась статья под названием «Синяя блуза больна». Статья опубликована в журнале «Цирк и эстрада» в 1929 году. Чем же, интересно, мог «заболеть» столь здоровый во всех смыслах коллектив, выступлениям которого аплодировали не только в Советской России, но и за рубежом – от Америки до Японии? Статья была без подписи, но вполне вероятно, что указание сверху написать её получил её всё тот же «синеблузовед» Р. Блюменау, ещё вчера безудержно хваливший этот коллектив:
«На эстраде ещё до сегодняшнего дня живы закулисные нравы, ведущие начало от старого, дореволюционного кабака, где единоличным вершителем судеб был антрепренёр-хозяйчик.
…Последние два-три месяца отмечал, что «Синяя блуза» переживает большой репертуарный кризис. …Кризис этот нашёл своё отражение и в быту у артистов. Старые закулисные традиции просочились и в эту организацию…
В некоторых группах «Синей блузы» неблагополучно. Снятый в свой время с работы в театре «Смычка» за «хорошие дела» администратор Базлов приютился в московской «Синей блузе». Обосновавшись там, он начал проводить свою линию: «всё зависит от меня», «будущая карьера артистки тесно связано с её сговорчивостью». Базлов наметил несколько объектов из состава. Первой жертвой оказалась актриса Д., к которой он приставал, приглашая прокатиться на автомобиле, требовал встречи в интимной обстановке. В результате уговоров Базлова, встреча состоялась… Базлов не ограничился этим. По прошествии некоторого времени актриса получает записку: «Помните, от вашего согласия зависит будущее…» Убедившись, что приставания к Д. ни к чему не приведут, Базлов избрал новые объекты для своих похождений. Он преследует актрис К. и С. Базлов всячески старается продвинуть одну из них, но неожиданно эта актриса увольняется. Причины неизвестны.
Об этом факте знали многие члены коллектива, но молчали. Странно было поведение директора «Синей блузы» Б. Южанина, вызвавшего к себе Базлова, актрису Д. и её мужа. В присутствии мужа актрисы Б. Южанин заставил Базлова извиниться. В деле с Базловым… местком взял примиренческую позицию… и помог только замазать дело. Только когда Базлов был исключён из союза с запрещением занимать административные должности, он был уволен и из «Синей блузы», и то, под нажимом Областного отдела союза.
Положение с «Синей блузой» заставляет серьёзно призадуматься. Коллективы почти не живут общественной жизнью, самокритики не слышно».
Читатель имеет возможность вынести своё суждение о прочитанном. Лично я не вижу в этом поступке директора ничего странного. Нормальное поведение для директора и мужчины. А как по мнению автора этой явно заказной статьи Южанин должен был поступить? «Настучать» на кобелирующего администратора в милицию или, может, сразу в ОГПУ?
Вернёмся к рассказу о «Синей блузе» Гаркави и Ардова и к их объяснению причины преждевременной кончины коллектива. Дело тут, на мой взгляд, не в «переросте возможностей» и «нерасторопности инстанций», не сумевших вовремя перевести нужное дело на нужные рельсы». Поменялось время. Постреволюционный романтизм и леваческая эйфория сменялись буднями сотрудников НКВД. Являясь «всегда боевыми и активными», «синеблузники» любили и умели смотреть и видеть, что происходит в стране. Сталину, увы, потребовались совершенно иные «боевитость» и «активность».
Конец этого по-своему уникального коллектива был предсказуем. В 1930 году Бориса Семёновича Южанина снимают с поста руководителя со следующей формулировкой: «За ряд злоупотреблений, за халатное отношение к своим обязанностям, за протекционизм и т. д. снят с работы и предан суду директор „Синей блузы“ Б. Южанин».
Так завершился яркий, но короткий век «Синей блузы» – уникального явления в жизни тогдашнего всё более регламентированного советского искусства.
Глава седьмая
«Извините, но я буду петь»
Певческие номера, превращаемые Гаркави в живые музыкальные сценки, нравились публике. Да и сам он исполнял их с нескрываемым удовольствием.
(Э. Шапировский «Хозяин концерта»)1924 год. С портрета смотрел улыбающийся молодой человек с надвинутой на глаза кепкой и небрежно перекинутом через плечо шарфом. Портрет был помещён на нотах знаменитого фокстрота Матвея Блантера «Джон Грей» (текст Владимира Масса). Фамилия молодого человека звучала не очень привычно для русских ушей – Гаркави.
Как-то на одной светской вечеринке я столкнулся с признанным знатоком джаза Алексеем Баташевым21 и завёл разговор о первом исполнителе легендарного фокстрота… Моё, тогда ещё несмелое утверждение, что этим исполнителем был конферансье, Баташов решительно отверг, на чем наш диалог и завершился. Да и что я мог возразить старейшине джазовой критики, историку и активному популяризатору джаза?! К слову сказать, разговор наш состоялся задолго до того, как я стал собирать материалы о «красном шоумене». Но когда в архивных глубинах РГАЛИ удалось отыскать и подержать в руках ноты «Джона Грея» с молодым Гаркави на обложке, сомнения мои улетучились. Более того, укрепилось желание побольше узнать об этой стороне таланта Михаила Наумовича.
Пение занимало в его творчестве пусть не самую главную, но и далеко не последнюю роль. Начнём с куплетов – визитной карточки многих артистов разговорного жанра. С самого начала пути на вершину эстрадной славы он полюбил этот жанр и стал по праву считать его своим. Благо, что куплет, как выразительное средство, был популярен в то время.
В истории советской эстрады навсегда осталось это странное слово – «Нерыдай». Нет, это не опечатка, оно так и пишется – слитно. «Нерыдай» – это название кабаре, привлекавшее несколько сезонов (1921 – 1924) литературно-театральную Москву. Название весьма актуальное, учитывая, что некоторые слои разворошенного революцией российского общества рыдали, другие – пока ещё радовались, а остальные – тихо всхлипывали. Видные театральные деятели, поэты, художники, актёры считали хорошим тоном регулярно в нём бывать. Это был самый что ни на есть ночной клуб, как сказали бы сейчас: программа начиналась в час ночи и завершалась к трём. И чего там только н е звучало! Старинные песни и романсы, стихи, басни и, конечно же, куплеты. Основными посетителями «Нерыдая» были «махровейшие цвета нэпа», как писала Вера Инбер. Чем же публику привлекало кабаре? В двух словах не опишешь! Какой-то особой, непринуждённой весёлостью, остроумными шутками, звучавшими, кстати сказать не только со сцены, но и из зала. Погоду в кабаре создавала особая литературно-артистическая публика. Завсегдатаям подавали недорогие блюда, и они весело проводили время, помогая артистам развлекать зрителей. Художественный руководитель «Нерыдая» А. Кошевский, в недавнем прошлом опереточный артист, обладал недюжим чутьём на таланты. В компании молодых артистов кабаре были Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Рина Зелёная, Георгий Тусузов, Марк Местечкин, наконец – Михаил Гаркави. Можно сказать, что будущий мэтр конферанса впервые попробовал себя именно в этих стенах и как поющий артист.
Жаров вспомнил один эпизод, связанный с совместным исполнением с Гаркави куплетов. Это были куплеты Эрдмана «Москвичи из Чека, го», изящные и остроумные, иногда – злые и ядовитые. Среди зрителей были известны деятели эстрады 20-х годов – Фореггер и Масс. Экспромтом артисты пели:
Я – Николай Фореггер,
Известный культрегер.
Могу поставить вам канкан,
Могу устроить и шантан
От начала до конца
Ламца-ламца, а-ца-ца.
Публика не дремала. Тут же следовала стихотворная «ответка» Масса. Артисты не терялись:
Снова мы – Жаров и Гаркави,
Мы равнодушны к славе.
И так нас знает целый мир,
Не только «Нерыдай» трактир.
У нас куплетов масса,
Не то, что вот у Масса.
Мы экспромтим без конца
Ламца-дрица, а-ца-ца.
Так что, как вы сами видите, «бой» шёл на равных, и в маленьком зале было весело. Значительно позже, на одном из концертов в Зелёном театре ЦПКиО имени М. Горького Гаркави с успехом исполнил песенку «Молодость» (музыка М. Блантера, стихи Ю. Данцигира и Д. Долева). Легко, несмотря на свою массивную фигуру, подтанцовывая, он напевал:
На газоне центрального парка
В темной грядке цветёт резеда.
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте героем труда.
Для современного читателя может быть непонятно: как можно было «подтанцовывать» под политически выверенный, лишённый изначально какой-либо лёгкости текст? Представьте себе, что можно, и даже очень здорово! Во-первых, тот, кто в 30-е годы прошлого века хором или поодиночке напевал такие песни, тот, как правило, беззаветно верил в то, о чем он пел! А верить – это первое дело! Во-вторых, со сцены в присутствии многих зрителей её пел большой (во всех смыслах) артист, одинаково хорошо чувствующий три ипостаси: музыку, слово и аудиторию.
Однажды на очередном открытии сезона в саду «Эрмитаж» Гаркави вёл концерт на… качелях! Не знаю, его ли это была придумка или он воплощал чей-то оригинальный режиссёрский замысел, но в результате москвичи и гости столицы стали свидетелями презабавного зрелища. «Гляди-гляди!!! ГАРКАВИ – И НА КАЧЕЛЯХ!!!»
– Здравствуйте, друзья москвичи! Открываем старинный московский сад «Эрмитаж». Первая программа! Гулянья! Музыка! Киоск с… витаминами. А какое же русское гулянье без вита… без качелей? Тяга, товарищи, к качелям, огромная! Но количество качелей лимитировано. Пока меня одного обеспечили! …И всё-таки вам небось интересно, почему я полез на качели? Объяснения, товарищи, очень простое. Мы открываем 27-й сезон «Эрмитажа». Я выступаю здесь в 14-й раз из 28-ми возможных. В каком только виде я не выступал! В двадцать восьмом году – во фраке, в двадцать девятом – в костюме, в тридцать первом – тридцать втором – во смокинге, в тридцать пятом году – то Мефистофелем, то Онегиным одевался, в тридцать шестом меня из зрительного зала на носилках выносили. Да, чуть не забыл! В тридцать четвёртом году – на осле выезжал. В сороковом году в серебряном костюме выходил, под русалочку работал… В годы войны два раза в военной форме выходил. Дай, думаю, в этом году я на качели сяду. Всё-таки разнообразие! И, кроме того, совершенно серьёзно, товарищи, – это первый на нашей эстраде конферанс на качелях! И мне хорошо, и вам приятно. А если что не так сказал, так разве я за это отвечаю? Меня же укачало, товарищи! И в прессе, между прочим, хорошо напишут: «Впервые в ССС! Конферанс на качелях! Ново? Оригинально! И неожиданно. Вроде как бы «Торпедо» у «Динамо» 3:1 выиграло… (качается). Ух, хорошо! Ну а политическое качание, сами понимаете, совсем другое дело. Черчилля, к примеру, вон как качнуло, думаю, ему и на ноги не встать! А всё почему? Забыл, что ещё наш Александр Николаевич Островский сказал однажды в Малом театр: «Не в свои качели не садись!». А я-то на своих качелях своего производства. Родного. Они и не дадут качнутся лишний раз, и не подкачают, выдержат…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Точное авторство текста поучения «О казнях божьих», частично входящего в состав «Повести временных лет», не установлено. Между тем, есть основания считать его автором православного монаха XI века, основателя и игумена Киево-Печерского монастыря, Феодосия Печерского.