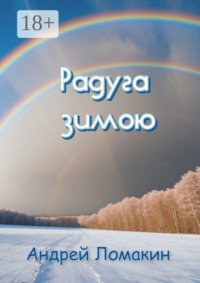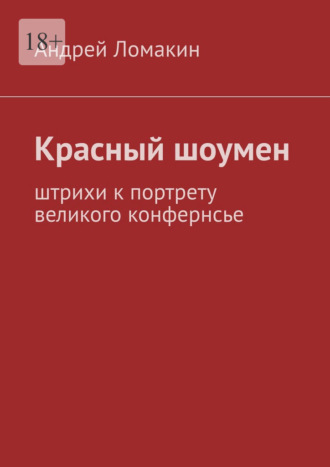
Полная версия
Красный шоумен. Штрихи к портрету великого конфернсье
Эстрадник лезет из кожи, голодает, чтобы сделать номер. У эстрадника нет должного руководства, и часто бездна затраченного времени, энергии и денег идёт прахом – не годится репертуар (стоивший многих голодных дней), не подходит жанр, слишком открытый костюм и т. д. Эстрадник в этом иногда мало виноват, он идёт ощупью, вслепую.
…Быт, который нуждается в скорейшем оздоровлении. Широкая кампания должна коснуться и эстрадного быта»
Обратим внимание на одну деталь. Я не поленился, посчитал: слово «эстрадник» повторяется в небольшой заметке 16 (!) раз. Не исключено, что благодаря Р. Блюменау и ему подобным авторам, это слово вошло в эстрадный обиход и продолжает существовать до наших дней. Начинаешь понимать, почему Мария Владимировна Миронова так его не любила. Помнится, она говорила об этом прямо в одном телеинтервью, добавляя при этом: «Это все равно, что оперного артиста называть «оперник»11
Глава четвёртая
Самое серьёзное жюри
Зададимся вопросом: кто из конферансье 30-х годов был наиболее «универсальным солдатом», то есть способным находить общий язык с любой аудиторией? Лично мне на ум приходит только одна фамилия…
Действительно, при всём почтении к аристократичному Алексею Алексееву или своеобразному Константину Гипшману, трудно представить обоих, конферирующих перед семилетними зрителями. Конечно, мастерство и талант помогли бы им не упасть лицом в грязь, но это всё-таки было бы преодоление. И уж точно не «купание в роли» и не «как у себя дома».
Что же до Гаркави, то его заслуга в налаживании отношений с этой самой взыскательной аудиторией неоспоримы. «Дядя Миша» любил юных зрителей, и они отвечали ему горячей взаимностью. Истоки такой привязанности нам поможет найти Наталия Сац.
Уместно будет сказать несколько слов об этой удивительной женщине, активном пропагандисте музыкального искусства для детей. Родилась в Иркутске в 1903 году в семье известного композитора Ильи Сац. Режиссёр, драматург, театральный педагог. Создатель первых в мире драматического и музыкального театров для детей. Есть у неё и ещё одно достижение, но в этом скорее заслуга Господа Бога. Она прожила долгую, хотя и непростую, жизнь длиною в 90 лет. Наталья Ильинична вспоминала, что бывать среди ребят на детских утренниках, разговаривать с ними, подмечать особенности их восприятия доставляло ей неизменную радость, являлось источником многих и многих творческих мыслей. Особенно её восхищала активность детей, их стремление не только следить за происходящим на сцене, но своими неожиданными репликами участвовать в театральном действии.
А что, если пытаться творчески использовать эту детскую особенность и затеять театрализованную игру артистов со всем зрительным залом?
Сац предложила создать программу под названием «Игра в шарады» и включить туда несколько концертных номеров. Сценарий был одобрен, начались репетиции. Режиссёр программы – Н. Волконский, пианист-концертмейстер – Л. Половинкин (он тогда ещё был студентом консерватории). Художник (эскиз, ширмы) – Л. Голова.
На главную роль Миши руководство привлекло Михаила Гаркави. Бессменными исполнителями шарад были Н. Третьякова, О. Савич, В. И Е. Жанто (жонглёры), М. Андреева (балет) и другие.
В игре «театрализованные шарады» очень ответственна роль ведущего. Он должен был стать для детей своим человеком, пробуждать их инициативу, уметь с ними играть, импровизировать текст. Назначили на эту роль Наталью Ильиничну, и она с огромным удовольствием её исполнила. Сац выходила на сцену, там уже стояла весёлая ширма, здоровалась с ребятами. На первом же представлении шарад раздался голос из зала: «Как тебя зовут?» Ведущая начала: «Наталия…», но отчество сказать не успела, кто-то крикнул: «Здравствуй, тётя Наташа!». Так прозвище «тётя Наташа» за ней и осталось. Она спрашивала у ребят: «Хотите, чтобы мы, артисты, с вами сегодня играли в шарады?». «Хотим» – неслись весёлые голоса из зала. Загадывалось слово, разыгрывался каждый его слог, потом целое, дети угадывали. «Тётя Наташа» рассказывала ребятам, что будто бы, когда она шла к ним, встретила множество артистов. Они пожелали показать своё искусство, чтобы потом выступать в концертах для детей. Надо, чтобы их посмотрела специальная комиссия. И ведущая предложила ребятам стать членами этой комиссии. После просмотра каждого артиста, большинством голосов ставилась отметка за выступление. Сац обращалась к билетерам: «Товарищи билетёры! Пропустите, пожалуйста, артистов!». В зрительном зале включали свет, заднюю дверь широко раскрывали. Там появлялись и шли по среднему проходу на сцену артисты с чемоданчиками, с пёстрыми костюмчиками, перекинутыми на руке, мастера цирка с дрессированными собачками, жонглёры со своим реквизитом, они поднимались на сцену. «Тётя Наташа» очень приветливо здоровалась с каждым из них, знакомила с большой авторитетной детской «комиссией», затем все артисты, кроме участников первого номера, уходили за весёлую ширму и торжественный просмотр начинался.
Комиссия добрая, почти всем участникам ставила «пять» и «пять с плюсом», а некоторым артистам и все «десять». Концерт проходил весело и живо, но вот ведущая объявляет, что комиссия заканчивает работу.
И тут в двери зрительного зада вбегает запыхавшийся большой толстый Миша. «Я хочу выступать! Можно?» – кричал он из зала. «Тётя Наташа возражала»: «Просмотр уже закончен». Он чуть не плачет, лепечет какие-то смешные оправдания, просит ребят помочь ему. «Пусть он тоже выступит, – несётся из зала. – Тётя Наташа, мы хотим на него посмотреть!» Гаркави приглашён на сцену.
– Как вас зовут?
– Миша.
– Вы же взрослый, а взрослых зовут по имени и отчеству.
– А меня зовут просто Миша.
– Ну, хорошо, «просто Миша», что вы умеете делать?
– Я всё умею делать!
Из-за ширмы выглядывают все выступающие артисты. Жонглёр В. Жанто даёт Мише блестящие шарики. Тот подбрасывает их, но поймать не может. Миша поёт «В лесу родилась ёлочка» без всякого выражения и от смущения крутит пуговицу на своей куртке. Сам предлагает поставить ему «кол», но ребята хохочут, и, когда Миша говорит, что он умеет ещё и танцевать, кричат: «Пусть танцует, пусть!» Миша танцует «Яблочко», старательно, как дошкольник, с неподвижным лицом ходит по кругу, поднимая то одну, то другую руку. Сац опять предлагает поставить ему «кол». Но ребятам он очень нравится, им импонирует, что они всё умеют делать лучше него, и просят дать ему возможность «исправиться». Миша начинает читать «Мужичок с ноготок». Размеренным голосом, без всякого выражения дочитывает он до слов «В больших рукавицах, а сам – с ноготок!». Опасливо поглядывает на ведущую и повторяет: «А сам – с ноготок?». Но что дальше – видимо, забыл. Говорит: «Я с начала!» Но при повторении уже путает фамилию автора и опять говорит: «Я с начала!» Опять путает и в конце концов со словами «Я забыл» с рёвом уходит за кулисы.
Ребята очень ценят тех, кто умеет их смешить. На новое предложение Сац проставить Мише «кол» детские голоса поднимают бурю протеста. Кто-то предлагает поставить Мише «пять с плюсом», кто – сто, а кто и всю тысячу. Но, опираясь на благоразумие некоторых зрителей, девчонок по преимуществу, «тётя Наташа» всё же ставит ему «кол» и, чтобы прекратить крики, напоминает: «Не забудьте! Это же всё происходит не на самом деле!»
Бедная «тётя Наташа»! Могу себе представить, как нелегко ей было успокаивать такую аудиторию! Не просто владеть её вниманием, а уж спорить с ней! Но главное произошло: незадачливый герой Гаркави пусть и схлопотал «единицу», но сам артист, в сущности получил от детской аудитории пятёрку с плюсом и признание в любви к «дяде Мише» нескольких поколений юной публики.
Глава пятая
Конферанс и конферансье
Плох тот конферансье, который заботится, главным образом, о собственном успехе. Такой конферансье никогда не будет иметь своего успеха.
Цитата из этой главы.Не хочу показаться назидательным, но есть одна простая истина, напомнить о которой считаю своим долгом. В русском языке существует два однокоренных слова – «конферанс» и «конферансье». Во время расцвета этой профессии какой-нибудь не очень грамотный администратор, методист в клубе или просто несведущий зритель, подходя к «капитану концерта», обращался к нему с вопросом:
– Вы у нас – конферанс?
– Да нет же, я у вас – конферансье!
– Какая разница?!!
– ??????!!!!!!
На всякий случай спешу напомнить, что «конферанс» – это эстрадный жанр, а «конферансье» – актёрская специальность.
Теперь, когда поставлены все точки над «i», хочу познакомить читателя с одним уникальным документом. В 1935 году Э. М. Бескин записал беседу с М. Н. Гаркави. Выдержки из неё я и предлагаю вашему вниманию.
ГАРКАВИ: В своей жизнедеятельности как конферансье я прошёл два периода. Сначала я сделался конферансье, как я его называю, репризного характера, то есть человек, который говорит остроты во что бы то ни стало… Но когда я увидел, что это наиболее распространённый вид конферанса, и завоевать положение, идя по этому пути, будет очень трудно, – я вспомнил, что я актёр… В настоящее время я и являюсь актёром, играющим роль конферансье… Начну с того, что представляет из себя эстрадная маска, которую я ношу… Прежде всего я скажу вам о важности первого выхода. Когда вы появляетесь перед зрителем, то сразу должны определить, что это за человек, чем он дышит. В моём первом выходе я стараюсь показаться зрителю скромным и необыкновенно приятным человеком. В те вечера, когда мне удаётся путём чисто актёрской техники достигнуть этого… такие вечера считаю для себя наиболее удачными. Тогда уж для меня не играет никакой роли, что говорить… Элемент симпатии, который имеется ко мне со стороны зрителя, уже будет довлеть над ним.
Не ЧТО говорить, а КАК ГОВОРИТЬ!
Надо сказать, что очень часто мой текстовой материал звучит в устах других товарищей. Я даже слышал по радио вещи, составленные мною. Причем это не имело того резонанса со стороны зрителя, который у меня. …Теперь о системе моей работы во время концертов. Когда вы выступаете в стационарном предприятии, для вас созданы благоприятные предпосылки работы: у вас есть уборная, где вы можете повесить свой костюм, посмотреть в зеркало… Кроме того, вы знаете точный порядок программы, можете подготовиться, чтобы ваше ведение не носило случайного характера.
…Сейчас я буду говорить о работе конферансье на сборном концерте. К сожалению, это деятельность для нас, конферансье, является основной на данный период. Эта работа легче в том смысле, что меньше ответственности. Если я взболтну что-нибудь в клубе «Каучук», то, учтя это, я не повторю в клубе «Красный луч». При этом я могу себя исправить, да и вообще, на это не обратит никто внимания. Тут надо учесть то обстоятельство, что вы выступаете перед аудиторией, у которой только что закончилось заседание. Вы имеете перед собой слушателя, который, с одной стороны – устал, с другой – зритель, который слушает вас для того, чтобы отдохнуть, привести свои нервы в порядок, чтобы завтра свежим выйти на работу. Самым серьёзным является первый выход. Завладеть аудиторией, поднять её и так её р а с п а х а т ь (выделено мною – А.Л.), чтобы всем остальным артистам было легко работать. Я не сторонник того, чтобы весь ваш конферанс заполнялся местной темой. Я противник этого. Но я за то, чтобы прослушать собрание и чтобы в вашем первом появлении промелькнула местная тема. И если вы из этой местной темы возьмёте кусочек (…) значит вы по-настоящему сделали первый выход.
…Я не принадлежу к тем артистам-конферансье, которые своей задачей ставят сострить «во что бы то ни стало». Многие конферансье считают, что если он не вышел и сострил, значит… нарушил какие-то законы конферанса. Конечно, можно острить, если вы чувствуете, что это хорошо. Но выйти и во что бы то ни стало рассказать какой-нибудь анекдот, пусть даже тонкий и остроумный… Он всё-таки будет носить налёт пошлости.
Плох тот конферансье, который заботится, главным образом о собственном успехе. Такой конферансье никогда не будет иметь собственного успеха.
БЕСКИН: Приходилось ли вам выступать перед иностранной аудиторией? На каком языке вы вели, и какова была реакция зрителя?
ГАРКАВИ: Перед иностранцами я выступал. Я конферировал на концерте, устроенном для физиологов в Тифлисе на французском языке, причем, я очень плохо им владею. Но это не играет никакой роли. Иностранная аудитория восприняла моё выступление хорошо, даже лучше русской. В Мюзик-холле были даны два спектакля. Французы были уверены, что я блестяще владею французским языком, и что я их обманываю.
БЕСКИН: Приготовляете ли вы своё выступление? А что, если публика задаёт вам вопрос почему вы опоздали?
ГАРКАВИ: Нет, не приготовляю. Я не знаю, о чем я буду говорить. Я жду с нетерпением, чтобы публика меня что-то спросила. Тогда я легко иду дальше. Когда я выхожу на сцену, я представляю из себя сжатый комок нервов, готовый на всё. Когда я посмотрю, какая у меня аудитория, тогда всё пойму.
…Задача состоит не в том, чтобы рассказать какой-нибудь анекдот, а потом объявить артиста. Задача заключается в том, чтобы в очень легкой, непринужденной форме, подать артиста. Создать ему аудиторию.
Однажды по путёвке Дома Красной Армии, приехал в архитектурный институт… Один раз в жизни я не спросил, что это за аудитория. Так как было темно, я вышел и начал говорить конферанс на архитектурные темы… Потом я увидел, что это не даёт нужной реакции, я чувству, что аудитория меня не понимает. Меня прошиб холодный пот. Первым номером вышел Образцов. Он показал своих кошек и собак, но в публике было полное недоумение. Он показал второй номер, но это тоже не вызвало никакой реакции… Я почувствовал, что здесь что-то «не архитектурное». Попросил дать свет в зрительный зал. Оказалось, что этот зал был снят для возчиков, которые возят дрова для Мосгорторга. Когда я это понял, то вышел как бы в первый раз, и тогда аудитория начала смеяться… Если бы я заранее знал, какая это аудитория, то и Образцова приняли бы иначе, потому что я иначе подал бы его. …Я против написанных конферансов… У меня лично нет точно записанных острот. И если бы меня заставили написать конферанс… то я написал бы два-три рассказа, которые к конферансу практически отношения не имеют, которые нужны… для того, чтобы затянуть концерт, если какой-нибудь артист запоздал…
Значит, основное в нашей работе – это проба аудитории. Каждый конферансье должен выработать какую-то определённую фразу, произнося которую он будет знать, что за аудитория находится перед ним.
Если это принимается на большом смехе, значит аудитория малокультурная. Средний – смешанная. Если просто вызовет улыбку – …хорошая, и можно говорить спокойно и свободно. Я пробую аудиторию дешёвкой. Это законный приём, для того, чтобы потом легче работать.
…Я лично страшный противник ведения программы в таком плане, чтобы конферансье выходил, говорил свои репризы, а потом объявлял: «Сейчас выступит такой-то…» Это неверно, ибо подготовительным конферансом вы должны дать дорогу артисту… Перед разговорным номером, перед юмористом… вы не имеете право говорить остроты, ибо, вызывая смех у аудитории, вы тем самым обкрадываете артиста, который должен выступать. Перед выступлением инструменталиста, балетного номера зрительного ряда, можно говорить что угодно, хотя я не сторонник, чтобы говорить что угодно. Лично, когда выступает балет, говорю о балете, певец – о певце.
…Я хотел бы резюмировать… Во-первых как закон, перед выступлением разговорника – никаких острот. Во-вторых, конферансье обязан знать, перед кем выступает. Он обязан пробовать аудиторию, чтобы уяснить, как вести себя перед ней.
И потом, самое главное для конферансье – первый выход, который кладёт отпечаток на всю программу, которую он ведёт.
Вот лишь некоторые выдержки из той большой беседы. Десятки и десятки лет отделяют нас от времени её появления. Мир с той поры изменился колоссально, а сама профессия?.. А подход к ней?.. Я не вижу причин, по которым советы Гаркави нельзя было бы сравнить в какой-то степени с советами автора «Работы актёра над собой» К. С. Станиславского. Удивляюсь, почему до сих пор никому не пришло в голову опубликовать эту беседу (за исключением «Русской советской эстрады» с парой крошечных фрагментов), чтобы осваивающие трудную профессию ведущего знакомство с ней начинали с откровения «красного шоумена»?!
Гаркави был лидером, тем, чей успех на публике был несомненен, и к чьему мнению, безусловно, прислушивались. Но думаю, что даже в самом сладком сне он не чувствовал себя эстрадным пророком, этаким гуру отечественного конферанса. В беседе с Э. Бескиным он не раздавал истины, а делился своим сокровенным, тем, что проверено-перепроверено. Опыт. Нервы. Проба. Душевные и физические затраты. Синяки и шишки. И ещё, и ещё… А потом ещё раз опыт!!! По возможной схожести ситуаций у каждого конферансье он свой. А когда эти наработки пересекаются, когда сталкиваются мнения, вот тут-то и рождается порой нечто любопытное! Предлагаю читателю свидетельство конферансье Н. М. Синева, творческий путь которого пересёкся однажды с нашим героем:
«После небольшого концерта на Киевском центральном стадионе, – пишет Синев в своей книге «В жизни и на эстраде», – весело и темпераментно проведённого конферансье Михаилом Наумовичем Гаркави, я поинтересовался у старого артиста:
– Не трудно ли в вашем возрасте на стадионе?
Усталое лицо Гаркави просветлело.
– Люблю, чтобы было много зрителей… Мне кажется, мы, конферансье, не додали им шуток, веселья, хорошего настроения… А когда народу полный стадион и все смеются – на душе спокойнее…»
Гаркави горячо и убеждённо утверждал, что конферансье должен, прежде всего, думать не о своём личном успехе, а об успехе представления в целом. Синев – на основании своего немалого опыта – возражал: самое опасное в работе конферансье – когда он, не доверяясь культуре зрительного зала, начинает излишне заботливо «подавать» артиста, перегружать конферанс пояснительными текстами, всеми правдами и неправдами вызывать артиста на поклон. Оппонент Гаркави возражал: зритель сам превосходно чувствует, где с ним легко и остроумно шутят, как с равным собеседником, а где, как школьника, начинают поучать или принуждают аплодировать, когда у него нет к этому никакого желания.
«Я признался Гаркави, – пишет Синев, – что у меня на этой почве с артистами нередко портятся отношения. Как-то певица, недовольная слабыми аплодисментами, сердито спросила меня за кулисами: «Вам трудно было лишний раз протянуть руку, чтобы вызвать меня на поклон?» Я тоже ответил: «Извините. Трудно. Радикулит». Гаркави шутливо сказал:
– Ну, вот видите… Певица пойдёт в министерство культуры, спросит, почему работает конферансье с радикулитом. Пора на пенсию! Заменят вас молодым, и вы поймёте, что для конферансье полезнее – острить или вызывать на поклон артистку».
Товарищеский спор двух «разговорников» закончился на миролюбивой ноте: поведение конферансье должно определяться культурным уровнем зрительного зала. Там, где зритель менее подготовлен, – конферансье не должен пренебрегать функциями воспитателя. Имея же дело с передовыми культурными людьми, он, прежде всего, должен заботиться о весёлой природе эстрадного концерта и твёрдо помнить, что взрыв смеха для успеха всего концерта куда важнее, чем лишняя песня с трудом вытянутой на поклон самоуверенной певицы.
Диалог настолько нечастый для эстрадной культуры, насколько и примечательный. А примечательный он не только тем, что хорошо раскрывает творческую позицию Гаркави, как конферансье, но и показывает в какой-то степени характер этого человека. Согласитесь, реплику: «Не трудно ли в вашем возрасте…» сложно назвать образчиком этикета. Другой бы «корифей» пообидчивее назвал бы её попросту бестактной. Другой, но только не Гаркави! Лёгкость и незлобивость в обращении с публикой он непринуждённо переносил и за кулисы. Редкий человеческий дар!
Глава шестая
Лекция о синей блузе
– Про «Синюю блузу слышал»?
– Так, краем уха. Это которая газету со сцены читает?
(Из книги Михаила Сушкова «Футбольный театр»)«Каждое утро в одно и то же время прохожие, регулярный маршрут которых пролегал через Тверской бульвар, встречали здесь крепкого коренастого брюнета с тонкими усиками, запоминавшегося не столько симпатичной внешностью, сколько странным поведением… Он выходил из дома №26 и двигался по бульвару, читая на ходу газету. Двигался вовсе не так медленно, как следовало бы этого ожидать. Он, видимо, приспособился, и шагал уверенно, словно смотрел себе под ноги. Прохожие принимали его за чудака, каких не так уж мало, ибо читающий пешеход не столь большая редкость. Но дворники, которым он намозолил глаза, убеждённо считали его психом. Дворники, в отличие от прохожих, весьма наблюдательны. Они могли проследить довольно большие отрезки пути этого гражданина и обменяться потом впечатлениями. Они знали: в течение ста пятидесяти-двухсот метров гражданин успеет прочесть газету и в конце этой дистанции, замедлив шаг или вовсе остановившись, проделает с ней нелепую операцию: аккуратно разорвёт её на кусочки, часть из них положит в левый карман, остальное скомкает и, в лучшем случае, бросит в урну. Но правый карман „психа“ оттопыривал целый рулон газет. „Псих“ тут же вынимал очередную, и на следующем участке пути проделывал с ней то же самое. К этому странному гражданину дворники не проявляли особого любопытства. Он был для них ясен как день: псих есть псих, и этим исчерпана вся информация. Они не знали, что „псих“ не кто иной, как известный в то время поэт Борис Южанин – основатель и руководитель нового театра „Синяя блуза“. Он приходил на службу, уже начинённый газетными сообщениями, переполненный идеями. Садился за стол, раскладывал газетные вырезки и вместе со своим помощником Владимиром Мразовским начинал творить сценарий спектакля, который к вечеру будет закончен, а завтра поставлен и показан».
Так писал о «Синей блузе» Михаил Сушков, автор книги «Футбольный театр». Что мы знаем об этом явлении 20-х годов прошлого века? Я не побоюсь назвать эту самую «блузу» культурно-социальной Атлантидой, навсегда потопленной с очередной «сменой вех». Благодаря таким авторам, как Сушков и сохранившимся публикациям в старых журналах, автор книги о «красном шоумене» имеет возможность рассказать современному читателю, какие «шоу» удавалось показывать «синеблузникам» или, проще говоря, тем, кто – всего-то! – читали со сцены газету!
…Этот пока ещё безымянный любительский коллектив появился осенью 1923 года, как «живая газета» института журналистики под руководством Бориса Семёновича Южанина. Он оказался отличным организатором и фанатиком движения, позже названного «Синяя блуза». В ту пору – двадцатишестилетний студент Коммунистического института журналистики (КИЖ), участник гражданской войны на Дальнем Востоке. Название дала прозодежда12 – свободная синяя блуза и чёрные брюки (или юбка), в которой стали выступать артисты, что соответствовало традиционному облику рабочего на агитплакатах. Московский городской совет профсоюзов (МГСПС) предложил Южанину создать несколько таких групп для обслуживания рабочих клубов, столовых и чайных. Программа, рассчитанная на один час, точно по времени шла под рояль (либо гармонь) в стремительном темпе. Она начиналась и заканчивалась общим марш-парадом (антре), наиболее известный:
Мы синеблузники,Мы профсоюзники,Мы не бояны-соловьи.Мы только гайкиВеликой спайки —Одной трудящейся семьи.(Муз. Д. Покрасса, слова Б. Южанина)Каждую неделю репертуар менялся, артисты знакомили публику с последними политическими, международными и экономическими новостями в формах, доступных даже неграмотному зрителю. Информация передавалась через частушки, монологи Деда-раёшника, литературные монтажи для лучшего восприятия сопровождались акробатическими перестроениями (пирамидами). Много писал для коллектива сам Борис Южанин.
Далее передаю бразды правления в этой главе Виктору Ардову и Михаилу Гаркави. Был, как видно, и такой дуэт в истории эстрады! Правда, в печатном варианте их дуэта хватило лишь на одну публикацию. Ниже я привожу (с небольшими сокращениями) то, что смело можно бы назвать настоящей лекцией по истории такого явления культурной жизни СССР двадцатых годов, как движение «Синяя блуза». Известный советский писатель и не менее известный конферансье прочтут вам краткую и не слишком утомительную лекцию о почти забытом явлении в нашей жизни и на нашей эстраде!