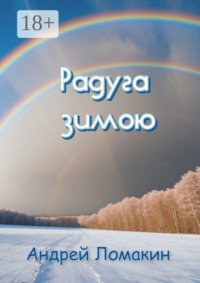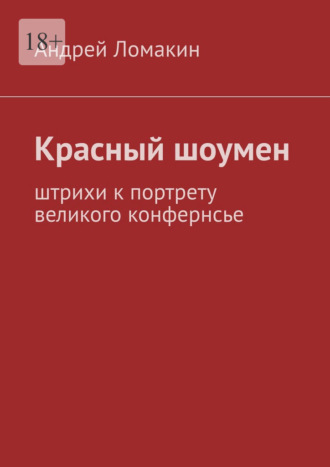
Полная версия
Красный шоумен. Штрихи к портрету великого конфернсье

Красный шоумен
Штрихи к портрету великого конфернсье
Андрей Ломакин
© Андрей Ломакин, 2025
ISBN 978-5-0065-9649-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Память – единственный рай,
Из которого нас не могут изгнать.
Жан Поль РихтерВыражаю сердечную благодарность семье Шавариных —
Игорю Геннадиевичу и Елене Васильевне за моральную поддержку и финансовую помощь, оказанные при издании этой книги, а также своей жене Светлане Ломакиной.
АвторВместо предисловия
Итак, начнём с Божьей помощью!..
Эти строки я пишу в конце июля, когда природа взывает: «Да не начинай ты ничего! Смотри, как здорово на улице! Сиди, грейся на солнце, лови и рассовывай по карманам мгновенья уходящего лета!».
Извини, мать природа, – не могу! «Цигель-цигель, ай лю-лю, «Михаил Светлов»!
Я и так-то припозднился с рассказом о своём герое лет на… двадцать. Да что там «на двадцать»!.. Додумайся я заняться сбором материала хотя бы пять или восемь вёсен тому назад, работа над книгой была бы куда более плодотворной. А теперь… Сколько людей, по-настоящему знавших этого человека, уже никогда не смогут о нём рассказать.
Я понимаю, что процесс этот закономерный, но от мысли этой легче не становится!..
Но понимаю я и другое: нельзя допустить, чтобы ушла в песок и сама память об этом человеке и артисте. И так уж слишком многое кануло безвозвратно!
Впрочем, эта моя убеждённость, что называется, не раз проверялась на прочность. «То, чем ты занимаешься, никому не интересно, книгу твою никто не будет читать…» – такими словами «напутствовали» меня некоторые мои «доброжелатели». Ну, был в своё время такой конферансье. Хорошо, для своего времени, работал. Ушёл в мир иной в назначенный час! Зачем тревожить его прах? Причём, говорилось это не людьми с улицы, а «зубастыми» администраторами и конферансье со стажем!
Меня коробит от таких рассуждений.
Но коробит, честно говоря, не сильно. И вот почему.
В отношении к эстрадному искусству вообще и к профессии конферансье в частности во все времена замечался оттенок какой-то недоуважительности, недооцененности что ли, в сравнении с другими видами искусств.
А чего вы хотите, если традиции поношения эстрады в целом… десять веков?! Церковь осуждала мирские сборища, языческие обряды, сопровождающиеся песнями и плясками, в связи с чем порицались также скоморошьи игры и забавы. Ещё автор «Поучения о казнях божьих»1 обличал тех мирян, кто имеет пристрастие к пению и пляске.
«Таких людей дьявол обольщает и другими способами… трубами и скоморохами… Мы ведь видим места для игрищ утоптанными, и здесь толпится многое множество людей, так что происходит давка, когда начинается внушённое дьяволом зрелище».
Приглашая читателя в такие исторические дебри, автор рискует выступить в роли Ивана Сусанина, и всё же… Учитывая, что скоморохи являются праотцами современных артистов эстрады, я искренне поздравляю вас, любезные читатели! Только что вы прочитали фрагмент из первой рецензии на их нелёгкий, неблагодарный труд. Хотя и вполне востребованный.
И пошла плясать губерния! И уж тысячу лет как пляшет! И взошла, пустила вековые корни с той поры традиция относиться к самому зрелищному виду искусства, как к чему-то, в принципе, допустимому, часто – забавному, но всегда – несерьёзному, второсортному… Постоянная боязнь критических оплеух (не всегда справедливых, кстати сказать) – вот чем была просто пропитана жизнь эстрады! В той атмосфере одинаково тяжело дышалось всем: и гениям и посредственностям, и мэтрам и новичкам.
Ругали-то, конечно, всегда и многих, но ни в одной актёрской специальности это так не ощущалось, как у эстрадников! За века, покуда это всё продолжалось, воздухом унижения вдоволь надышались сотни тысяч российских артистов «лёгкого жанра»! И вот вам результат! Эстрада взрастила в себе такой комплекс неполноценности, что дальше него – только мания величия! Выработалась некая генетическая неуверенность в значении и порочности своего ремесла. Иными словами, в людях почти отсутствует ген профессионального кастового достоинства.
Дошло до вещей, в других областях человеческой деятельности вообще немыслимых. Вы, например, можете представить себе нынешнего русского лётчика-испытателя, который, услышав про Валерия Чкалова, небрежно махнёт рукой: «Старо! Прошлый век! Кто его сегодня вспомнит?!» Или современный отечественный футбольный вратарь, допустим, Игорь Акинфеев, в ответ на упоминание имени Льва Яшина, сделал бы большие глаза и спросил «А это кто?»
И только у моих коллег стало хорошим тоном быстро забывать тех мастеров, что составляют цвет отечественной эстрады! Особенно это касается конферансье! Они, разумеется, «должны быть лишены тщеславия», – как сказал мне однажды в интервью преданный рыцарь этого жанра Валерий Москалев.
Хорошо. Я согласен. Но ведь даже скромность имеет свои пределы! Можно быть скромным, памятуя, что «быть знаменитым некрасиво». Это объяснимо. Ну а быть Иванами, не помнящими своего родства, – разве красиво?
Однажды я взял и решил для себя: Гаркави – это «мой» артист! И это при том, что я пришёл в этот мир за полтора года до того, как он его покинул. Старшие коллеги меня спрашивают: «Почему ты интересуешься именно им? Почему Гаркави?» Я и сам себе не раз задавал этот вопрос. Что ж, возможно, книга и написана с одной единственной целью: чтобы себе и окружающим на него ответить…
Слушая рассказы его современников, соединяя эти рассказы с фотографиями, афишами, рукописями Гаркави, я всё более укреплялся в правильности своего выбора. Коллеги по эстрадному «цеху», и не только, – должны заново открыть для себя эту удивительную, в чём-то противоречивую, но, безусловно, чрезвычайно талантливую личность!
А началось всё с упоминаний о Гаркави моего первого эстрадного учителя – Сергея Михайловича Крылова2 – блестящего конферансье, экспромтиста и острослова, ученика Якова Александровича Протазанова3.
К стыду своему, я запомнил только один эпизод их совместного общения (а может быть и дружбы). Оба страдали от камней в почках. Однажды Гаркави доверительно сообщил Крылову: «Серёжа, если собрать наши камни вместе, то твои можно положить вдоль дороги, а мои поперёк!» Тут, как сказали бы в Малороссии, «можэ було, а можэ ни…»
С тех пор прошло много лет. И сегодня мне легче ответить на вопрос на каких площадках я не работал, каких артистов, в каких жанрах я не представлял, в каких ситуациях и переплётах я не оказывался… И при этом мысли о Гаркави никогда не покидали меня Тенью он был для меня или облаком, или мифом, придуманным мной, но, оставаясь один на один с очень разной публикой, я всегда ощущал его за своей спиной. Набрасываю в блокноте «шапку» концерта, сочиняю стихотворный экспромт юбиляру, фирме, заполняю ли неожиданную паузу на вечере отдыха – со мною рядом Михаил Гаркави.
Эта книга не научный труд, не монография. Её написал не аспирант, грезящий мечтой о докторской степени. Таких мечтателей хватает и без меня! Я писал её урывками, в перерывах между работой «всея ведущего» и домашней маетой…
Приведу одно сравнение. Не сочтите за рекламу, но сейчас довольно популярна передача «Ищу тебя» на Первом канале. Так вот. Если нынешних шоуменов сравнить с детьми, а Гаркави – с пропавшим без вести родителем, то цель книги примерно та же – соединить «с отцом» «детей», которые не то, чтобы потеряли связь с «папой», но даже не подозревали, что… он когда-нибудь существовал! А согласятся ли они принять родного по крови человека или нет – личное дело каждого из «детишек».
Впрочем, дорогие «детишки», не пора ли уже «открыть занавес»?
Дамы и господа, внимание!..
В меру сил и собранного материала, я – начинаю! Я расскажу вам о замечательном артисте, чьё имя не должно и не может, вот так просто взять и бухнуться в Лету…

М. Н. Гаркави
Глава первая
Откуда вы, Михаил Наумович?
Пусть спорят обо мне хоть семь городов.
Жалко, что ли.
(Цитата из этой главы)Наш герой родился в Москве.
И сразу, не написав ещё и двух предложений, предлагаю читателю сыграть в «верю-не-верю». Думайте, читатель, думайте – время пошло!..
Ну, что, не догадались? Подсказываю ответ. Место рождения указано неправильно. И не мной, а недавно вышедшей энциклопедией «Эстрада России ХХ век». Но за эту досадную опечатку лично я на издателей обиды не держу. Не так-то просто перепроверять все факты в почти девятисотстраничном труде! Хотя, с другой стороны, чему-чему, а энциклопедиям мы, простые смертные, всё-таки привыкли доверять. Ну да ладно!.. Люди они занятые, и, очевидно, им было просто недосуг доехать до Российского архива литературы и искусства (РГАЛИ) и уточнить столь незначительный факт.
И ещё. Немалую долю путаницы в этом вопросе внёс… сам Михаил Наумович. В рукописи своего никогда не публиковавшегося «Биографического рассказа» он признаётся:
«…В моей биографии есть ряд вещей, резко отличающих её от обычных биографий. Во-первых, я не указываю в моей биографии, в каком городе я родился. Пусть спорят обо мне хоть семь городов. Жалко, что ли. И, во-вторых, я не указываю в моей биографии, сколько мне лет. Сколько дадите. А вдруг меньше. Это ж приятно».
Вот таким он был шалуном – наш великий эстрадный затейник! Приколистом, как сказали бы сейчас.
Но вернёмся к той статье в эстрадной энциклопедии. Автор, многоуважаемый профессор Юрий Арсеньевич Дмитриев, в сущности, не особо погрешил против истины: как творческая личность Гаркави действительно родился в Москве!
А в сохранившейся автобиографии мы находим пусть и скупые, но всё же более серьёзные строки:
«Я родился в 1897 году в городе Бобруйске Минской губернии, в семье провизора Наума Борисовича Гаркави и его жены – зубного врача – Любовь Львовны… Отец тогда служил провизором в аптеке Габриловича, а мать имела зубоврачебный кабинет».
«Есть город, что часто вижу во сне» – пел когда-то Утёсов. Что же мы знаем о городе детства Миши Гаркави?
Бобруйск – старейший город Белоруссии. По имеющимся на момент писания книги результатам археологических исследований, люди жили в этих местах, начиная с 5 – 6 веков н. э. Известно городище древних славян на реке Березине, расположенной выше нынешнего Бобруйска. В период Киевской Руси на месте современного Бобруйска находилась деревня, жители которой занимались рыболовством и бобровым промыслом. Впервые он упоминается в 1387 году. Как его только в летописях не называли: и Бобровск, и Бобруевск, и даже Бобрусек! Находился в составе Великого княжества Литовского (центр волости). Во времена Речи Посполитой в Бобруйске был замок, который сгорел в 1649 году. Городу вообще не очень везло с пожарной безопасностью, но об этом чуть позже. К Российской империи отошёл в 1792 году в качестве местечка.
В год рождения Гаркави в Бобруйске прошла перепись населения. По её данным, на 23,7 тысяч жителей приходилось 20, 4 тысячи евреев, то есть 71%.
Обратимся вновь к записям Михаила Наумовича:
«В 1899 году город Бобруйск сгорел дотла, и мы остались на улице. Родители переехали в Минск, а в 1900 году поселились окончательно в Москве, где я живу с февраля 1900 года. Отец работал сначала в товариществе „Мелкозберг“, как финансовый работник, а мать опять открыла зубоврачебный кабинет. После революции отец перешёл на службу в госбанк СССР, где прослужил до 1932 года и ушёл, получив персональную пенсию, а в 1933 году умер. После революции мать устроилась сначала в университете им. Свердлова, а потом работала в издательстве „Прибой“, „Пролетарий“, „Московский рабочий“, и последняя её должность – начальник планового отдела „Партиздата“, на каковой она и умерла в 1933 году».
Когда Мише исполнилось 7 лет, мама впервые взяла его с собой в Художественный театр. В этот день шёл «Иванов» А. П. Чехова. Неизвестно, что он понял, посмотрев этот спектакль, но после того мальчик буквально заболел театром!
Московскую 6-ю гимназию он окончил с золотой медалью. Причем, в аттестате зрелости было отмечено: «…особенно способен к истории и географии». Кстати, что до знаменитых одноклассников, то в классе Гаркави был такой не единственный. «У моего товарища по гимназии, – писал Михаил Наумович, — ныне известного литератора К. Зелинского, было отмечено в аттестате «…особенно способен к литературе и русскому языку».
В то время аттестат зрелости выдавался после восьми лет обучения. Занятия были компактные, некогда было отвлекаться, что помогало ученикам быть полностью поглощёнными обучением.
Материалы, показывающие, что актёрские способности Гаркави стали проявляться ещё в гимназии, не обнаружены. Но, учитывая все последующие проявления этой неуёмной творческой натуры, можно предположить, что и в школьные годы эти способности не дремали!
Сохранилось четверостишие неизвестного автора:
Мы с тобой знакомы с детства.Ты всегда красавцем был,Полон грации, кокетства,Ты тогда уже острил.Павел Леонидов писал об артисте:
«Был он закоренелым евреем-интеллигентом из семьи, обладавшей в трёх поколениях правом жительства в городе Москве. Языка еврейского не знал, кроме нескольких ругательств и двух-трёх прабабушкиных слов…»
В какой степени была религиозна его семья? Сведений на эту тему, как говорится, кот наплакал. Но кое-что всё-таки есть. Актриса Вера Липовецкая вспоминала рассказ Л. Руслановой про то, как отец Гаркави праздновал Пейсах4. Также немного известно о социальном происхождении родителей нашего героя. При том, что на протяжении всей жизни он довольно активно выступал в печати.
Есть один по-своему уникальный источник, расширяющий наше знание биографии Михаила Наумовича. И в то же время ещё больше путающий и без того наше нестройное представление о периоде взросления будущего «красного шоумена»!
В пятидесятые годы Гаркави дал интервью журналисту из ГДР М. Й. Шнокенбургу. Отвечая на вопрос об отношениях с Германией, Михаил Наумович сказал следующее:
«В первый раз я побывал в Германии в 1909 году, когда моя мама лечилась в Бад-Киссингене. За эти шесть недель я научился понимать немецкий язык. Позже, правда, все грамматические правила вылетели из головы… Затем, в 1913 году, я поступил на медицинский факультет в Гейдельберге. Но к началу Первой мировой войны я бросил учёбу, вернулся в Россию нелегально, а в 1915 пришёл в Германию, но уже как солдат. После ранения в Австрии вернулся на Родину и стал актёром. В 1926 году судьба вновь привела меня в Германию вместе с мамой, проходившей новый курс лечения». Затем – гастроли в Берлинском зимнем саду, где я выступал в 1931 году в течение сорока дней – 20 дней на русском языке и 20 на немецком. В 1944 году я пришёл сюда в составе актёрской фронтовой бригады для выступления перед солдатами и офицерами. 2 мая 1945 года в Берлине вёл концерт перед горящим рейхстагом… После войны я много раз приезжал в Германскую Демократическую республику и выступал перед частями Советской армии в Галь, Веймапе, Карл-Маркс-Штадте и в других городах. Я радовался приёму и аплодисментам, доставшимся мне, несмотря на ломанный немецкий…»
Что правда в этом интервью, а что плод творческого воображения? Есть в рассказе великого конферансье факты, возражений не вызывающие. Первый приезд в Германию вместе с мамой, её новый курс лечения. Всё это похоже на правду. Равно как и рассказ Гаркави о сорока выступлениях в Берлинском зимнем саду. Я пишу «похоже», потому что в архиве артиста не обнаружилось никаких материалов – газетных статей, свидетельств очевидцев, подтверждающих его рассказ.
Немецкий язык, впрочем, он действительно знал хорошо, о чём сам написал в анкете кандидата в члены ВКП (б)5. Никто не посмеет также оспорить его участие во фронтовых бригадах на финской и Великой Отечественной войнах. Знал он и французский, только хуже. Интересно, что даже это самое «хуже» работало на него… Но не будем опережать события, которые подробно описаны в главе «Конферанс и конферансье».
Но всё остальное… Он словно бы нарочно решил подшутить над будущими исследователями своей жизни и творчества, – «приколов» и «бескорыстного вранья», адресованных современникам, очевидно, было уже недостаточно… Каким образом он мог поступить в 1913 году в немецкий университет, если в 1915 году он только закончил 8-й класс 6-й Московской мужской гимназии, о чём свидетельствует групповая фотография? Об этом история умалчивает. Как следствие – не вызывает доверия прямо-таки авантюрный рассказ о нелегальном (?!) возвращении в Россию и затем последующая встреча с Германией, участие на фронтах Первой мировой войны, ранение в Австрии… Хорошо ещё, что не признался своему интервьюеру, что ехал в пломбированном вагоне и что «товарищи по борьбе» обращались к нему «товарищ Михаил».
Возникает предположение, многократно подтверждённое его современниками: Гаркави был рассказчик с необыкновенно ярким воображением. И впрямь, права Мария Владимировна Миронова: «Если Миша говорит „здрасте“ – то это нужно ещё проверить».
Я называю героя моей книги «красным шоуменом».
«Красным» – потому что, будучи советским гражданином, а с 1945 года членом коммунистической партии, всю жизнь «играл по правилам» своего времени, на партийных и антирелигиозных собраниях выступал, как истый коммунист and атеист. Из песни, как говорится…
«Шоуменом» – потому что первым из советских конферансье включил в свой репертуар те приёмы активизации любой аудитории – от камерной до стадионной. Приёмы, которые и по сей день часто даже не сознавая этого, с успехом используют современные шоумены и будут использовать ещё очень долго…
Глава вторая
На пути к себе
Прежде, чем отправиться в путешествие по страницам биографии великого конферансье, посмотрим в какой обстановке эта самая биография начиналась? Какая была эстрадная жизнь на рубеже эпох?
Разной. И такой. И сякой. Но только не скучной. Впрочем, как и полагалось советской критике того времени, она красила матушку-эстраду густой чёрной краской, создавая и представляя перед очами пролетарского читателя страшные картины.
«Одной из особенностей старой эстрады стала её измельчённость, – сокрушённо писал в 1930 году журнал „Цирк и эстрада“. – Каждый эстрадник работал на свой страх и риск, замыкаясь в собственной скорлупе, ревниво скрывал от своих товарищей „тайны“ своих номеров, один боролся за существование, подыскивая себе работу».
Кошмар! Как же они все там повымирали, бедные, «подыскивая себе работу», мучаясь при этом в скорлупе своих профессиональных тайн! К тому же, если верить автору, пользы от этих мучений было, мягко говоря, немного: «…дореволюционная эстрада была ужасающе неквалифицированна и пошла…»
Впрочем, то время было охоче на приговоры. «Весь мир насилья мы разрушим…» Новый построим… Но возникает законный вопрос: если дореволюционная эстрада была такая «ужасающая», кто же тогда создавал эстраду «нового мира» и кто поднимал её флаг? Ответ находим в гораздо более позднем издании – книге Е. Уваровой «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы»:
«Как и всякое искусство, эстрада неоднозначна: наряду с истинно народным – псевдонародность, с блеском остроумия – плоские остроты, с яркими, самобытными дарованиями – откровенная пошлость».
Постойте, постойте!.. В каком году это было написано? В две тысячи…?! Нет?! Странно…
Лучший, на мой взгляд обзор предреволюционной эстрады дал сам Гаркави в монографии «Эстрадный концерт». Этот поистине капитальный труд он начинает с разбора основного, что было на эстраде до революции. Итак, по размышлениям Гаркави получается, что до октябрьских событий 1917 года эстрады как организации фактически не существовало. Отдельные разрозненные артисты, среди которых было немало талантливых, известных и в России и за границей, были объединены (да и то не все) в Союз артистов цирка и варьете. Это не был профсоюз в его более позднем понимании, в него входили не только артисты, но и антрепренеры. Артисты выступали либо в кабаре «при столиках» (а таковые существовали как в губернских, так и в уездных городах), либо на концертах перед сеансами кино, незадолго до революции ставших входить в моду. А ещё – в театрах миниатюр. Их было очень много, перед Первой мировой войной 1914 года только в Москве их насчитывалось до 25. Таких концертов, как в советские времена не было в помине. Бывали сольные выступления певцов и певиц: Вяльцевой, Плевицкой, Сабинина, Поляковой. Давали представления фокусники аттракционного плана с пышной рекламой и зазывающими псевдонимами, вроде «Бен Али Магомед», «Маг и Чародей»… Нужно сказать и об эстрадных хорах, их было несколько в старой России. Существовали они в основном за счет спонсоров – как сказали бы теперь. Хоры сыграли большую роль в развитии русской национальной песни.
Концерты организовывались посредниками (агентами, как их называли до революции). Агенты брали за свои услуги довольно божескую по современным меркам плату – по 5 – 10 процентов с каждого заключённого контракта. Бывали случаи, когда агенты разорялись из-за отсутствия сборов или убегали, прихватив кассу. И тогда возникала картина, описанная А. Н. Островским в «Лесе». Кого-то они мне напоминают из нынешних «агентов»? Ну, например…
Репертуар того времени был с большим оттенком пошлости и скабрезности. Редко доходивший до мало-мальски гражданского звучания, да и то, только в летний период работы. Тогда в сады и на гулянья приходил рабочий люд, а он, как сами понимаете, уже требовал другого.
Какими были певцы того периода?
Лирические, исполнявшие интимные песенки, песенки настроений. Лучшей из лирических певиц в начале ХХ века считалась Анастасия Вяльцева, включавшая в свой репертуар арии из опер и оперетт, но она была единственная в своём роде. Другие же не поднимались выше слащавых песенок.
На дореволюционной эстраде были необычно талантливые артисты, сумевшие создать собственный жанр, например, Александр Вертинский. Звездою, яркой и неповторимой, сияла на эстрадном небосклоне Надежда Плевицкая.
Были и так называемые «баяны русских песен», – Садовников, Баторин, Беспалов, выступавшие в поддёвке, картузе и лакированных сапогах.
Юмористы были, в основном, трёх видов:
– Салонный юморист во фраке с непременной розой в петлице.
– Наиболее распространённым был так называемый «рваный жанр». «Прикид» артиста-юмориста представлял из себя нечто среднее между костюмом салонного куплетиста и нарядом рыжего циркового клоуна. Костюм шился из обрезков материалов самых различных расцветок. Рыжий парик с традиционным красным носом. Если подуть такой парик ртом снизу, он забавно начинал подниматься вверх.
– И, наконец, дуэты – салонные и лапотные. Создателем одного известного в России дуэта был Н. Ф. Монахов6, в дальнейшем из эстрадных жанров перешедший в оперетту, а затем и в драму.
Оригинальные номера эстрады того времени: фокусники, шпагоглотатели, эксцентрические акробаты (подчас разговаривающие со сцены), чревовещатели, одним из лучших среди которых был Г. Донской.
Гаркави помнил, что у входа в сад «Эрмитаж» размещался театр (после революции он стал называться «фанерным»), где обычно выступали эстрадные артисты. Наибольшее количество работы для них выпадало на лето. В это «жаркое» во всех смыслах время года трудились также две-три площадки в Киеве, Харькове, Одессе, Петербурге, Риге. Оттуда, полагал Гаркави, и пошли традиции так называемых современных эстрадных концертов…
В архиве конферансье сохранился документ, удостоверяющий, что между М. Гаркави и государственным издательством «Искусство» министерства культуры СССР в лице А. Карганова был заключён договор №4672. В нём говорится, что «автор обязуется сдать издательству рукопись в готовом виде не позже 15 мая 1962 года». Предметом договора и стала монография «Эстрадный концерт». Он обобщил в ней всё, что знал, читал и слышал о былой эстраде, опираясь на собственный сорокалетний опыт. Однако никаких доказательств того, что монография была опубликована, нет.
Во имя настоящего и будущего нашего эстрадного искусства, её просто необходимо издать!