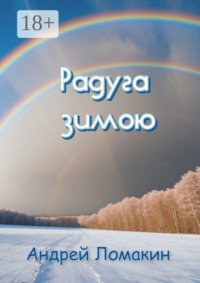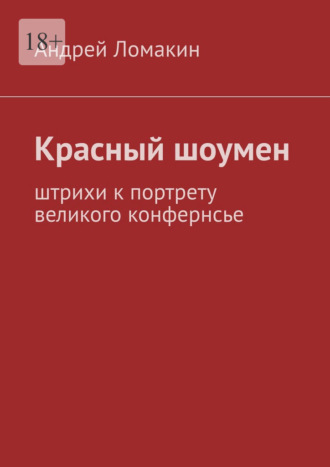
Полная версия
Красный шоумен. Штрихи к портрету великого конфернсье
Однако продолжим попытку связно выстроить этот период его жизни. Как я уже написал, в 1915 году Миша заканчивает с золотой медалью гимназию и по решению семейного совета становится студентом медицинского факультета Московского университета. Одновременно – теперь уже по велению сердца – поступает в драматическое училище Филармонического общества. Уже в 1916 году, не бросая учебы, прошёл по конкурсу и был взят учеником в МХТ. Гаркави сообщает в своей биографии, что вместе с ним поступила и будущая народная артистка СССР Алла Тарасова.
Но попасть в прославленный коллектив – полдела. С 1917 года он участвует почти во всех спектаклях, правда пока в массовых сценах. Что ж, обычная для молодого артиста «трудовая повинность». Нельзя сказать, что он так и не дождался в театре интересных ролей. К часто упоминаемой в публикациях о Гаркави роли Хлеба из «Синей птицы» М. Метерлинка можно добавить участие в «Горе от ума». Правда, сведений об этой роли найти не удалось. Осталась лишь фотография, опубликованная в одном из номеров журнала «Советская эстрада и цирк». Дата съёмки – 1916 год. Что это был за персонаж? Репетилов? А может сам Фамусов? Роль Гаркави не указана, посему предполагаю, что актёр изображал бессловесного гостя. Думаю, что об этой же фотографии говорит и Э. Шапировский в очерке «Хозяин концерта (М. Н. Гаркави)» – из книги «Конферанс и конферансье». Роль, сыгранную Гаркави в этом спектакле, Шапировский называет «сановник грибоедовской Москвы», то есть, в любом случае, персонаж без имени и до настоящей роли не дотягивающий. И всё же, Гаркави вспоминал себя начинающего не только как «артиста из массовки с «Хлебом» за пазухой». Были роли Капса («Гибель Надежды» Г. Гейерманса), Капуцина («Пан» В. Лерберга), Пилата («Проклятый принц» А. М. Ремизова), сыгранные им в студии МХТ.
В 1918 году Гаркави избирают секретарём местного комитета театра. «Вспомним, – писал Э. Шапировский, — какие это были годы. Тогда значимость этого факта станет ещё весомей. Общественная активность Гаркави, начинавшаяся на самом раннем этапе его гражданской жизни, длилась как непрерывный процесс. Местком, партком, военно-шефская работа, пропагандист, делегат профсоюзных съездов и конференций ЦК РАБИС, художественные советы и совет ЦДРИ, бесчисленные комиссии и жюри конкурсов – всего не перечесть. И всюду неподдельная увлечённость, горячность, запал. Не по долгу службы, а по зову сердца. И всюду – речи, выступления, предложения. Серьёзные и шутливые, дельные и скороспелые, но заинтересовывающие, вызывающие желание поспорить, возразить, поддержать, опровергнуть».
Ф. Носков писал, что установившиеся каноны МХТ всё чаще кажутся Гаркави устаревшими, не отвечающими сегодняшнему дню. Что ж, версия красивая, она создаёт у читателя эффективный образ непримиримого актёра-бунтаря в борьбе с закостенелыми формами реалистического театра. Быть может, оно так и было, но, на мой взгляд, причина ухода Гаркави из МХТ куда прозаичнее. Молодого, пышущего здоровьем человека, нуждающегося в деньгах, неравнодушного к женскому полу, жаждущему славы, в основном маринуют в «массовке», и изменений в судьбе, похоже, не предвидится…
Как умный человек он довольно быстро понял это, и уже через два года круто изменил свою судьбу: исполнитель роли Хлеба, уходит из МХТ на вольные хлеба – извините уж за такой каламбур.
Уважаемые и авторитетные в мире эстрады люди, такие как Ю. Дмитриев, Э. Шапировский, Ф. Носков, рассказывая о «мхатовском периоде» Михаила Наумовича, называют три года (1916 – 1919 гг.). На первый взгляд, это соответствует действительности. Ф. Носков, например, сообщает читателю, что 23 мая 1919 г. Гаркави сыграл свой последний в МХТ спектакль – «Село Степанчиково и его обитатели». Доказательство, казалось бы, налицо. Но вот, что мы находим в анкете кандидата в члены ВКП (б) М. Гаркави от 19 ноября 1943 года (цитирую дословно):
«…Род занятий с начала трудовой деятельности: август 1916 – сентябрь 1918 гг.: Москва – Художественный театр, актер».
Путаница с датами возникла, возможно, из-за того, что, уйдя из театра официально, Михаил продолжал выходить на сцену и работать. Такое бывает, знаю по себе: расставшись с окружной телекомпанией, я регулярно выходил в эфир с авторской программой на том же канале.
В следующем 1919 году Гаркави, по-видимому, «доигрывал» спектакли и спешил пообщаться со своими великими коллегами. В главе, посвящённой его поэтическому творчеству, мы подробней поговорим об этом.
Для Гаркави 1919 год ознаменован памятным событием: по просьбе В. Маяковского он читает в кафе поэтов «А вы могли бы?», «Военно-морскую любовь», первую часть поэмы «Облако в штанах». Позже Михаил Наумович с большим удовольствием читал также «Необычайное приключение…» поэта. И это было лишь начало. На протяжении всей своей творческой жизни он читал со сцены много и охотно. И В. Маяковского, и Э. Верхарна, и Н. Некрасова, и А. Пушкина, и… себя любимого.
Далее его жизнь стала сильно напоминать бег с барьерами. Как писал Шапировский, жадное стремление познать свой стиль и неугомонность натуры гонит темпераментного юношу из театра в театр. Вспомним основные вехи этого пути: «Камерный», где Гаркави исполняет роль Наамана в спектакле «Саломея» (по О. Уайльду, перевод под ред. К. Бальмонта), театр Современной буффонады, там Михаил Наумович играет сэра Бьюнекса – горняка-земляка в современной оперетте в трёх действиях «Королева ошиблась» (текст М. Вольпина, музыка К. Листова). В этом же спектакле он изображает придворных, рабфаковцев. В нижней части театральной программки было написано: «В кабаре: песенки капиталиста» – Гаркави».
Ещё один короткий, но весьма значимый эпизод в его жизни – Первый детский театр, находившийся в Мамоновском переулке. Спектакль «Маугли» – и он в роли Шерхана.
Не обошёл он своим актёрским вниманием и Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.
В 1922 году вступил в труппу театра-кабаре «Нерыдай», и потихоньку пробовал конферировать.
С 1923 года становится участником живой газеты «Синяя блуза». Через год Гаркави – руководитель одной из групп. Как и все «синеблузники», чего он там только ни делал! Играл в сценках, исполнял фельетоны, пел куплеты, танцевал, случалось, вёл программу. Драгоценная была школа!
В 1924 году во 2-м доме Советов, рядом с кинотеатром «Модерн», открылось литературное кафе «Калоша». В нём было два зала: в нижнем возвели эстраду и предназначили её для выступления артистов, а верхний зал предназначался для выступления имажинистов. Первые два месяца со дня открытия «Калоша» была с утра до вечера переполнена посетителями. Фамилия человека, которому удавалось регулярно собирать в «Калоше» хороших артистов (и при этом никогда в неё не садиться) – Гаркави!
Хронику его «странствий» по московским театрам нам поможет восстановить уже упомянутая анкета кандидата в члены ВКП (б) от 19 марта 1943 года:
Сентябрь 1918 – апрель 1920: Москва – Камерный театр, актёр.
Апрель 1920 – октябрь 1921: Москва – Опытно-героический театр, актёр.
Ноябрь 1921 – май 1923: Москва – «Нерыдай», актёр.
Май 1923 – август 1927: «Синяя блуза», актёр.
Сентябрь 1927 – май 1928: Ленинград – Театр Сатиры, актёр.
Май 1928 года – сентябрь 1928 года: Москва, Эрмитаж – конферансье.
Сентябрь 1928 года и по сей день – концертная организация ЦДКА, Мосэстрада ВГКО – конферансье.
О каком из перечисленных театров рассказать поподробнее? Ну, допустим, об «Опытно-героическом». Существовал он недолго, всего два года, с 1921 по 1923 гг. (Уместен вопрос: а был ли вообще в те годы театр, в котором бы не «отметился» Гаркави?) В нём нашему герою удалось встретиться с творчеством самого Гоголя – «Страшная месть» в восьми картинах. Можно сказать, он исполнял в этом спектакле не одну, а целых четыре роли. Так, по крайней мере, сообщала афиша театра. Играл роль есаула Горобца, пел в мужском хоре, побывал «Дивным рыцарем», да ещё и администратором этого же спектакля. О чем же был спектакль? Читаем афишу: «Жизнь здоровых и крепких казаков нарушается злостными кознями колдуна – отчаянного интригана. Один за другим падают и крепкий Данило, и его ребёнок, и Катерина. Всеразрушающий дух нечистой силы полонил всё казацкое раздолье. Но и сам колдун гибнет от руки мстителя – Дивного рыцаря. Вся трагичность в том, что ни сила, ни прямота, ни мощь людей не могут отразить тонко рассчитанных ударов колдуна. Дивный рыцарь – это светлый рок, охраняющий людей и являющий подтверждение общего закона: всякое зло рано или поздно порождает возмездие».
В этом же театре он занят в спектакле «Жакерия» по Мериме, революционное зрелище в 4-х актах. Ритмизация, пролог и эпилог В. Шершевича. Роль Жильбера, д’Арелмэна, барона исполняет М. Гаркави. И опять Гаркави-актёр удачно сочетается с Гаркави-администратором.
В Московском театре художественных миниатюр «Палас» Михаил Наумович играет в спектаклях – «Суд праведный», «Американизированный Юджин Онегин», «Вампир».
На сцене Ленинградского Театра Сатиры зрители увидели такие спектакли с его участием, как «Городские сумасшедшие» и «Собственно жена».
А однажды в 1921 году в Каретном ряду Эрмитажа состоялся вечер, посвящённый Н. В. Гоголю. Со вступительным словом к зрителям обратился поэт. В. Иванов. Гости увидели «Женитьбу», где Л. Анохина была в роли Агафьи Тихоновны, В. Масалитинова играла Арину Пантелеймоновну, М. Блюменталь-Тамарина – Сваху и М. Гаркави, сыгравший Подколесина. В конце вечера был показан отрывок из «Мёртвых душ», где в паре с Коробочкой (Блюменталь-Тамариной) выступал легендарный Чичиков, он же Гаркави.
Если какой-нибудь театр был мною упущен – не мудрено, и всё ж прошу за то прощения заранее. Неуёмной яркой личностью стоило заняться уже хотя бы потому, что в процессе изучения раскрывается интереснейшая творческая жизнь Москвы первых постреволюционных дней. Какое количество театров и театриков манит своими огнями!
С какого времени он стал конферансье? Сам Гаркави так пишет об этом: «…с 1928 года начал конферировать в Эрмитаже (Москва), мюзик-холлах Москвы, Ленинграда, Харькова, Горького (нынче Нижний Новгород – А.Л.), Ростова, Тбилиси».
«Началом своего нового амплуа конферансье считаю 1927 год, когда сыграл в Театре Сатиры для обозрения с конферансом, что и определило мою дальнейшую работу, которая затем протекала на ведущих площадках Москвы с эпизодическим выездом на периферию».
Но и этой нагрузки ему было мало. Общественная работа стала ещё одной всепоглощающей страстью: первый секретарь месткома в Художественном театре, председатель месткома Камерного театра, член президиума Губрабис, секретарь Ревизионной комиссии ЦК РАБИС, активный участник шефской работы, всего и не перечислишь.
Правильно написал про Гаркави его друг А. Кривицкий через несколько лет после смерти конферансье: «Миша не знал, что такое «хватит».
Глава третья
Трудящиеся ли эстрадники?
С момента прихода большевиков жизнь менялась быстро, но не настолько, как, быть может, хотелось бы новой власти. Вот и матушка-эстрада долгое время оставалась с прежним, столь раздражавшим красное руководство лицом. С прежними привычками, укладом, здравым смыслом. Уже десять с лишним лет прошло со дня октябрьского переворота, а до ума и сердца артистов эстрады всё никак не доходило, что прилично зарабатывать своим трудом стало как-то не очень хорошо. Более того – небезопасно. Пресса в те годы не только смакуя считала чужие деньги (этим она, впрочем, не брезгует и сейчас), но и устраивала «товарищам-артистам» на этот счёт публичные разносы. Во втором номере журнала «Цирк и эстрада» за 1930 год читаем:
«Тамара Церетели менее 300 рублей за выступление не берёт… с Мосгубрабисами за выступление ей удалось сорвать 500 рублей. …Квалифицированный инженер получает за проект, над которым ему приходится сидеть несколько месяцев, 700—800 рублей. …Народный артист Собинов за приближение своего искусства к широким массам берёт 250 рублей (малый зал консерватории)». Конферансье Амурский с Мосгубрабиса «по знакомству» берёт 40 рублей, со школы ОГПУ – 100 р.»
Далее безымянный автор делает следующий вывод:
«Едва ли как не растратой государственных денег можно назвать все эти тысячные и пятисотрублёвые гонорары, щедро разбрасываемые нашими госорганами Пироговым, Тамарам Церетели и т.д.».
В том же издании удалось найти статью с обескураживающим названием «Трудящиеся ли эстрадники?» Это не из Зощенко. Это из жизни.
«Во многих учреждениях установился определённый взгляд, что эстрадники не трудящиеся. По крайней мере, таков взгляд Мосздравотдела, не считающегося с профессиональными болезнями эстрадников. «Болейте сколько угодно, но бюллетеня вы от нас не получите» – заявляют мосздравотделовцы больным эстрадникам». Далее идёт трогательный рассказ о том, как некий пианист Панов растянул себе связки на руках и обратился к врачу Петровской амбулатории. Врач, пощупав и осмотрев руку, направил его в Мосздравотдел, где некий врач Гречанин лечил Панова до полнейшей дисквалификации. При этом он категорически отказывался от выдачи бюллетеня. За большой период потери трудоспособности Панов не получил ни копейки».
Такая вот история. Но очевидно столь «трогательного» отношения к служителям «лёгкого жанра» было недостаточно. Без всякой иронии журнал «Эстрада и цирк» выступил с призывом понизить артистам концертные ставки. В ответ знаменитый конферансье Александр Менделеевич (неужели без всякой иронии?) заявлял:
«Эстрадные выступления днём на фабриках, заводах и клубах – дело нужное и полезное. Охотно иду навстречу редакции… и снижаю свою ставку на 40%. Никого не вызываю, – резюмировал Александр Абрамович, – ибо уверен, что мои товарищи – народ сознательный и сделают то же самое без вызова».
И бесплатно отряд поскакал на врага…
17 декабря 1930 года в жизни нижегородских любителей эстрады случилось значительное событие: открылся местный мюзик-холл. Похвалив программу в целом, пресса, тем не менее, отметила, что «отдельные представители пародийного фельетона и сатирического рассказа менее выразительны». В качестве мишеней были выбраны Г. Немчинский, Г. Мармеладов и В. Коралли – в тот момент новоиспечённый жених К. Шульженко. По мнению рецензента Вл. Ярополка, они были «многословны, неторопливо-речисты, в то время как требуется короткий, острый… бросок». Ещё больше досталось Клавдии Ивановне, чьи песенки сегодняшнего дня (к счастью, уже вчерашний день) представляют из себя типичную дешёвую «интернациональную» экзотику: «Удачное исполнение этих песенок не спасло певицу от законных упрёков в сомнительном репертуаре».
То ли грозный критик устал направо и налево метать свои стрелы, то ли просто кончились, но конферансье он похвалил: «Программы мюзик-холла ведёт с хорошим умением и изобретательностью Мих. Гаркави». В этом же номере «Цирка и эстрады» мы находим корреспонденцию самого Гаркави «с места события». К слову сказать, всю свою последующую творческую жизнь Гаркави будет периодически выступать в печати в качестве корреспондента.
Пока в прессе продолжался спор на тему трудящиеся ли эстрадники или бездельники, «бездельники», между тем, накручивали по российским дорогам бесчисленные километры. Только за месяц мюзик-холл трижды выезжал в Красное Сормово. Была организована ударная бригада для проведения антирелигиозной пропаганды – увы, одной из печальных примет жизни того времени, в том числе и жизни эстрадной. Бригада в составе В. Глебовой, М. Дарской, Г. Немчинского, Соновина и М. Гаркави выезжала в клуб инвалидов, который помещался в церкви. Любопытно, с какими чувствами Михаил Наумович выходил на сцену в божьем храме? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем об этом. В небольшой заметке Гаркави пишет, что также был выезд во время обеденного перерыва в вагонный цех завода «Красное Сормово», где выступавших артистов Немчинского и Гаркави слушало 100000 рабочих.
Как же жилось в те годы нашему брату эстрадному артисту? Причём, я хотел бы остановиться именно на двадцатых годах, поскольку для современных любителей, да и знатоков эстрады, это уже настоящий мезозой…
А. Бейлин7 – один из авторов книги «Мастера Эстрады» писал о них, как о годах многих дебютов в искусстве: «Советская эстрада вся в целом переживала тогда пору дебюта. Она только рождалась. В большинстве в этом искусстве работали старые мастера. Они принесли с собой не только таланты, не только отточенную форму исполнения, но и вкусы, служившие когда-то другому зрителю, репертуар, едва перекрашенный в духе времени. Традиции старой эстрады, в которых были элементы подлинного искусства и тяжёлый груз чужой народу идеологии, нужно было не столько продолжать, сколько преодолевать. Это был процесс нелёгкий, тем более, что многие талантливые артисты принадлежали когда-то старой эстраде. …В двадцатые годы оттачивалось исполнительское мастерство, возникали новые жанры».
Ничто не вызывает возражения в этих словах. Единственное, что немного режет слух, так это дважды использованное в абзаце «когда-то». Словно бы речь идёт не о двадцатых годах, а о чём-то стародавнем. А дело ведь именно в том, что «другой зритель» и «старая эстрада» – всё это было не «когда-то», а почти вчера. Сломать общественный строй и привычный уклад жизни оказалось труднее, нежели поменять старый репертуар на новый. Как, впрочем, и нового зрителя. Ведь не все же «бывшие» на тот период отбыли в эмиграцию или были физически уничтожены.
В той же статье Бейлин предлагает читателю интересную экскурсию по эстрадным театрам, игравшим заметную роль в культурной жизни тех лет: созданные ещё до революции «Кривое зеркало» и «Летучая мышь», «Свободный театр», связанный с именем Леонида Утёсова; «Вольная комедия», «Балаганчик», созданные благодаря усилиям режиссёра Николая Петрова; театр-мастерская Николая Форрегера, славящаяся яркими пародиями; московские «Ларёк с комедиантами», «Театр на площади», «Театр современной буффонады», «Кривой Джимми», «Павлиний хвост»…
Полистаем журналы тех лет. «Цирк и эстрада». Год 1927-й. В беседе с неким А. Асиловым обсуждается проблема создания так называемых «дневных театров».
«Условия сегодняшнего дня – лихорадочная горячка нашего строительства, растущий с каждым днём бешеный темп жизни – ставят в порядок дня вопрос о создании дневного театра. Театр будет работать с 12 часов дня до 12 часов ночи – беспрерывно меняя установку на обслуживание дневного зрителя – кадр которого составит 30 процентов трудящихся населения Москвы, работающих вечерами, приезжающие провинциалы, учащиеся, люди свободных профессий, домашние хозяйки, люди, живущие под Москвой.
Основное достоинство театра – …удобство и дешевизна, зритель получит возможность входа в любое время и на любой номер программы…»
В ответ на подобное предложение тут же посыпались отклики весьма авторитетных в эстрадном искусстве людей:
Владимир Хенкин:
«Необходимость в дневных театрах мне кажется несомненной, так как есть громадный процент трудящихся, часы которых заняты на производстве именно тогда, когда функционируют театры. …Такими пасынками поневоле, отлученными от зрелищ, являются, как это не парадоксально, актёры…»
Н. Форрегер8:
«Театр дневного отдыха по типу западно-американских дневных театров несомненно нужен… Но мне кажется весьма спорным и сомнительным успех театра, так как наибольший контингент публики слишком привык к вечернему театру…»
Своеобразно отреагировал Н. П. Смирнов-Сокольский:
«Да господи же-ж» Да давайте же-ж! Братишечка, вваливай! Америка! Гениально!.. Ждём!»
Право, если бы я не знал, что этой реплике семьдесят с лишним лет, то подумал, что передо мной лежит распечатка с форума в интернете, на котором проблему дневных театров обсуждают посетители!
В конце – постскриптумом – Николай Павлович приписал:
«Если случайно с 12 дня до 12 ночи не хватит публики, можно обойтись и без неё».
Высказал своё мнение и Михаил Гаркави:
«Эстрада в театральном окружении – уже это одно заставляет радоваться содержанию зрелища, где будет отведено солидное место эстраде и её достижениям. Театр днём – это ново и интересно. Поскольку вход в театр будет непрерывным, это может быть подлинным театром широких масс».
Да, чтобы не забыть!.. В том же 1927 году в парном конферансе шутками и остротами зрителей порадовал дуэт Михаила Гаркави и Леонида Утёсова в знаменитом на всю Москву Фанерном театре в Эрмитаже. Уникальный дуэт двух столь разных артистов, сколь и похожих друг на друга и в юморе и в музыкальности. Как жаль, что об этом кратком эпизоде в жизни двух эстрадных гениев практически ничего не известно!
Эстрадный мир (вернее, эстрадный быт) 20-х годов ушедшего века… Как тебя понять, прочувствовать, потрогать, ощутить такой запах? Ни придумать, ни нафантазировать, а именно прочувствовать. Кто поможет нам в этом? В какой-то степени нашим сталкером в этом путешествии может стать автор заметки «Быт эстрадника» – Р. Блюменау9, опубликовавший её в журнале «Цирк и эстрада». Прочти её внимательно, не торопясь…
«Не светлый быт у эстрадника. Жизнь его неизмеримо связана с Посредрабисом10, с прокуренными до отказа комнатками и коридорами Рождественки 6». Там эстрадник караулит работу. Все надежды эстрадника – на таинственную дверь комнаты номер 8… где решается его судьба, комнаты от которой зависит кусок хлеба его и его семьи. Вход в комнату номер восемь не доступен рядовому эстраднику.
Комната номер восемь – эстрадный отдел Центрпосредрабиса. Иногда туда прорывается изголодавшийся эстрадник, просит работы – его не слушают. (Для этого установлены приёмные часы, когда зав. Эстрадным отделом заносит в книгу имена безработных эстрадников. Но книга остаётся книгой, а безработица – безработицей). Эстрадник повышает голос, стучит по стволу, даёт волю накипевшим чувствам. В результате – протокол «за хулиганство», и эстрадник долгие дни принуждён «продавать слонов» на тротуарах Рождественки, дожидаясь своей очереди.
…Невесёлые, сосредоточенные лица у эстрадников потому, что большинство разговорников-середняков разучивают свои монологи и куплеты, шагая от угла Рождественки до угла Кузнецкого и обратно…
…Большинство эстрадников обдумывают свои номера в прокуренных комнатках и коридорах Посредрабиса перед вечно закрытой дверью комнаты номер 8. А вечером у многих не лучшая обстановка Нарпита.
Эстрадник должен хорошо одеваться. Костюм – орудие производства эстрадника. В рваном пиджаке и залатанных брюках не возьмут на работу. И эстрадник тянется. Эстрадник М. Д-н признавался, что ему в течение двух месяцев ежедневно приходилось делать «моцион» от Рождественки до Рогожской заставы, два месяца питаться только хлебом, для того, чтобы… сшить новый костюм.
Каждые 2—3 месяца должны платить солидные деньги балетмейстеру за новую постановку танца. За два месяца танец стареет, и для того, чтобы получить работу, нужно делать новый. А расходы непосильны…»
Вот это сроки! Что же говорить о нынешних танцорах на эстраде, выступающих с одними и теми же номерами годами? А в других жанрах – разве не так? А в иллюзии? В музыкальной эксцентрике? А в конферансье?.. А тот же Борис Сергеевич Брунов, у которого был «вечный» номер: синхро-буфф «Техника»? А я, грешник? А мои коллеги?.. Причем, я пишу об этом без осуждения или самобичевания. Для нас, современных эстрадников, это стало нормой. Право же, времена меняются и мы вместе с ними.
«…Однажды, – продолжает автор статьи, – пришлось встретиться с эстрадником, который одевался очень хорошо – он ежедневно ходил во фраке и крахмальном белье. Правда, фрак имел довольно помятый вид, а крахмальное бельё – желтоватый оттенок. Человек во фраке был один из лучших русских манипуляторов – Дик Картер. Фрачное одеяние объяснялось просто: костюмы Картера с частью реквизита лежали на вокзале. Их надо было выкупить. А для выкупа денег не было – приходилось ходить во фраке. Ежедневно человек во фраке являлся в отделение милиции и заявлял: «Я артист, у меня нет квартиры и нет денег на гостиницу, позвольте переночевать».
Три недели он жил в разных отделениях милиции, ночуя в «дежурках» и «холодных», вместе с пьяными.
Если у эстрадника есть телефон, он ежедневно получает 2 – 3 приглашения на участие в бесплатных концертах. Если нет телефона, почта приносит солидное количество отпечатанных в типографии и на машинке листов-приглашений выступить бесплатно.
…Правда, здесь, кроме отзывчивости есть и кое-что другое – «а может быть, понравлюсь хозяйственнику, может быть возьмут на работу».