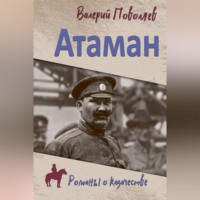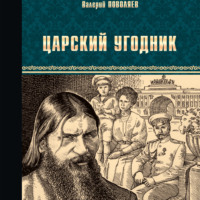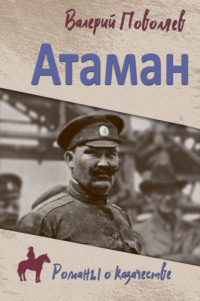Полная версия
Сын Пролётной Утки
– Папа, ты знаешь, я тебя очень люблю.
Гордеев ощутил, как у него тревожно сжалось сердце, внутри словно бы что-то сдвинулось, ему сделалось ознобно, боязно за сына, пространство перед ним пошло розовыми пятнами, и он прижал к себе Почемучку.
– Знаю, – сказал он.
Ему бы жилось много хуже, во сто крат хуже, если бы у него не было Почемучки – жизнь тогда имела бы совсем другие тона, более темные, хотя цвет темных пятен был бы иным, скорее всего – красным, кровянистым.
Почемучка затих у него под мышкой на несколько мгновений, мотом дернулся, запричитал обрадованно:
– Вон еще «оленьи рожки»!
– Где?
– Да вон! Целая поляна!
Грибы были какие-то колдовские, они словно бы вытаяли из ничего, еще несколько минут назад крохотная зеленая полянка была пуста, Гордеев несколько раз бросал на нее ищущий взгляд, и если бы там было за что зацепиться глазу, Гордеев обязательно зацепился бы, но поляна была пуста, – сейчас же на ней возникло целое полотно – переплелась, образовав единый сложный рисунок, целая семья грибов. Над рисунком вились, нервно подпрыгивая, а затем резко опускаясь вниз, колючие местные комары, мелкие, противные, способные довести до обморока кого угодно, даже бегемота. Почемучка кинулся к грибам, подставил под них полиэтиленовый пакет. Будет сегодня у них вечером очень вкусное жарево.
Гордеев вновь почувствовал, как у него тоскливо сжалось сердце. Не отпускало странное гнетущее ощущение, способное опустошить человека вконец – такое ощущение остается обычно после неравной драки, в которой побеждает обидчик… Гордеев втянул в себя сквозь зубы воздух. Почемучка с радостными вскриками продолжал рвать «оленьи рожки».
Красива земля здешняя, красивы сучанские сопки, как красивы и речушки, в которых плавает красная рыба, и задымленное дневным жаром небо, и огромные яркие бабочки, вьющиеся над лесными саранками, – все это будет сниться, если Гордеев уедет куда-нибудь отсюда, и богатства под этим зеленым покровом прячутся немеряные – черное золото, как в «Расее» привыкли называть уголь. Самых разных марок – антрацит и «ПА» – полуантрацит, «Ж» и «СС» – жирный металлургический и слабоспекающийся, энергетические угли – самые разные, словом.
Теперь уже не добыть ничего – от шахт, которыми когда-то гордились люди, остался только один пшик, далекое воспоминание – ныне закрыты все шахты – и «Тигровая», и Центральная, и «Северная» и «Авангард», не говоря уже об обычных участках. Там где раньше добывали уголь, ныне пахнет кладбищем, мертвечина так и лезет изо всех углов… А шахты тут глубокие – по шестьсот, семьсот метров. Если их оставить без присмотра хотя бы на полгода – шахты погибнут. В общем, считай, что они погибли – без присмотра они стоят уже несколько лет. Весь город ныне в простое, весь Сучан без денег – а это более пятидесяти тысяч человек. Пятьдесят тысяч ртов.
Одно предприятие ныне только и работает в Сучане – швейная фабрика. И то потому, что фабрику купили ушлые леди из Южной Кореи, приволокли сюда по морю кое-какую технику, наладили производство футболок и рубах, гонят свою продукцию прямиком в Штаты, здесь же, в Приморье, ни одной рубахи не оставляют – все туда, дяде Сэму, его знакомым и родственникам. Гордеев против этого, конечно, не возражает, но все-таки ему было немного обидно. И смутная обида эта с месяцами накапливалась, грозя превратиться в ком, который в конце концов может закупорить глотку и удушить.
Работают на этом предприятии, с названием, напоминающим, кстати, скрип жучка-древоточца, «Коррос», одни бабы, получают по четыре с половиной тысячи «деревянных», света белого совершенно не видят… А что такое четыре с половиной тысячи рэ в условиях Сучана? Дырка от бублика, тьфу от пустой пластиковой бутылки, пшик – зимой, например, только за одну квартиру, за тепло и воду надо выложить те же четыре с половиной тысячи… А на что жить? И вообще, где их взять, деньги эти?
Многие заложили свои квартиры – надо было выдюжить хотя бы первую, самую трудную пору, а там, решили, видно будет, как жить дальше. Гордеев тоже заложил свою квартиру.
Иного пути у него не было, только этот – никаких других вариантов.
Когда бабы, работающие на «Корросе», собрались на свою маевку и потребовали увеличения зарплаты, – они отлично понимали, что труд их стоит больше, чем они получают, – к крикуньям вышел управляющий – низенький квадратный кореец в крохотных золотых очках, с носиком-пуговкой, популярным в русских селениях, и гаркнул что было силы:
– Тях-ха!
За время пребывания в России этот способный человек изучил не только наш язык, но и обычаи, знал, чем можно испугать русскую бабу – не ружьем, не ножом, а только криком… Бабы разом притихли, уставились выжидающе на управляющего, хотя были готовы проглотить его… А что – вполне мясистый господин, вполне можно отправить его в желудок… В сыром виде. Как устрицу. Хренком только надо сдобрить.
– Чего вы хотите? – спросил управляющий у женщин, как будто не знал, чего они хотят.
– Повышения зарплаты, – громко ответили ему женщины, – и нормальных условий на производстве. Не то даже отойти в туалет нельзя, так и сидим с переполненными мочевыми пузырями.
Грубо это было, конечно, но трудящиеся женщины понимали, что по-иному к этому страшному коротышке обращаться нельзя.
Управляющий, зная здешних женщин, знал и другое – любая его правота, даже самая неправая, самая лживая, безобразная, оскорбительная, за которую под глаз подвешивают фонарь, возьмет верх над правотой этих зарвавшихся баб. Их правота – тьфу! Он сделал пренебрежительный жест.
– Я бы на вашем месте даже дышать перестал, не то чтобы обращаться с какими-то глупыми просьбами. – Густой плевок шлепнулся под ноги работницам. – Не нравится вам фабрика в городе Партизанске – я переведу ее на Филиппины. Там живут люди более сговорчивые и никаких дурацких требований насчет туалетов выставлять не будут.
Так сучанские женщины и остались ни с чем, продолжить «дипломатические» переговори они не рискнули.
Вечером, когда Гордеев жарил дневной улов – набрался увесистый пакет «оленьих рожков», Почемучка прыгал рядом и задавал очередные «почему?», на которые отец отвечал обстоятельно, как и положено отцу, иначе сын будет недоволен, а этого Гордееву очень не хотелось бы, – раздался звонок в дверь.
– Кто это мог быть? – недоуменно спросил отец у Почемучки.
Тот по-взрослому приподнял одно плечо:
– Не знаю.
У Гордеева нехорошо закололо сердце, он сделал пламя на газовой горелке поменьше, обратив синеватый плотный бутон в прозрачную плоскую розочку, поддел пальцем Почемучке под нос – следи, мол, чтобы добыча не подгорела, и пошел к двери. Открыл.
На лестничной площадке стояли трое. Одного из этой тройки Гордеев знал – это был человек грузинской внешности со скошенным набок крупным носом – в молодости он явно занимался боксом, там ему нос и свернули, грузин глянул на Гордеева в упор, в темных глазах его заполыхали злые огоньки, и грузин, нервно дернув ртом, опустил голову, двух других, круглоголовых, с гладко выбритыми «а-ля бильярдный шар» черепами, Гордеев видел впервые.
По-хозяйски отодвинув Гордеева в сторону, грузин прошел в квартиру.
Бритоголовые проследовали за ним. На Гордеева они даже не взглянули, он для них словно бы вообще не существовал. Гордеев ощутил в горле твердый комок, внезапно возникший, словно бы в глотку ему попал камень, застрял – ни туда ни сюда. Гордеев попробовал его проглотить, но это не получилось…
– Вы кто? – услышал он голос Почемучки, дернулся, устремляясь на кухню. – Почему вы здесь? Что вы тут делаете?
Внутри у Гордеева сжалось сердце – как бы эти люди не обидели Почемучку?
Фамилия грузина была Порхадзе, она всплыла в мозгу словно бы сама по себе, из ничего, только что не было ее и вдруг вывернулась из глуби, словно гнилая рыба, которую даже вороны не рискуют есть. Порхадзе заглянул в одну комнату, потом в другую, колупнул ногтем обои – будто бы орел острым когтем поддел, под обоями что-то звонко зашуршало, посыпалось вниз золотым песком.
Порхадзе послушал этот сухой неприятный шорох, дернул одной половиной лица, нос у него еще больше съехал набок, – и некоторое время стоял молча, глядя куда-то в угол. Гордеев тем временем справился с камнем, закупорившим ему горло, поинтересовался скрипуче, незнакомым, севшим голосом:
– Вам, собственно, чего?
Нелепо и довольно робко прозвучал этот вопрос, он словно бы оборванный кусок дыма повис в воздухе. Гордеев в очередной раз отметил недовольно, что в нем произошли некие необратимые изменения, и всему виной его нынешнее положение безработного человека.
Когда у него была работа, была зарплата, в доме все было в порядке, жена хлопотала на кухне, он был одним, не стало всего этого – он сделался другим. Незнакомым, испуганным, нервным, словно бы внутри у него что-то вымыло, он измельчился. Осознание этого было противно.
– Вам, собственно… чего? – повторил он свой вопрос, отметил, что голос у него противно дрогнул.
Грузин ничего не ответил, громко засопел, прикусил крупными верхними зубами нижнюю губу, отчего вид его сделался щучьим, недовольным, заглянул в крохотный темный чуланчик, где Гордеев хранил тряпки, щетку на длинной палке для протирки пола, шумно потянул носом. Рот у грузина брезгливо дернулся.
Закончив осмотр квартиры, Порхадзе переключил свой организм на другой ритм, перестал быть по-кошачьи суетливым, обрел осанку, земную тяжесть, выпрямился. Лицо его потемнело, словно бы он получил команду из космоса навести на нашей планете порядок.
– Значит, так, – произнес он хмуро, веско, будто большой начальник, приехавший к папуасам разбираться, кто у кого украл стеклянные бусы, по его виду можно было легко понять, что правых в таких разборках не бывает – бывают только виноватые. – Кредит доверия кончился, – в голосе Порхадзе послышались дребезжащие железные нотки. – Если завтра к двенадцати ноль-ноль не вернете деньги, которые наша фирма выдала вам под залог, обеспечивая ваше, пардон, существование в городе Партизанске, – гость не сдержался, усмехнулся, потом, поймав себя на мысли, что усмехаться в таких случаях неприлично, в России это непринято, прикусил зубами нижнюю губу, вид у него разом сделался постным, будто ему запретили есть вкусные пирожки с налимьей печенью, – то вам придется эту квартиру покинуть.
– А вещи? – дрогнувшим голосом спросил Гордеев, – он почувствовал, как в горле у него образовался твердый теплый комок, – более дурацкого, более неподходящего вопроса он не мог задать.
– Вещи – с собой, – жестко, безапелляционно ответил грузин, – нам ваши вещи не нужны.
Воздух перед Гордеевым покраснел, сделался густым, студенистым, словно застывшая сукровица, он помотал протестующе головой, услышал голос Порхадзе, донесшийся до него издалека, но что тот сказал, Гордеев не разобрал, голос грузина раздавило пространство, разделявшее этого человека, одетого в плотный, не по погоде, шерстяной костюм, обутого в лаковые модерновые туфли-скороходы, украшенные длинными, задирающимися кверху носами, и Гордеева… Гордеев прислонился к стене, глотнул немного воздуха и закрыл глаза.
Когда открыл, то перед ним стоял грузин и кривил плоские темные губы.
– Вам все понятно?
Гордеев вновь глотнул воздуха, пробивая камень, застрявший в горле, прошептал стиснуто, будто на шею ему была накинута удавка:
– Вы не имеете права.
Порхадзе посильнее прихватил зубами нижнюю губу и обрел прежний щучий вид:
– Еще как имею. Вы прочитайте договор, там все написано… Вы читали договор?
– Да.
– Обратили внимание, что возврат ассигнованных сумм должен быть произведен в течение двадцати четырех часов после того, как деньги будут затребованы?
– Не обратил.
– А напрасно… Надо было бы обратить. Пункт этот в договоре есть. Так что… – Порхадзе кольнул его взглядом, будто гвоздем ширнул, привычно прикусил нижнюю губу. – Все понятно?
– Понятно, понятно, – Гордеев сделал несколько суетливых бесполезных движений, – я сейчас, я сейчас… – Он сунулся в стол, выдвинул один ящик, потом второй, грузин понял, чего ж ищет Гордеев, остановил его движением руки:
– Можешь не ковыряться в пыли, которой набит твой стол, я юрист и текст договора знаю наизусть. Могу на память процитировать все пункты, – в голосе Порхадзе прозвучали нотки и издевательские, и насмешливые, и еще какие-то – словом, там было все: все, кроме сочувствия и желания помочь попавшему в беду человеку.
Гордеев, и без того измятый, униженный, почувствовал себя еще хуже, сморщился мучительно, словно пытался преодолеть боль, сидящую у него внутри, с треском загнал в стол ящик и опустил голову.
Кавказец остановился перед одним из охранников – бритоголовым мюридом, во рту у которого дымилась сигарета, косо прилипшая к нижней губе, нервным движением отклеил сигарету от губы мюрида и швырнул на пол. Растер окурок своим роскошным ботинком.
– Не кури, – произнес он угрожающе, – иначе тебе фирма такой счет выставит, что ты уже не сигареты будешь курить, а крученую бумагу. Либо нюхательный табак, понял? Нюхательный табак дешевле курительного, понял?
– А я чё? Я ничё! – пробовал оправдаться бык-мюрид, таращась на раздавленный окурок.
– Фирма будет делать здесь евроремонт, – сказал Порхадзе, – а евроремонт, как известно, табачного запаха не терпит.
– А я чё, – тупо гнул мюрид, – я об этом не слышал, – покосился на своего товарища-охранника. Тот тоже тупо таращился на окурок.
Через полминуты хлопнула входная дверь, незваные гости покинули дом Гордеева.
Очнулся Гордеев от того, что рядом с ним, тихо скуля и покачиваясь на потерявших твердость, усталых ногах, стоял Почемучка, в руках своих держал его руку и прижимал ее к щеке. Щека у Почемучки была теплая, тугая, и… в общем, непонятно, какая она была, это была родная плоть, такая родная, что у отца даже перехватило, перекрутило дыхание. Почемучка плакал и выдавливал из себя едва слышно, почти беззвучно:
– Па-па! Па-па!
Гордеев повернул голову в одну сторону, потом в другую.
– А где эти… – Он поморщился, помял пальцами виски.
Почемучка всхлипнул, всхлип этот заставил отца поморщиться вновь, сын с шумом втянул в себя воздух и спросил опасливым шепотом:
– Папа, а кто это был?
– Плохие люди, – с тихим стоном отозвался на вопрос сына Гордеев.
– Кто они, пап?
– Таким людям лучше не попадаться, – словно бы не слыша Почемучку, проговорил Гордеев, – съедят без соли, убьют без дроби, запьют еду кровью другого человека.
Почемучка застыл, соображая, как же это будет выглядеть, Гордеев прижал к себе его голову, ощутил, как на него накатило что-то тяжелое, горькое, одновременно стыдное, способное опрокинуть его в слезы, в рев, он запришептывал, забормотал что-то невнятно, потом на несколько мгновений затих, прикидывая, где же должна находиться злополучная бумага, в которую он так ни разу не удосужился заглянуть за все время – надеялся, что там все должно быть в порядке… Ан нет, ошибался он… Твердый комок, ставший уже привычным, образовался в глотке вновь, шевельнулся, будто живой, пробуя просунуться еще дальше, перекрыть человеку дыхание. Гордеев не выдержал, громко забухал кашлем.
Кашель вспугнул Почемучку, он зашевелился, задышал часто.
Где же может находиться эта проклятая бумага, договор, который он заключил с вполне доброжелательной конторой, сочувствующей, чужим напастям, имевшим способности образовываться словно бы сами по себе, а на самом деле – по злой воле, концы которой, говорят, находятся аж в самой Москве, – контора эта, как и горе, также возникла из ничего, будто бы из воздуха, из некой колдовской напасти, приползла из ада и прижилась на земле…
На первых порах контора делала добро, помогала людям – кому-то деньжонок подкинула, кому-то еды, кому-то муки с сахаром, кому-то детской одежды, поскольку подоспевал очередной учебный год, а детишкам не в чем было идти в школу – у каждого «клиента» был свой интерес, словом, многие воспользовались шансом, предоставленным «благодетелями», и, выходит, накинули себе на шею веревку.
С кухни потянуло горелым – роскошный урожай «оленьих рожков», добытых днем, превратился в черный спекшийся уголь. Гордеев с трудом помял себе затекшую шею и поднялся на ноги.
В кухне плотными темными слоями плавал дым. Гордеев постоял несколько минут молча, покачиваясь на ногах, будто пьяный, растерянно и одновременно мученически глядя на плавающий дым, потом, не обращая внимания на гарь, начал шарить в столе в поисках бумаги, которую ему оставила «доброжелательная» фирма. Бумаг в столе было всего ничего, два жалких огрызка, но найти договор Гордеев не мог долго.
Когда нашел и пробежался глазами по тексту, то обнаружил, что так оно и есть – в случае неразрешимого конфликта (в тексте специально было подчеркнуто «форс-мажорных обстоятельств») клиент – то бишь, Гордеев, – должен вернуть одолженную сумму в сроки, обусловленные фирмой…
Все фирма, фирма, фирма. Она могла делать все, а клиент – ничего.
Он мог только собственной шкурой расплачиваться за свои ошибки. Гордеев поежился, словно бы за шиворот ему попала ледышка, насквозь прожгла холодом кожу и в дырку эту теперь наружу вытекает все живое, что имеется в нем: Гордеев нервно, будто грузин Порхадзе, подергав ртом… впрочем, рот у него дергался сам по себе, помимо его воли, словно бы у Гордеева отказало что-то в организме, сработались тормоза, он прижал к губам ладонь, успокаиваясь, но попытка оказалась безуспешной – рот задергался еще сильнее.
Неожиданно он увидел перед собой Почемучку – тот стоял перед отцом, по-взрослому закинув руки назад и, собрав лоб в мелкую частую лесенку морщин, глядел на Гордеева. Почемучка не понимал, что происходит.
«Сейчас будет задавать вопросы, – машинально отметил Гордеев, – почему, да почему?.. А что я отвечу ему?» В окно была, видна рыжая, плотно утрамбованная ногами дорожка, уводящая в ореховые заросли, над недалекой сопкой сгребался в копешки сизый легкий туман. Все-таки Сучан – красивый город… Гордеев ощутил, что ему сделалось страшно. Не за себя страшно, за себя он не боялся, – за Почемучку.
Ну почему сын стоит молча, ну будто бы набрал в рот воды и, перестав быть Почемучкой, не задает своих вопросов? Или же он разобрался в ситуации, как и отец, и испугался настолько, что холодный пот выступил у него не только на лбу, но и под мышками, на хребте, обмокрил лопатки и самый низ спины. Все это есть у отца и должно быть – ведь он здорово провинился, вляпался в дерьмо, – а вот у Почемучки быть не должно…
– Ты чего, Почемучка? – прошептал Гордеев едва слышно, – шелестящий шепот его принесся словно бы из далекого далека, из-за сопок, поросших лещиной, из-за речек, из-за лесов – и не его это был шепот. Чужой…
Чужие люди хотят поселиться в его доме. Или уже поселились? Гордеев глянул умоляюще на Почемучку, попросил его мысленно, одними глазами: «Hy скажи же что-нибудь!» Почемучка вопрос его прочитал, но ничего не ответил. Гордеев повесил голову – он оказался плохим отцом.
Визит «грузинского верноподданного» что-то надсек в Гордееве – испоганил организм, вызвал кровотечение, Гордееву показалось, что даже во рту у него появился вкус крови, и вкус этот делается все сильнее и сильнее, и ноздри у него уже забиты кровью – не продохнуть.
– Почемучка, – прошептал он жалобно, умоляющим тоном, шелестящий шепот этот слабым ветерком растекся по квартире, Гордеев и сам не услышал его, шепот по пути зацепился за клок отставших обоев и повис на нем, будто липкая паутина.
Гордеев понимал, что люди эти, и прежде всего грузин с клювастым лицом старой вороны, не отпустят его, постараются взять свое, а если он воспротивится, ухватится за что-нибудь мертво – будут бить нещадно и, в конце концов, добьют его. Эту породу людей Гордеев успел изучить.
Денег, чтобы вернуть их фирме, Гордеев конечно же не достанет – ладно бы город был богатый, работающий, – тогда все было бы проще, он и нужную сумму раздобыл бы, и довесок еще – сверх того, – выложил бы, и пиво с прицепом выставил бы, но в долг ныне люди не дают денег даже на хлеб. Нет денег ныне у людей, нету – полно домов, где на буханку хлеба не наберется даже двух червонцев.
Перестроечная, выкрученная, как белье, жизнь оказалась много страшнее и беднее доперестроечной, – такой человек, как Гордеев, которому с детства вдували в уши слова «кто был никем, тот станет всем» – раньше, как оказалось, был всем, сейчас же стал никем.
Человек – это ныне тьфу, пыль, грязь, плесень, уничтожить его, обратить в воздух ничего не стоит – вот и появились целые легионы неких порхадзе, окруженных «быками», качками, считающими себя элитой общества, хотя мозгов у этой элиты не больше, чем один раз намазать на хлеб – даже кошке не хватит, чтобы наесться. А уж насчет того, чтобы принять какое-нибудь мудрое решение, о-о-о…
Что делать, что делать? Тугие тревожные молоточки забились у него в ушах – Гордеев не знал, что делать, – жизнь для него вообще кончилась, даже яркие краски, и те погасли – и небо с тихо ползущими невесомыми взболтками облаков, и редкостные деревья, которые только на Дальнем Востоке и растут, больше нигде не водятся, – все это потемнело, сделалось мрачным, гибельным, в воздухе запахло тленом. Виски то стискивала железная боль, мешала дышать, то отпускала, – но отпускала лишь затем, чтобы в следующий миг обернуться болью еще большей.
Надо было попытаться найти деньги – вдруг кто-нибудь разбогател – нашел в тайге, в сопках золотой самородок и «обналичил» его в местном банке, либо получил наследство от внезапно окочурившегося за океаном дядюшки. Либо у себя под подушкой обнаружил подкинутый нечистой силой «кохинор» – дорогой розовый бриллиант… Вдруг Гордееву повезет и он сумеет добыть денег, чтобы расплатиться с бандитами?
Телефон в квартире Гордеева был отключен. Естественно, за неуплату. За что же еще можно отключить телефон у бывшего законопослушного, трудолюбивого, способного изобретать разные мудрые штукенции-дрюкенции работяги?
Гордеев оделся. Почемучка ухватил отца за руку, крепко впился пальцами в ладонь – Гордееву даже больно сделалось:
– Па, я с тобой!
Гордеев вздохнул: Почемучка прав, дома его одного оставлять нельзя, вообще-то, дети в этом возрасте живут под недреманым оком матери – присматривать. За ними надо каждую секунду, без пропусков, очень тщательно…
– Пошли! – В следующее мгновение Гордеев повторил более решительно: – Пошли!
Он заглянул к старому своему приятелю, с которым вместе немало поел уголька в забое, – к Жихареву, Жихарев каждый день ездил на заработки в Находку. Иногда попадал в мишень и привозил домой кое-какие деньги – добывал их на разгрузке судов в порту, на поденной работе, иногда проскакивал мимо и возвращался ни с чем.
Но для того, чтобы оплатить телефон, деньги у Жихарева все-таки находились, иначе дом их вообще оказывался без телефона. Жихарев, бровастый, носастый, весь из себя внушительный – хилостью комплекции он никогда не отличался, – встретил Гордеева на пороге квартиры. В Находку он сегодня не поехал – почувствовал себя неважно, одышка, зараза, подступила к самому горлу, сердце тоже въехало в горло и застряло там – совсем не думало выбираться, воздуха не хватало, и Жихарев решил сделать перерыв.
– Ну! – таким громким возгласом встретил приятель Гордеева, поездил бровями из стороны в сторону. – Судя по твоему взъерошенному виду, что-то случилось?
– Случилось, – хмуро подтвердил Гордеев и, стараясь, чтобы голос его не дрожал, не срывался от слез и обиды, рассказал, что произошло.
– Охо-хо! – Жихарев вновь по-бармалейски поездил из стороны в сторону бровями, вздохнул горестно, внутри у него что-то глухо забулькало, словно бы он переполнился водой (водкой либо слезами он переполниться не мог, не ту натуру имел Жихарев), сжал пальцы в кулак. – Свернут эти люди всем нам головы! – Внутри у него опять раздалось глухое бульканье. Жихарев поспешно полез в стол, достал оттуда тощую пачечку розовых бумаг, перетянутых резинкой. – Вот все, что у меня есть, можешь воспользоваться.
– Сколько тут? – спросил Гордеев.
– Пятьсот рублей. Они твои.
Гордеев взял в руки пачечку денег, с горестным видом помял ее пальцами.
– Пятьсот рублей меня не спасут.
Жихарев придвинул к себе старый телефонный аппарат, склеенный синей изоляционной лентой.
– Давай звонить по корефанам, бить в набат.
Гордеев забрал у него аппарат и, слепо тычась пальцами в скрипучий диск, позвонил человеку, как он считал, богатому, главному инженеру автобазы. Услышав о просьбе, тот замялся, речь его сразу сделалась невнятной… В общем, пусто. То ли жалко стало денег главному инженеру, то ли жена висела над ним и носом мужа держала свой увесистый кулак.
– Не горюй, мужик, – подбодрил приятеля Жихарев, чихнул и дернул нашлепками бровей, направляя их вначале в одну сторону, потом в другую. – Накручивай следующий номер.