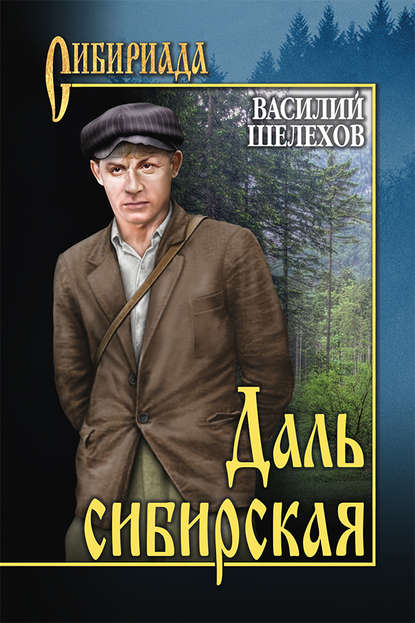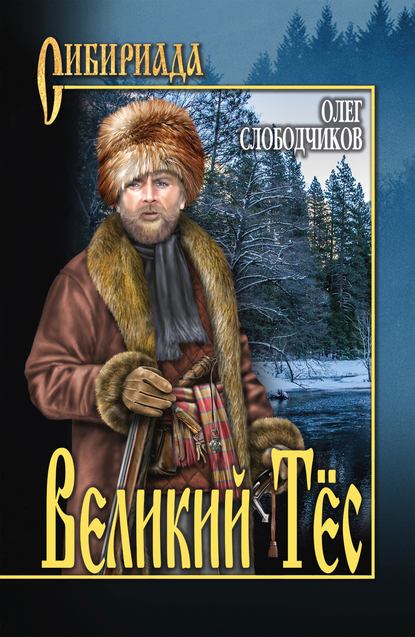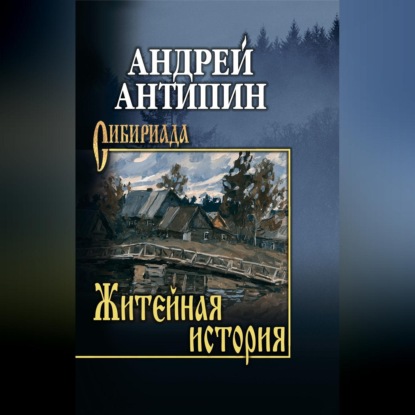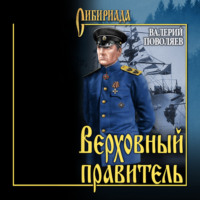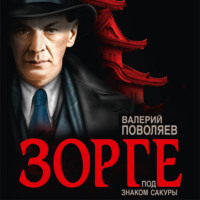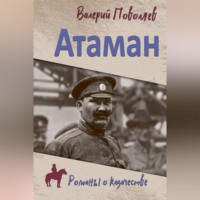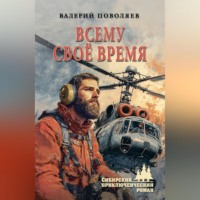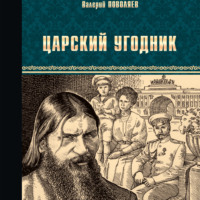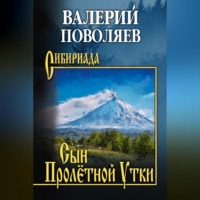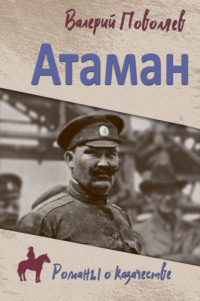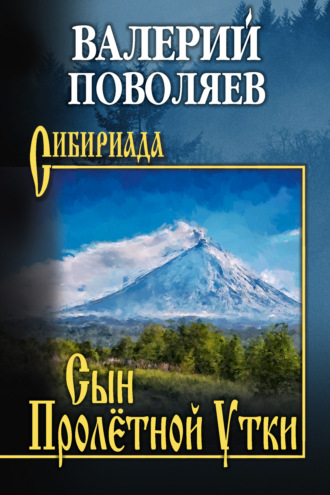
Полная версия
Сын Пролётной Утки
Лицо у дяди было тяжелым, неулыбчивым, будто он пошел на охоту, неделю пролазил по тундре и вернулся пустым, угольные жесткие глазки затуманены, они потеряли цвет, заголубели, будто у слепого шамана, губы расстроенно подрагивали. Ребятам он выдал конфеты, обошел всех и каждого щедро одарил – были тут и шоколадные батончики в ярких обертках, и карамель с кислой душистой начинкой, и литые, твердые, будто орехи, сладкие бобы – у каждого мальца руки оказались занятыми и каждому уже не стало никакого дела до праздника – что может еще в мире сравниться с конфетами?
Летящий Боевой Топорик хотел умчаться со своей частью сладкого в тундру, расправиться там в одиночку с угощеньем, но мать удержала его:
– Ты не спеши, сын! Не спеши, пожалуйста!
К губам ее была прочно припечатана улыбка – какая-то не своя, неестественная, будто бы раненная, ну словно матери было больно, а она силком заставляла себя улыбаться, одолевать боль, но все равно боль брала свое, проступала на поверхность, но если уж улыбка могла обмануть, то взгляд матери никак не мог – глаза были изнуренными, белесыми от страдания, незнакомыми – это были совершенно чужие глаза, и у Топорика, когда он заглянул в них, тоскливо сжалось в крохотный кулачишко сердца, а потом вдруг с силой, очень гулко забарабанило в пустом пространстве, словно у него ничего, кроме сердца, не было.
Большой, подперший самую грудь живот матери мешал ей двигаться, обнимать сына, глядеть на костры, на ровную, без единой морщины гладь озера, на нарядных людей, слушать шаманский бубен, комариную звень и тишь теплого стоячего воздуха. У матери, Боевой Топорик знал, должен был родиться ребенок, братик, и как он уже уразумел из разговоров, люди собрались здесь затем, чтобы отметить это дело. Топорик был доволен – скоро появится братик, вдвоем им будет не скучно – заботы у них будут общие, жизнь общая, все общее, он научит мальца бегать по тундре, сквозь ледяные сколы смотреть на солнце и есть вкусные оленьи губы… Интересно, как его назовут? Наверное, имя уже придумано – родится он под бубен, взрослые подождут немного, посмотрят, что за человечек дышит воздухом, и потом уже определятся в имени окончательно.
– Мам, у меня братик будет? – поинтересовался Летящий Боевой Топорик.
Мать не ответила, только тихо качнула головой, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Слез пролилось сразу много, глаз не стало видно, ресницы слиплись, сделались тяжелыми, мать еще раз по-оленьи мотнула головой, попросила едва слышно:
– Ты посиди пока со мной, а? Не бросай меня, ладно?
– Ладно, – как можно небрежнее ответил Летящий Боевой Топорик – ему казалось, что так отвечают, так могут и должны отвечать только взрослые люди, а Топорик старался уже быть взрослым.
Несколько минут он посидел около матери, но потом ему стало скучно, да тут еще подоспели вареные языки и губы, и Топорик не выдержал, вскочил.
Хотел было унестись без всякого предупреждения, но снова наткнулся на ищущий, загнанный взгляд матери и пробормотал скороговоркой, глотая слова, как все торопящиеся люди:
– Мам, я сейчас! Губы дают – не достанется, мам… А?
Мать гулко сглотнула слезы, потрясла головой меленько-меленько, скорбно, улыбнулась через силу – она пыталась что-то скрыть от сына, от собравшихся, но не могла.
У латунного, начищенного, как солнце, блюда с горячими оленьими языками и губами уже сидели две старухи и жадными руками ковырялись в лакомстве. Люди меньшего возраста для них не существовали – старухи толкали друг друга локтями, ссорились, тут же мирились, громко чавкали и вели разговор, который не услышать мог, наверное, только мертвый.
– Ей все равно не разродиться, ни за что не разродиться – песня спета, – сказала одна старуха.
– Таз узкий, ребенок косо пошел и застрял, – подтвердила другая.
– У белолицых есть доктора, они, говорят, делают что-то, и тогда дети бывают живы, а матери умирают.
– Русские далеко, ехать к ним долго.
– На оленях по мху – не меньше недели.
– За это время она все равно помрет.
Летящий Боевой Топорик не сразу понял, что речь идет о матери, хотя что-то в разговоре старух насторожило его, он поглядел на них недоуменно, а потом махнул рукой – мало ли о чем могут говорить две старые дуры!
– Ну и что же с ней будет, как ты думаешь? – спросила одна старуха.
– То же, что и со всеми.
– Ну что ж, чему бывать – тому бывать! – Старуха брюзгливо выпятила нижнюю губу, с которой на колени ей упало несколько капель сала.
– Да, делать нечего, – равнодушно произнесла ее товарка, – все мы будем у верхних людей.
– Там наша жизнь.
– Там – не здесь. – Старуха оглянулась, увидела Топорика, узкие зоркие глаза ее сжались в опасные щелки. – Тебе чего? Ты чего нас подслушиваешь?
Летящий Боевой Топорик молчал.
– Ты чей? – спросила старуха.
– Я – сын Пролетной Утки, – сказал Топорик. Старуха задумчиво пожевала ртом, поинтересовалась:
– Ты, конечно, за оленьими губами пришел?
– Да.
Запустив руку в таз, старуха неохотно пошуровала в нем, вытащила оттуда разрезанный пополам кусок губы, похожий на большой крепкий гриб, сунула обратно, достала кусок поменьше:
– Держи!
– Спасибо!
– Ты слышал, о чем мы говорили?
– Нет! – соврал Топорик.
– И ничего не понял?
– Нет! – Раз ничего не слышал, то, значит, ничего и не понял. Разве не так? Или старухи мыслят по-иному?
Шаман, устав бить, протянул голые скрюченные руки в пустоту, провел ими по пространству, одна из старух, та, что подобрее, кряхтя поднялась, выловила из таза большой олений язык, небрежно сунула шаману в руки: то, что шаман общался исключительно с верхними людьми, никак ее не трогало, это отразилось на плоском, изъеденном временем лице старухи, она произнесла несколько непонятных слов, и шаман неожиданно сгорбился, потерял загадочность, сделался обычным увечным старичком, для которого жизнь давным-давно стала уже в тягость.
Старуха отняла у него барабан, привычно сдернув засаленный шнур с шеи, – Летящий Боевой Топорик заинтересованно следил за ней – он знал, что в стойбище, кроме шамана, еще есть колдуньи, но никогда не видел их, они почти не выходили из своего чума, а поскольку стойбище редко перекочевывало с места на место, то никогда не видел их и на нартах, – гулко ударила по рыбьему боку барабана ладонью, потом провела по засаленной коже всей пятерней, извлекая длинный скребущий звук, какой обычно издает снег на сильном морозе – соприкасаясь с ним в холод, визжит все, даже плевок, старик-шаман от скребущего визга этого согнулся еще больше, превратился в печеный, прихваченный стужей гриб, и лицо у него сделалось печеным, черным, как у большого порченого гриба, он дернул головой, открыл большой, испачканный слюной рот, показал розовые, с утопленными в мякоти корешками зубов десны.
Пролетная Утка побледнела, закусила губы, закрыла глаза, качнулась на одном месте, крепко прижимая руки к животу, промычала что-то немо, словно оленуха, все понимающая, но ничего не способная сказать, – все было написано на ее лице, и боль, и скорбь, и страх, она боялась того, что должно было произойти, но подчинялась людям, роду, тундре, к ней подошел дядя – Копыта Оленя. Вздохнул, застегнул одежду на все пуговицы, завязал все завязки, поморгал недобро, что-то спросил.
Мать через силу покивала головой, с трудом поднялась на четвереньки, потом на свои двои, согнувшись, постояла немного, собираясь с силами, уперев руки в колени, затем постанывая выпрямилась.
Лицо ее было белым как снег, из нижней, насквозь прокушенной губы на подбородок выкатилось несколько алых капелек. Копыто Оленя стоял рядом молча, ждал. Наконец мать выпрямилась, подняла белое влажное лицо, всмотрелась в небо, нашла там что-то, ведомое только ей одной, да, может быть, еще безглазому шаману, улыбнулась скорбно, с трудом, перевела взгляд на сына, неслышно зашевелила губами. Топорик понял, что она произносит его имя, сердце у него сжалось, обращаясь в кулачишко, в гладкий обкатанный камешек, выброшенный на берег волной, дрогнуло, и сам он дрогнул – ощутил, как заплясали губы от жалости к матери, но Топорик сдержался, он обязательно должен был держаться на людях и не подавать вида, что ему плохо, отвел взгляд.
То, что отвел тогда глаза от матери, он потом не мог простить себе всю жизнь. Для матери в те минуты из всех живых существовал только один человек – сын, больше никто, она даже на мужа не взглянула ни разу, ибо Быстрая Рыба был виноват во всех ее мучениях.
Повернувшись спиною к костру, к людям, к сыну, мать пошатываясь медленно побрела мимо озера в тундру, два или три раза ступила на влажный край бережка, оставив там легкий узкий след, потом пошла по ягелю, который покорно вдавливался, проседал под ногой, а затем, будто резиновый, выпрямлялся.
Дядя, взяв в руки винтовку, пошел следом за матерью – чуть в стороне и поотстав на несколько метров, опустив голову и шагая так же, как и мать, меленько, скорбно, не по-мужски, и оттого, что Копыто Оленя подделывался под шаг матери, Топорику сделалось еще страшнее, он втиснул голову в плечи, потом всем телом влез в колени, обхватил лодыжки пальцами, притянул их к себе, разом превращаясь в пеликэна – скорченного чукотского божка, приносящего счастье охотникам и китобоям, внутри у него родилось рыдание, но Летящий Боевой Топорик нашел в себе силы задавить его, лишь прошептал едва приметно, сам того не слыша, вкладывая в этот шепот всю нежность, что у него была:
– Ма-ма! – Ткнулся лбом в колени, попытался сжаться еще, но было уже некуда, посидел несколько минут неподвижно, потом чуть приподнял голову и открыл глаза.
Дядя с матерью отошли уже метров на двести; мать отрывалась от дяди, шла все проворнее и легче, словно бы хотела убежать, – видать, боль отпускала ее, дядин же шаг, напротив, слабел на глазах, тяжелел, становился грузным, словно бы Копыто Оленя оседал на ходу, он отставал от матери.
Словно бы что-то почувствовав, мать оглянулась, подняла призывно руку, и Топорик понял, что мать ищет его, взнялся над самим собой, словно подброшенный ружейной пружиной, но мать не смогла разглядеть его, на лице ее засветились зубы, она окинула взглядом родное стойбище и отвернулась.
В ту же минуту дядя, словно бы что-то преодолев в себе, пошел быстрее, легче – усталость, навалившаяся на него, отступила, на ходу дядя вскинул винтовку и не целясь выстрелил по матери. Шаг его не сбился ни на сантиметр.
Звук выстрела не сразу донесся до людей – всем показалось, что вначале громыхнуло эхо, а уж потом докатился сам выстрел.
Мать еще несколько секунд двигалась по инерции, хотя всем телом своим уже заваливалась назад, с головы ее соскочила шапочка, распласталась ярким цветком во мху, потом с шеи сорвалась нитка с яркими бусами, беззвучно рассыпалась, затем упало еще что-то и уж следом на землю повалилась сама.
Внутри у Летящего Боевого Топорика снова родился крик, он закусил его губами – не верил в то, что видел, хотел было подняться, понестись в тундру, к матери, к которой, опустив ствол винтовки, подходил Копыто Оленя, но ноги не подчинились ему, обмякли, сделались бумажными, чужими. Топорик всхлипнул и ткнулся головой в собственные колени.
Он очнулся от того, что над ним нависла страшная старуха-колдунья и, покачиваясь пьяно, ковыряла пальцем во рту. От нее несло спиртом.
– У Пролетной Утки не было ни одного шанса на жизнь, – глухо икнув, сказала старуха, – она не могла жить. Понятно?
Летящий Боевой Топорик не выдержал, заскулил, затрясся всем телом, не веря в то, что видел, тундра, покрытая слезами, сделалась радужной, очень яркой. Старуха, вновь икнув, достала откуда-то из рукава конфету.
– На! – сказала она, пожевала страшными беззубым ртом. – Побалуйся и не горюй. Сегодня очень хороший день. Солнце, тепло, комаров почти нет, – засмеялась хрипло, качнулась и, помахивая в воздухе руками, будто сова, пошла к бочонку со спиртом.
День тот Иннокентий навсегда зарисовал в памяти, как и год тот – 1967-й, поскольку год был праздничным, – отмечали пятидесятилетие советской власти и в стойбище побывали дорогие гости из района, привезли подарки – рулон цветного ситца, приемник «Спидола», три ящика водки и ящик рассыпчатой, тающей во рту фруктовой помадки.
Через несколько месяцев после праздника племя покинуло насиженное место, переселилось поближе к океану, где и воздух был посырее, побогаче кислородом, и мох побогаче, у Летящего Боевого Топорика появилась новая мать – широкобедрая, медленная в движениях, как моржиха, женщина по кличке Пасть Кита – тундровым корякам, к которым относилось племя Иннокентия, надо было родниться с береговыми, иначе могла произойти стычка, и род решил, что Быстрая Рыба должен взять в жены береговую жительницу. Быстрая Рыба – он же Семен Петров – перечить не посмел.
Пришлось приспосабливаться к иной жизни, ведь у береговых коряков, у чукчей, алеутов и эвенов, живущих подле воды, другие нравы, другие обычаи. И то, что считается у тундрового человека нормой, может оскорбить берегового обитателя. Ну, например, тундровые коряки, когда едят рыбу, то кости, хвосты и головы швыряют в костер – огонь все покроет, но зато никогда не швыряют в пламя оленьи кости – это большой грех, за который от верхних людей немедленно последует наказание.
А у береговых жителей – наоборот: береговой человек никогда не швырнет в огонь рыбью кость, посчитает это плохой приметой, зато запросто швыряет кости оленьи, недогрызенные собаками.
Выветрилась, стерлась из памяти мать, хотя тот страшный день – редкостно безмятежный, ясный, отпечатался в мозгу так, как иная мелодия отпечатывается на пластинке, а вот мать со временем сделалась в воспоминаниях вроде бы посторонней, чужой, обескровленной этим странным свойством памяти, – ни своей крови в ней не было, ни крови сына, все заслонила жизнь, последующие годы, события, охота, жена, которую Иннокентий не любил – они были разными: он тундровым, она береговой, а слияние с береговыми, надо заметить, происходило все больше, – заслонил ребенок, в котором он уже узнавал себя, разные Спендиаровы, считавшие себя знатоками севера и здешнего люда – тьфу! – дни его потихоньку скатывались в старость, к последней черте, которая была совсем не за горами, если учитывать, что средний возраст в их племени невесть какой великий – тридцать семь годов, и он иногда по ночам сквозь сон ощущал колючий вязкий холод – это на Иннокентия дышала вечная мерзлота. Из мерзлоты он вышел, в мерзлоту и уйдет. А душа переселится на облака.
Но забывать мать, пока он жив, не годится, это такой же грех, как брошенная в огонь оленья кость. Он качнулся, заваливаясь всем телом вперед, всхлипнул, будто тот маленький, оставшийся в прошлом Топорик, вспомнил, что тогда он все-таки не плакал, сдержался, лишь скулил, и, ощущая неясную тревогу, тяжесть, натекшую в его душу, ткнулся головой в песок, услышал задавленный собственный плач и не стал больше давить его, дал волю.
Когда выплакался, оторвался от песка, потянулся вперед, рассчитывая увидеть мать, но матери уже не было – следа не осталось ни в воздухе, ни на ягеле, ни на языках речного песка, заползающих в мох, и тишь стояла такая, что в нее запросто могла провалиться душа. Иннокентий закусил губы, сдерживаясь, но тоска, подступившая к нему, уже отозвалась болью в груди. Такой болью, что хоть криком кричи.
Кем же он таким стал, что забыл свое прошлое, мать, род, что же такое с ним сделалось? И имеет ли он право на будущее, раз позабыл о прошлом? Хотел Иннокентий получить ответ, но ответа ему не было.
Вопросы почемучки
Антошка рос очень любознательным мальчишкой. Несмотря на то что в школу он еще не ходил и пойдет не раньше чем через год, он уже и азбуку знал, и считать умел, и простейшее умножение изучил, и, водя пальцем по страницам красочной книжки, свободно одолевал разные мудреные тексты типа «Мы с папой идем в магазин».
Гордеев не выдержал, вздохнул, услышал, как внутри по-над сердцем у него что-то жалобно заскрипело, к горлу подкатило что-то теплое и ему сделалось трудно дышать. Одновременно сделалось обидно – ну разве он урод какой-нибудь, или руки у него кривые, растут не из того места, либо голова дадена лишь для того, чтобы чесать макушку, либо «ею есть», как выразился один великий спортсмен? Почему он живет хуже всех? Это гнетущее чувство, замешанное на обеспокоенности и обиде, стало возникать в нем все чаще и чаще.
Иван Гордеев понимал, что дело не в нем, виноват в собственных бедах, в нищенстве не он, – так, увы, сложились обстоятельства – у них весь город нищий.
Живут люди кто чем: одни собирают в лесу грибы, потом сушат их, маринуют, солят, забивают банками подвалы, используя всякое свободное место, от мышиных ходов до отдушин, другие усердно корпят на своих огородишках, добывая в поте лица плоды земные – от разваристой сиреневой картошки до ирги – сахарной ягоды и крохотных, пупырчатых огурцов, таких сладких, что с ними чай можно пить, как с конфетами, – пикулей, третьи прочесывают вдоль и поперек мелкую местную речку с гордым названием Партизанка, ее чистые и очень холодные, даже в летнюю пору пахнущие льдом притоки Постышевку, Тигровую, Мельники, четвертые, закинув за плечи старое ружье, помнящее «штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни», трясут тайгу – гоняют лесных котов, косуль, кабанов, щелкают белок – пытаются заработать этим, но таких людей меньше всего…
В городе их, в Сучане, живет не менее сорока тысяч человек, – Гордеев по старинке называл Партизанск Сучано, как в прежние времена, – и всех их тайга не прокормит – ни грибная тайга, ни кедровая, ни та, что по праздникам дармовым мясцом угощает… Так что же делать тем, кто не нашел для себя кормежку и готов теперь зубы свои за ненадобностью положить на полку? Да и невозможно ныне прокормить семью, одним, скажем, огородом или грибами… Чушь все это. Выдумка различных полупьяных агитаторов, размахивающих с трибуны полосатыми флагами.
Гордеев шел по лесной тропке, держа за руку сына, и машинально отвечал на его бесконечные «почему?».
– Папа, почему солнышко светит?
– Почему поют птицы?
– Почему уголь черный?
– Почему у слона хобот длиннее хвоста?
– Почему у всех мамы есть, а у меня нет?
Эти его многочисленные «почему?» рождались мгновенно, словно бы сами по себе возникали из воздуха, материзовывались у Почемучки на языке и вновь оказывались в воздухе. Антошка Гордеев был неутомим. Отец отвечал на вопросы как умел – старался делать это в том же ключе, что и сын – на серьезный вопрос отвечал серьезно, на шутливый шутливо, на веселый весело, на печальный… На печальные вопросы Гордеев старался не отвечать. И оба они вели в этой бесконечной череде вопросов и ответов свою игру, отец и сын. В конце концов Почемучка вздыхал и говорил:
– Папа, а ты хитрый?
– Ага, как коза, которая у соседки на грядках съела всю морковку.
– А коза разве хитрая?
– Очень, раз догадалась выдернуть морковку из земли.
– А ботву куда она дела?
– Заела ею саму морковку.
– А как она пристрявшие комки земли отделила от морковки? – На этот раз Почемучка все свои вопросы начинал с протяжно-певучего «А-а», будто солист из пионерского хора.
– Очень просто. Морковкой хлопнула о морковку и сбила всю землю, крошки.
– А-а… Но для этого нужны руки.
– Не обязательно. Копыта тоже подходят.
– He понял… Как это?
– Ты обратил внимание, что у козы на передних копытах есть раздвоины?
– Обратил.
– Коза садится на скамеечку, как человек, расщелиной одного копыта прихватывает одну морковку, расщелиной второго вторую и шлепает морковками друг о дружку. Три шлепка – и на плодах ни одного комка земли.
Почемучка недоверчиво глянул на отца снизу вверх, глаза у него были синие, как два лесных озерца, в которых плавает чистое небо, брови золотились в лучах света, к правой щеке пристрял комар – худосочный какой-то, голодный, – учуял людей и прилетел пообедать. Гордеев аккуратным щелчком сбил его со щеки сына.
– Это немецкий «мессершмитт», – сообщил сын.
Через двадцать минут они нашли гриб, за которым охотятся все жители Приморья – для любого грибника он является желанной добычей: крупный, не менее килограмма весом, обтянутый тонкой замшевой шкуркой, нежной как шелк – так называемый бархатный гриб. Бархатный гриб – разновидность белого, а точнее – притершийся к дальневосточным условиям самый настоящий белый гриб.
Почемучка вздернул над собой обе руки, восторженно взвизгнул и по косогору, ловко обогнув высокий муравейник, сложенный из хвои, понесся к грибу. Тут Гордеев совсем некстати вспомнил, что кто-то из его коллег, когда он еще работал в шахте, которая ныне завалена, разрушена и вряд ли из нее в ближайшие пятьдесят лет можно будет достать хотя бы килограмм утла, предупреждал его, что бархатный гриб приносит несчастье тому, кто отыскал это диво среди других грибов, хотел было крикнуть Почемучке, остановить его, но Антошка уже добежал до гриба и опустился перед ним на колен.
– Краси-ивый какой, – произнес он восхищенно.
– И очень вкусный, – добавил отец.
– И хрустный. – Почемучка вспомнил рекламную фразу, услышанную по телевизору.
– Хрустный, – согласился с ним отец, увидел небольшую серую птаху, невесомо покачивавшуюся на тонком ломком прутике, почувствовал, как ему что-то кольнуло в сердце – очень уж птаха была похожа на соловья, Гордеев потянулся к серой интересной пичуге, та фыркнула крыльями и была такова, а Гордеев немного расстроился – не удалось разглядеть птичку, повторил слово, произнесенное сыном и увязшее у него в мозгу: – Хрустный.
Следующим попался на глаза гриб-скрипун, Почемучка также стремительно, будто кузнечик, в прыжке кинулся к нему, сорвал. Скрипун – гриб особый, когда его хозяйки замачивают, он скрипит, будто старый дед, шевелится в воде, вздыхает, сопит… Очень общительный, говорливый гриб, на западе, в «Расее», такие грибы не растут. Было также много грибов-белянок, нарядных, аппетитных, очень чистых, словно бы специально вымытых. Таких грибов в «Расее» тоже нет. А вот аккуратных, веселых рыжих лисичек – полным полно, они там такие же, как и тут, на краю краев земли, также бегают по полянам, рябят в глазах, привносят в настроение человека что-то радостное и светлое, заставляют грустную публику улыбнуться. Гордеев не сдержался, улыбнулся, ощутил, как губы ему стянуло сухой липкой сеточкой – обветрили губы, к вечеру начнут облезать…
Невдалеке он заметил замысловатое морское растение, вытряхнувшее из земли свою утробу, похожее на коралл – это тоже был гриб, очень недурной по вкусу, редкостный, рядом с первым кораллом проклюнулся второй, невдалеке белел еще один…
Это были «оленьи рожки» – грибы, которые, кроме, как здесь, нигде, пожалуй, больше и не водятся; во всяком случае, Гордеев о них не слышал. Тяжесть, сидевшая у него в душе, потихоньку рассосалась.
Хоть и считался Гордеев человеком невезучим, а не везло ему больше, чем положено, чем было вообще определено судьбой. Собственно, не везло, как мы уже знаем, не только ему, но и всему городу.
Весь их Сучан не имел работы – весь! Какие-то люди в Москве с криками «ура» решили судьбу далекого городка, от которого до Тихого океана ничего не стоит доплюнуть: шварк – и плевок уже качается в синих плотных волнах, привлекает к себе внимание осьминогов. Из Москвы, из Владивостока приехали в Сучан бравые мордастые ребята, собрали народ на митинг. Народ на митинг не пошел – надоело уже митинговать, проку от этих митингов не больше, чем от бурчания в желудке – только бурчит желудок, но не варит, на одних лекарствах можно разориться. В результате знаменитые сучанские шахты были закрыты и разрушены. Основательно разрушены, со знанием дела, умело – восстановлению, в отличие от других шахт, в том же Артеме например, – они не подлежат. А уголек здесь добывали знатный, запасов его – лет на пятьсот, не меньше.
Тем временем Почемучка взялся за свое:
– Пана, почему одни грибы имеют белый цвет, другие – желтый, третьи вообще коричневые, четвертые – черные как уголь, а?
– Почему ежики колючие?
– Почему у нас нет денег?
– Почему комар жужжит, а бабочка нет?
От вопросов Почемучки Гордееву даже жарко сделалось: тот умел кого угодно загнать в «Пятый угол».
– Почему мужчины ухаживают за женщинами?
– Почему кошки любят мясо, а ласточки кузнечиков?
Наконец Гордееву удалось остановить поток бесконечных «почему?».
– Почему ты считаешь, что ласточки едят кузнечиков? – спросил он. – По-моему, они питаются мухами, едят их на лету, на скорости.
Лицо Почемучки сделалось задумчивым, он с видом крупного воинского начальника поковырял пальцем в носу.
– Нельзя этого делать, – сказал ему отец, – резьбу сорвешь.
Почемучка приподнял одну крохотную белесую бровь и произнес неожиданно печально, тихо, со взрослыми интонациями в голосе: