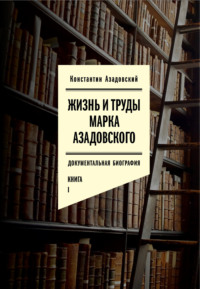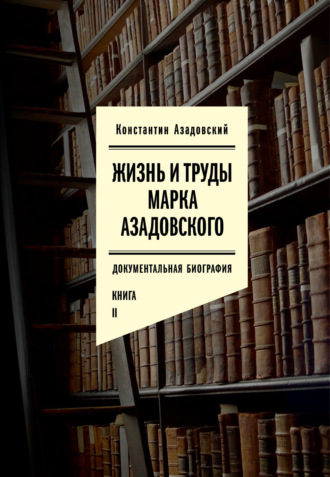
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
2. Говорили ли Вы с Институтом27 о достигнутом нашем соглашении? Наш президиум ратифицировал наш договор, – дело только за Вами. Присылайте материал – я отдам его перепечатать и начну классифицировать для печати. «Советская Этнография» охотно предоставляет место для этой работы28. Только не медлите Вы.
3. Г. С. Виноградов приступит к работе немного позже: он сейчас лежит в постели, и я его еще не видел. Завтра пойду навестить: узнаю, в чем дело.
4. Кагаров рвется в бой и очень сожалеет о невозможности приступить к работе сейчас же. Скажу Вам по секрету: он сейчас очень нуждается в деньгах и охотно ради верного заработка отодвинет различные литературные дела, которые теперь все неверны, ибо оплачиваются неаккуратно. Последнее могу подтвердить собственным своим печальным примером. Вывод же, по существу, тот, что Кагаров сейчас мог бы невероятно быстро проворотить большой материал. Учтите это. М<ожет> б<ыть>, найдете возможным привлечь его до заключения общего договора на иностранную часть.
Помимо Виноградова, Кагарова и Л. В., М. К. предполагал подключить к работе также историка С. Н. Чернова (1887–1941). Что же касается Л. В. Брун, то ее участие подтверждается постоянными напоминаниями в письмах к Здобнову: «Не забудьте об авансе для Л. В. Брун» (недатированное письмо; видимо, конец 1932 г.); «Очень прошу ускорить высылку карточек Брун, ибо я плохо понимаю, какая связь между мной и ей. Она не будет делать моей работы – я не буду делать ее» (9 апреля 1933 г.) и др. Более подробно о работе Л. В. Брун сообщается в письме от 24 мая 1933 г.:
Сейчас же дело обстоит так: Л. В. Брун до своего отпуска установит, какие издания по этому списку имеются в ленинградских библиотеках, проверит этот список по топографическому каталогу ГПБ, занесет туда все исправления и дополнения и на каждое имеющееся издание составит предварительную карточку с указанием библиотечного шифра и проч. Подробные же карточки (полное описание газеты или журнала со всеми требуемыми библиографическими показателями) она составит по возвращении из отпуска, т. е. в начале июля. <…> Меня только беспокоит один вопрос: работа Л. В. Брун фактически завершится в начале июля, а Вас уже в это время в Москве не будет. Как быть с оплатой?
Очевидно, карточки, поступившие от Л. В., вызвали у Здобнова сомнения в ее профессионализме, так что 7 июля 1933 г. М. К. пришлось защищать свою помощницу:
Теперь относительно Л. В. Брун.
Я возражаю против Вашего вывода и очень прошу дать ей довести работу до конца. Ведь дело в том – как я Вам уже писал – она сделала спешный предварительный просмотр по каталогам, спискам etc. Причем в газетном отделении Пуб<личной> б<иблиоте>ки порядок не всегда образцовый.
Те сведения, которые она представила, De visu она не имела времени проверить все, т<ак> к<ак> уходила в отпуск и так как предполагалось, что все это будет сделано при окончательном описании.
Те сведения, которые она представила, отражают не ее неумение библиографически работать, а весьма неважное состояние наших каталогов и списков periodic <так!> в хранилищах. Часть сведений она получила по своему запросу в других б<иблиоте>ках и также не имела еще возможности проверить все лично.
Категорически утверждаю, что Л. В. Брун – превосходный работник, иначе бы я не решился так решительно <ее> рекомендовать и прошу под мою ответственность дать ей закончить порученную первоначально работу, точно указав объем тех сведений, к<ото>рые нужно вынести на карточку.
Однако в те месяцы 1933 г., когда писались эти письма, ситуация вокруг «Библиографии Дальневосточного края» изменилась. Весной Николай Васильевич был арестован и около двух месяцев провел в заключении29. А вскоре после освобождения он оказывается оттесненным от руководства работами по дальневосточной «Библиографии». Начались проверки по подозрению в финансовых злоупотреблениях, появились обвинения политического порядка и т. д.; назревал конфликт и в недрах самой Всесоюзной ассоциации сельскохозяйственной библиографии. В результате была создана новая редколлегия. Первые два тома, полностью готовые к тому времени, успели появиться в 1935 г.30, однако имя Здобнова, составителя, руководителя и редактора этого издания, на титульном листе отсутствовало. Тогда же была расформирована и сама ассоциация. Так завершилось это масштабное начинание31. Разумеется, на заключительном этапе ни М. К., ни другие члены его «команды» уже не принимали участия в работе. Сохранились ли и где хранятся в настоящее время многочисленные карточки по этнографии, подготовленные М. К., Е. Г. Кагаровым, Л. В. Брун и другими участниками проекта для 17‑го тома «Библиографии Дальневосточного края»32, установить не удалось.
Для нас же важно другое. Две больших и в итоге несостоявшихся работы – «Библиография Восточно-Сибирского края за 1918–1931 гг.» и «Библиография Дальневосточного края за 1890–1931 гг.», над которыми М. К. и Л. В. совместно трудились в 1931–1933 гг., – послужили своего рода «этапами» их личного и творческого союза.
В сентябре 1933 г. в Гаспре М. К. встретился с М. Л. Лозинским, отдыхавшим в том же санатории КСУ (Комиссия содействия ученым при Совнаркоме СССР). Лозинский подарил ему свой только что изданный перевод «Гамлета»33 с надписью: «Марку Константиновичу Азадовскому, учившемуся читать по Гамлету. Да не отшибет у него этот Гамлет охоты к чтению! М. Лозинский. Гаспра, 27.IX.1933»34.
Нетрудно представить себе, о чем беседовали на отдыхе М. К., державший в памяти множество стихов Ахматовой, Гумилева, Мандельштама и при случае с удовольствием читавший их вслух, и Михаил Лозинский, участник акмеистического цеха и живой свидетель литературных событий 1910‑х гг. Но помимо поэзии в их разговорах была и другая общая тема: Публичная библиотека и ее сотрудники/сотрудницы. К одной из них они обратились 20 сентября с экспромтом, сочиненным совместно:
Вдыхая солнечную леньЗа сорок миль от Фиолента35,Суровый зал абонемента36Мы вспоминаем каждый день.И строгих муз, царящих там,Не в силах вытеснить из сердцаНи волн пленительное скерцо,Ни шестьдесят гасприйских дам.М. Азадовский (156а)М. Лозинский (033)37Первые четыре строки написаны рукой Лозинского, вторые четыре – рукой М. К. А к заключительной строке о «гасприйских дамах» Михаил Леонидович сделал сноску: «На самом деле их 120, но только 60 из них красавицы».
Фотооткрытка с этими строками была вложена в конверт, также надписанный Лозинским.
Это восьмистишие, плод совместного творчества М. К. и Лозинского, надолго запомнилось и авторам, и адресату. В феврале 1946 г., когда было объявлено о присуждении Лозинскому Сталинской премии (за перевод «Божественной комедии» Данте), Азадовские послали ему поздравление, на что Михаил Леонидович откликнулся следующими строками:
Дорогой Марк Константинович, позвольте мне сердечно поблагодарить Вас и милую Лидию Владимировну за Ваше приветственное послание, глубоко меня тронувшее. Оно всколыхнуло во мне много чудных воспоминаний. И старые залы Библиотеки, в которых я уже давно не бывал, и двухбашенную Гаспру38, из которой мы с Вами, Марк Константинович, слали стихотворное обращение в Отдел абонемента этой самой Библиотеки… Помните?.. Спасибо жизни, что она позволяет вспомнить столько милого. Сердечно Ваш. М. Лозинский (66–11; письмо от 14 февраля 1946 г.).
Отношения М. К. с Лидией Брун тем временем углублялись, и держать их «в секрете» становилось все сложней и сложней. Двусмысленность и неопределенность тяготили обоих. Это ощущалось, по-видимому, и в близком дружеском кругу (Жирмунские и Троцкие в Ленинграде, Юрий Соколов в Москве). Так, узнав, что жилищные условия М. К. в квартире на улице Герцена улучшились, Соколов писал ему 11 ноября 1934 г.: «Поздравляю с расширением помещения, Марк Константинович! Да ты совсем теперь именинник. Непременно женись. Непременно!!!» (70–47; 10)
В начале июля 1935 г. Лидия Брун расторгла свой брак с Д. Д. Шамраем и стала женой М. К. (сохранив при этом до конца жизни свою девичью фамилию). После чего «молодожены» сразу же отправились в свадебное путешествие – в Иркутск; М. К. спешил познакомить жену с матерью и сестрой, но главное – с родной Сибирью. Он привозит Л. В. в Тункинскую долину, где оба отдыхают на курорте Аршан. Затем оставляет ее одну на несколько дней, чтобы навестить сказочника Д. С. Асламова. «Старик мой очень обрадовался, увидев меня, – рассказывает он в письме к Л. В. от 29 июля. – Ему уже 80 лет, но он еще бодр, память сохранил хорошую, и с завтрашнего дня мы с ним засядем за работу»39.
Между сказочником и фольклористом состоялся тогда примечательный разговор, о котором М. К. не преминул сообщить жене (в том же письме):
Узнав, что я снова женился, он спросил, как тебя зовут, и «бросил карты» на тебя, т. е. начал ворожить на бубновую даму.
– Ну, – говорит – хорошая тебе попалась баба. Ее в ступке не утолчешь. Все понимат, держать все хорошо будет и копейку будет убивать. Держись за ее крепко и, чо про нее говорить будут, не обращай внимания. Она у тебя грамотная, поученая?
– Как же, – говорю, – грамотная, обязательно!
– Ну вот, сразу видно. В казенном доме об ней большой интерес имеют. Одним словом, хорошая женщина тебе попалась. Держись за нее!40
Среди поздравлений, которые М. К. получил в связи с женитьбой, было письмо от Ольги Фрейденберг. Несмотря на пожелание счастья и внешне почтительный тон, оно содержало в себе и каплю яда. Приводим его текст полностью:
Дорогой Марк Константинович!
Сердечно и искренне поздравляю Вас с принятием законного супружества. Очень, очень за Вас рада. Я всегда скорбела, что такой нежный и милый человек, как Вы, заброшены в неуютную холостую жизнь. Вам совершенно необходимо было жениться, именно Вам – с Вашей душой, ищущей привязанности и тепла. Вы не холостяк, Вам нужен уют, свой дом, женская ласка. На эту тему я много раз хотела с Вами говорить, но, зная причины Вашего одиночества, боялась грубым прикосновением причинить Вам боль41.
Вы – человек лирической складки. Вам нужен объект любви и почитания. Вы были не пристроены сердечно и – так мне казалось – слонялись по чужим домам. В переносном, конечно, смысле… И вот у Вас свой дом, своя жизнь.
Я вовсе не поклонница семейной и брачной петли. Но за Вас очень рада, вопреки тем выводам, которые Вы сейчас же сделаете. Однако нельзя смотреть на мир под углом зрения своих личных склонностей – я говорю о себе; для Вас семья и брак не петля. Это необходимое условие Вашего лирического, сердечного существованья.
Что же Вам пожелать, дорогой Марк Константинович? Что Вы будете счастливы, это несомненно. Но Ваше имя вызывает только одно, чисто фольклорное предостережение:
Марк, берегись Тристана! Смотрите, ради Бога, за водопроводом, за качеством Вашего кофе и чая; разливайте, сидя за самоваром, сами – помните, помните, что в Вашем доме напиток и его свойства – вопрос Вашего счастья и благополучия!..42
Все остальное устроится.
Еще и еще сердечно Вас поздравляю!
Ваша О. Фрейденберг (67–60; 17–18 об.; письмо от 8 сентября 1935 г.).
С уверенностью можно предположить, что М. К. воспринял такого рода «напутствие» с улыбкой, тем более что история короля Марка, Изольды и Тристана, разнообразно варьируемая в те годы филологами-марристами, вряд ли угрожала его семейной жизни: Л. В. любила мужа и была с ним счастлива. Что же касается Ольги Фрейденберг, то в течение последующих лет М. К. сохраняет с ней приятельские отношения (по крайней мере, внешне), о чем свидетельствуют ее шутливые, в стихотворной форме, открытки, которые она время от времени посылает бывшему «поклоннику», а также его ответные письма или дарственные надписи на книгах (см. илл. 59). Впрочем, со временем их отношения сходят на нет, и в своих послевоенных дневниковых записях, получивших за последние десятилетия широкую известность, Ольга Михайловна упоминает о М. К. лишь вскользь и попутно.
Выйдя замуж, Л. В. продолжала еще несколько лет работать в Публичной библиотеке (до 1938 г.). Будучи сотрудницей консультационно-библиографического отдела, она принимала участие в коллективной работе по составлению библиографии для второго (исправленного) издания «Истории XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо43. Осенью 1938 г. она увольняется из библиотеки и поступает на немецкое отделение 2‑го Ленинградского государственного педагогического института иностранных языков44 (учеба прервалась осенью 1941 г.).
Глава XXIV. Пушкинистика
Пушкинская тема сопровождала М. К. начиная с детства, однако научный интерес к Пушкину и его эпохе формируется у него, очевидно, под влиянием университетских учителей. В 1910‑е гг. М. К. посещает Пушкинский семинарий С. А. Венгерова1, общается с его участниками (А. Л. Бем2, Г. В. Маслов, Ю. Н. Тынянов, А. Г. Фомин и др.), знакомится с Б. Л. Модзалевским и в поисках пушкинских материалов совершает поездку в Тверскую губернию. Энтузиазм в отношении первого поэта России никогда не покидал М. К.: он не раз посещал пушкинские места, принимал участие в вечерах, посвященных Пушкину, охотно цитировал пушкинские строки в своих письмах3, был знаком или дружен с крупнейшими пушкинистами своего времени (М. П. Алексеев, Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский). Уже в 1920‑е гг. М. К. воспринимается в кругу историков русской литературы как «пушкинист». Так, Н. К. Пиксанов писал ему 30 января 1925 г.:
…посылаю Вам в подарок сбор<ник> «Пушкин»4 – Вам, давнему пушкинисту. Если будут в сибирской печати отзывы о нем (хорошо бы Ваш), не откажите сообщить (68–30; 2).
Занятия эпохой Пушкина, начавшиеся в 1910‑е гг., продолжились в университетской библиотеке Томска; им сопутствовали встречи и беседы с Ю. Н. Верховским, исследователем «пушкинской плеяды». Наконец, в Чите М. К. впервые обращается к декабристской проблематике, неотделимой от темы «Пушкин и декабристы». В середине и второй половине 1920‑х гг. интерес М. К. к пушкинистике стимулируется его дружескими связями (М. П. Алексеев, С. Я. Гессен); не прерывается также его эпистолярное (а подчас и непосредственное) общение с Ю. Г. Оксманом. М. К. проявляет внимание к пушкинским праздникам в Москве и Ленинграде, к мемориальным местам, связанным с именем поэта. Например, 11 февраля 1927 г. он пишет (из Иркутска) Б. Л. Модзалевскому:
Недавно я прочел обращение от имени друзей «Пушкинского Уголка»5. Я очень охотно вступаю в ваше общество и очень хотел бы быть полезным активно. Если б Вы прислали мне соответственные полномочия, я занялся бы вербовкой членов и членских взносов в Иркутске и, надеюсь, провел бы это здесь не без успеха6.
Б. Л. Модзалевский откликнулся на предложение М. К. Быстро пополняя в то время свои ряды, Общество друзей заповедника «Пушкинский уголок» нуждалось в работниках «на местах»7. Сохранилось удостоверение с датой 29 декабря 1927 г. (на бланке Общества), подписанное А. П. Карпинским и Б. Л. Модзалевским. Согласно этому документу, М. К. утверждался представителем Общества друзей в Иркутске, обладающим следующими полномочиями: выступать от имени Общества; производить регистрацию новых членов; принимать взносы по «квитанционным книжкам», которые выдавало правление, а также распространять издания Общества (см.: 55–7; 46).
Позднее М. К. состоял членом Пушкинского общества, возникшего в конце 1931 г. в Ленинграде на базе Общества друзей заповедника «Пушкинский уголок»8.
Известно также, что в феврале 1928 г. на торжественном заседании историко-литературного кружка педфака ИРГОСУНа (в связи с 91‑й годовщиной со дня гибели Пушкина) М. К. выступал с докладом; другой доклад произнес М. П. Алексеев9.
Первой печатной работой М. К., связанной с Пушкиным, следует считать, вероятно, отклик в газете «Власть труда» на фильм «Коллежский регистратор» по повести «Станционный смотритель» (см. главу XVIII).
«Профессиональным» пушкинистом М. К. становится в период своего расставания с Иркутском, то есть в 1928–1930 гг. Как известно, на рубеже 1927–1928 г. в кругу московских и ленинградских пушкинистов началось обсуждение вопроса об издании первого академического собрания сочинений Пушкина в пятнадцати томах. К лету 1928 г. утверждается редакция по национальному изданию Пушкина в составе А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина и П. Е. Щеголева и формируется редакционный комитет (председатель – П. Н. Сакулин). В комитет вошли представители всех «пушкинских» организаций того времени: М. А. Цявловский и В. В. Вересаев (Пушкинская комиссия Общества любителей российской словесности), Б. Л. Модзалевский и Н. В. Измайлов (Пушкинский Дом), П. Е. Щеголев и Б. В. Томашевский (Пушкинская комиссия при Академии наук), В. М. Жирмунский и Ю. Г. Оксман (Пушкинский комитет Института истории искусств). На совещании, состоявшемся 18 декабря 1927 г., редакционный комитет уточняет список отечественных исследователей – тех, кого следует привлечь к участию в будущем издании. Среди многочисленных фамилий ленинградцев и москвичей в протоколе совещания названа и одна фамилия «по провинции»: М. П. Алексеев. Упоминаний о Марке Азадовском в тот период не встречается.
Рабочий план, составленный членами редакционного комитета, включал в себя первоочередные научные и организационно-технические вопросы: распределение материала по томам, принципы редактирования и комментирования, текстология; оплата совещаний, поездок и т. п. Н. В. Измайлов вспоминал:
Для обсуждения этого плана в марте 1928 года было устроено в Москве совещание в помещении начинавшего тогда свою деятельность Института мировой литературы – в доме, стоявшем позади Василия Блаженного у Москворецкого моста и ныне не существующем. Здесь под председательством П. Н. Сакулина собрались В. В. Вересаев, Л. П. Гроссман, Н. К. Пиксанов, В. М. Жирмунский, я, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский и П. Е. Щеголев (Б. Л. Модзалевский должен был быть, но уже тяжело больной, не мог приехать). Это было первое в своем роде серьезное и деловое собрание пушкинистов-текстологов, биографов, исследователей творчества поэта. Академическое издание было признано преждевременным и пока невозможным, но решено было готовить шеститомное полное (предварительное) издание, проверенное по рукописям; для публикации же всех вариантов еще не было выработано тогда и методов. Отсюда родилось издание 1930–1931 годов, приложенное к «Красной Ниве»…10
Именно к этому шеститомнику (в кругу пушкинистов оно именовалось Малым собранием), осуществленному в 1930–1931 гг., и был привлечен – очевидно, по рекомендации Оксмана – Марк Азадовский. Ему поручалось редактировать фольклорные записи Пушкина: уточнить текстологию и датировки, написать комментарий. С этого издания и начинается многолетняя работа М. К. над темой «Пушкин и фольклор».
М. К. начал с двух пушкинских набросков к поэме о Бове, датируемых 1822 г. Этот текст был напечатан в третьем томе шеститомника11. Об этой, по всей видимости первой, пушкиноведческой работе М. К. свидетельствует его недатированное письмо к П. Е. Щеголеву:
Глубокоуважаемый Павел Елисеевич,
Присылаю для «Приложения к III-му тому соч<инений> А. С. Пушкина» выполненную мною, по поручению Ю. Г. Оксмана, «программу поэмы о Бове».
Дата и спорные чтения установлены мною. Текст в окончательном виде санкционирован Юлианом Григорьевичем.
С глубоким уважением
М. Азадовский.
ул. Плеханова, 41, кв. 16. Д. Я. Шиндеру для М. К. Азадовского12.
В работе над пушкинскими «Сказками», помещенными во втором томе, М. К. не принимал участия (их редактировал Ю. Н. Верховский). Зато он был привлечен к составлению «Путеводителя по Пушкину», изданного в качестве последнего (шестого) тома; его фамилия открывает «Список сотрудников»13. М. К. принадлежат в этом томе восемь статьей («Лубочные или народные картинки», «Руслан и Людмила», «Сказка» и статьи-заметки, посвященные пяти самым известным пушкинским сказкам). Статья «Сказка» в этом издании, освещающая интерес Пушкина к народной словесности, содержит в тезисной форме ряд положений, которые будут позднее развернуты в статье «Пушкин и фольклор».
В работе над «Путеводителем» М. К., по-видимому, лично общался со Щеголевым (умер 22 января 1931 г.). Об этом позволяет судить фрагмент письма Б. В. Томашевского к М. А. Цявловскому от 3 марта 1931 г.:
Карточки Верховского14 в большей своей части были отвергнуты Щеголевым. Мы также их смотрели <и> с мнением Щеголева согласились. Щеголев передал их на дополнительный просмотр и исправление (и замену совершенно неудовлетворительных) М. Азадовскому, кот<орый> в настоящее время часть карточек Верх<овскому> вернул для напечатания, а часть написал сам15.
Полное собрание сочинений, выпущенное в 1930–1931 гг., было повторено в 1931–1933 гг., но не как «приложение к журналу „Красная Нива“», а как самостоятельное издание, осуществленное ГИХЛом, и распространялось «по подписке». «Путеводитель по Пушкину» в этом издании отсутствовал, зато пятый том («Критика, история, автобиография») был разделен на две книги. На авантитуле этого издания стояли в траурной рамке имена П. Н. Сакулина и П. Е. Щеголева. В третьем томе на тех же страницах, что и в предыдущем издании, воспроизводился установленный М. К. текст «набросков к Бове», а на с. 5 была указана его фамилия как редактора этого раздела16.
Тома шеститомника еще печатались, когда редколлегия, возглавляемая Луначарским, принялась за подготовку второго издания, опять-таки в ГИХЛе, которое было реализовано в течение 1934 г. Возможно, для одного из первых томов этого издания (их редактировал М. А. Цявловский) М. К. было предложено написать дополнительный комментарий, отсутствовавший в двух первых шеститомниках. Текст был написан, но впоследствии отклонен. Об этом свидетельствует фраза из письма М. К. к М. А. Цявловскому от 6 февраля 1932 г. Подтверждая получение гонорара «за ненапечатанные тексты», М. К. добавляет: «Не скрою, что мне было бы гораздо приятнее получить гонорар за принятый материал»17.
Следующее издание шеститомника (под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского), приуроченное к 100-летию со дня гибели поэта, состоялось в издательстве «Academia» (1936–1938). Одновременно было осуществлено еще одно (четвертое!) издание, выпущенное в ГИХЛе (1936); его редактировали С. М. Бонди и другие пушкинисты.
В 1932–1933 гг. в кругу московских и ленинградских пушкинистов живо обсуждается ряд дальнейших проектов, связанных с подготовкой пушкинского юбилея, академического издания Пушкина, «Пушкинской энциклопедии», а также других изданий. М. К. принимает в этих дискуссиях посильное участие – об этом свидетельствует, например, фотография, на которой он изображен среди участников Пушкинской конференции, проходившей 8–11 мая 1933 г. в Ленинграде18. Центром этих начинаний становится Пушкинский Дом (его возглавлял тогда Луначарский; реальное же руководство сосредоточилось в руках Оксмана).
23 августа 1933 г. Оксман сообщал М. А. Цявловскому:
Имел беседу по Пушкинским делам в самой высокой инстанции, где очень сочувствуют не только полному собранию сочинений Пушкина, но и энциклопедии, а главное, большой конференции, которая объединила бы пушкиноведов с писателями. Конференцию будет проводить Академия наук и А. М. Горький, академическое издание будет возглавлять А. М. Горький, а легкую промышленность в области пушкиноведения – Л. Б. Каменев. С последним я тоже беседовал о конкретизации некоторых замыслов – о маленьком Пушкине и об энциклопедии19.
Что имелось в виду под «самой высокой инстанцией» – об этом можно только догадываться и строить предположения. А под «легкой промышленностью» Оксман подразумевал, видимо, издательскую часть пушкинского проекта, в которой принял непосредственное участие Л. Б. Каменев, возглавивший серию «К столетию со дня гибели А. С. Пушкина» и разработавший, кроме того, план и проспект выпуска нового Полного собрания сочинений Пушкина в девяти томах (утвержден осенью 1933 г.). «Для реализации этого проекта он привлек известных в то время пушкинистов – М. К. Азадовского, С. М. Бонди, Ю. Г. Оксмана, М. А. Цявловского, Т. Г. Зенгер-Цявловскую, Б. В. Томашевского, Д. П. Якубовича. Все они, за исключением Б. В. Томашевского, приняли на себя нелегкую ношу»20. В ноябре 1933 г. Каменев представил Цявловскому и Оксману план девятитомника. «Цель издания, – говорилось в этом документе, – дать в руки нового советского читателя полный канонический текст литературного наследия Пушкина с минимальным количеством пояснений, абсолютно необходимых для понимания текста»21. Черновики, наброски, а также письма поэта в это издание не включались.
В течение всего 1934 г. в издательстве «Academia» и Пушкинском Доме велась интенсивная работа по подготовке новых томов; ее возглавлял Ю. Г. Оксман, участник и координатор основных пушкиноведческих начинаний в стране. Успешной работе пушкинистов способствовало также назначение Каменева 4 мая 1934 г. (после смерти А. В. Луначарского) директором Пушкинского Дома, а в июне 1934 г. – директором Института мировой литературы. В течение 1934 г. издательством «Academia» были почти полностью подготовлены – под редакцией Л. Б. Каменева, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского – два издания Полного собрания сочинений: в девяти и шести томах. Кроме того, в течение 1934–1935 гг. «Academia» выпускает около десяти пушкинских и пушкиноведческих изданий.