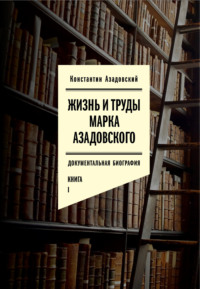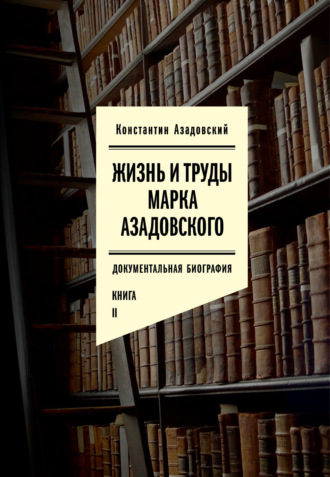
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Наиболее подробным и содержательным откликом на двухтомник является большое письмо Ю. М. Соколова к М. К. от 25 апреля 1932 г. Написанное под свежим впечатлением, без оглядки на редакторский карандаш, оно представляет собой, с одной стороны, полноценную рецензию, с другой – откровенный профессиональный разговор «на равных», какой вряд ли был возможен в то время между М. К. и любым другим советским фольклористом.
Приводится в своей основной части:
Дорогой Марк Константинович!
С огромной радостью прочитал только что вышедшие два тома твоей «Русской сказки». Подзаголовок «Избранные мастера» считаю очень удачным. А почему бы было не назвать вообще сборник «Мастера русской сказки»? Это сразу бы точно определило установку сборника23. Сборник вышел очень вовремя. Сейчас наблюдается явное обращение к фольклору, особенно в литературных кругах. Издания АСАДЕМИИ <так!> (твой сборник, моя серия24, предстоящий выпуск Карнауховского сборника25, подготовляемые мной былины26, «1001 ночь»), а также «Пятиречье» Озаровской, бесспорно, содействуют благоприятной атмосфере для фольклористических работ и для включения фольклорных интересов в круг интересов литературоведения. Недавно я дважды вел продолжительную беседу с Авербахом27, и он четко заявил, что РАПП считает своей большой ошибкой невключение фольклора в круг своего внимания и заботы. То, что сделано московской дискуссией28, по словам Авербаха, имеет, бесспорно, большое значение. Пролетарская литература должна будет внимательно изучать фольклор и заботиться о его правильном развитии. Предполагалось, что я на днях сделаю большой доклад о положении фольклора и фольклористики на заседании секретариата РАПП, что в РАПП будет организована фольклорная секция, что на предстоящем пленуме ВОАПП29 вопросы фольклора послужат предметом специального заседания. Сегодня, как тебе, по всей вероятности, уже известно, РАПП и ВОАПП ликвидированы30. Но постановка фольклорных вопросов на обсуждение широкой писательской общественности этим не снимается. В едином Союзе Советских писателей я буду всячески добиваться, чтобы вопросы эти не заглохли. Недавно у меня было несколько бесед по этим вопросам с разными писателями. <…>
Возвращаюсь к твоей книге. Выбор сказок в огромном большинстве удачен, показателен для разных манер сказывания и ярок. Есть, правда, исключения, но их мало. Следовало бы, раз ты решил соблюдать точность языка, все же давать пояснения не только местных или редких слов, но и запутанных синтаксических конструкций, чтобы облегчить читателю усвоение текста. Например, есть трудные для понимания места: стр. 142, т. II: диалог братьев перед судьей о ребенке; стр. 138 того же тома: кого «их» согнали? Непонятна фраза: «Как, брат, у тебе, ведь дети стоять». Стр. 209 I тома (Семенов31): «Вот тут он их и забыл, этот платоцек» – неясно; «Вот эту музыку развели полный ход. Этот старик стал своей музыкой разделывать. Прежде всего отбил жениха, а потом всю публику». Что значит «отбил»? Конец этой сказки скомкан. Я бы в отношении Семенова ограничился «Синеглазкой». Это ведь действительно шедевр. А «Купец богатый» – недостаточно стройная сказка, особенно в языке. Автор, по-видимому, торопился при ее сказывании. Не знаю, как это случилось, но у тебя в словарь не вошло очень много тобою же разрядкой выделенных слов, которые так и остались для читателя без пояснения. К сожалению, читая книгу, я не отметил эти слова. Когда буду перечитывать (а я непременно буду, т<ак> к<ак> буду писать большую рецензию32), я тебе этот список пришлю. Но это ведь все мелочи, легко исправимые при переиздании. Переиздавать тебе придется, т<ак> к<ак>, по словам Ивана Никаноровича33, вчера, в один час, только появилась книга в магазине на Кузнецком Мосту, она оказалась распроданной, т. е. выброшенная на рынок партия34.
Теперь о распределении материала. Я, к сожалению, не уловил принципа, по которому ты устанавливаешь последовательность в расположении рассказчиков. По каким признакам ты их группируешь? М<ожет> б<ыть>, я просто-напросто не успел как следует вглядеться и вдуматься. Но, по-видимому, виноват и ты сам, не указав ориентировки для читателя. Напиши мне, чем ты руководился, устанавливая данный, а не иной порядок: типологический, географический или социальный признаки были для тебя руководящими? Считаю очень удачными приложения: одна тема у различных рассказчиков, а также статьи Авдеевой и Семевского. Что касается иллюстраций, то не могу не указать, что вышли они неяркими. Воспроизведения бледны. Но не только упрек посылаю тебе касательно внешней стороны. Я считаю значительным упущением отсутствие хотя бы коротенькой статьи, поясняющей историю и значение лубочных картин, а также того принципа, по которому они привлекаются для иллюстрирования именно данных сказок.
Вопрос о социальной природе лубка очень сложный. Ошибочно ставить знак равенства между лубочными картинами (рукописными и печатными) – и крестьянской сказкой. Свои соображения о лубочной и «народной» литературе я излагаю в двух довольно объемистых статьях в выходящем скоро 6‑м томе «Литературной Энциклопедии»35. Ты, вопреки мыслям своего же предисловия, орудуешь по отношению к «народным картинкам» старым социологически не дифференцирующим подходом. Если издательство было против нового приложения, т. е. статьи о лубках, ты все же должен был бы настоять на своем. Теперь об обложке. Грешен, но она мне не нравится. Отдает (особенно в орнаментике) чем-то вроде официального русского стиля <18>80–<18>90<-х> годов. Словно роспись из вашего ленинградского Дома ученых, дворца Владимира Александровича36. Красочная гравюра в начале 1‑го тома напоминает сытинские литографии37. Ты, конечно, во много раз меня больше разбираешься в искусстве, но я все же решаюсь высказать свое непосредственное впечатление. Обсуждал ли ты вместе с художником его работу? Вот большинство заставок и заглавных букв хороши. Есть только некоторые несоответствия этнографического порядка. Например, концовка на стр. 275 I‑го тома изображает воз с сеном в парной дышловой упряжке, чего на Севере не может быть. А ведь сказка белозерская! Но это уже, конечно, с моей стороны придирка. По поводу же лубков и их подбора я потом напишу подробно.
Теперь о самом главном – о твоем предисловии и комментариях. Сделаны они в основном мастерски, читаются с большим интересом, и, думаю, с таким же интересом прочтутся и неспециалистами по фольклору. Тебе удалось и в этой книге заострить любимую свою тему об индивидуальных мастерах-рассказчиках. Задача выполнена тобою полно. Для широкой, особенно литературоведческой публики, не специально фольклористической, фиксация внимания именно на творческой манере рассказчиков, на характеристике их искусства, на подчеркивании творческого момента имеет очень большое значение. Надо признаться, что, несмотря на многолетнюю работу фольклористов и исследовательскую, и популяризационную, все же в отношении фольклора преобладают архаические взгляды и предубеждения. Я глубоко уверен, что твой сборник в установлении правильных взглядов на устно-поэтическое творчество сыграет большую роль. Тем не менее несколько замечаний позволь мне сделать. В вопросе о классовой природе творчества рассказчиков многое тобою установлено совершенно правильно, но не до конца уточнено. Мне кажется, что несколько преувеличил ты значение самой профессиональной или, как ты определяешь, деревенско-богемной среды, ею детерминируя стиль ряда сказочников. Между тем, в комментариях ты сам же с убедительностью вскрываешь черты, например, чисто купеческого мировоззрения и стиля. Страницы 84–87 первого тома, где идет у тебя речь о принадлежности большинства сказочников к беднякам или к деревенской богеме, недостаточно прочно согласуются, например, со страницей 198 второго тома, где ты говоришь о буржуазно-купеческой формации сказок Антона Чирошника. Ты как-то совершенно справедливо упрекал и меня, и Борю38 в том, что мы в свое время слишком непосредственно связывали мировоззрение сказочника и его стиль с его биографией. Мне кажется, и у тебя следы такого подхода имеются. Правда, и в литературе вскрытие классовой природы произведения до сих пор, несмотря на старания огромной армии молодых марксистов, не блещет точностью, а фольклорный текст представляет в силу своей многоплановости еще бо́льшие трудности, тем не менее, какие-то нужно делать новые попытки к выработке приемов классового анализа. Но что я тут говорю тебе, это в той же степени относится и ко мне, да и, вообще, ко всем нам, фольклористам. Вот на стр. 185 ты говоришь, что сказки Семенова «связаны с купеческой средой и традицией», что «совершенно бесспорно социальное происхождение сказок о богатом купце», что эти гетерогенные в классовом отношении сказки «подверглись у него значительному окрестьяниванию». Это все глубоко верно. Но не следовало бы в предисловии более подробно вскрыть этот купеческий стиль в крестьянском фольклоре? Важно также решить вопрос, имеем ли мы дело с унаследованием иноклассового материала и его крестьянской переработкой или же мы видим пропагандирование купеческой сказки, стиля, идеологии. Выходит как будто бы, что Семенов купеческие сказки окрестьянивает, а Антон Чирошник сохраняет их купеческую природу в большей неприкосновенности. Вот все это требует уточнения. Поправляя на стр. 123 I‑го тома Бориса в его суждении о Новопольцеве, ты совершенно прав. Какой же Новопольцев «эпик»!39 Вообще, у тебя в книге много таких замечаний и наблюдений, против которых на полях я поставил плюс, т. е. знак полного с тобой согласия. Но не согласен с твоим решительным заявлением, что фольклор «с окончательным уничтожением различия между городом и деревней, несомненно, окончательно изживется и отомрет» (стр. 25 предисловия). Я думаю, как высказывался и на дискуссии, устное творчество не умрет, а выльется в новые формы, как и литература, которая, конечно, не будет же существовать в такой несовершенной форме фиксации, которую дает буквенное письмо. Книги в будущем будут звучать не в метафорическом смысле этого слова, а в реальном.
Ну я записался и замечтался. Пора кончать послание. Еще раз от всей души благодарю тебя, что ты выпустил сборник сказок. Он, повторяю, не пройдет незамеченным, в противоположность, например, сборнику А. И. Никифорова и Капицы40. Тот сборник неудачен, так как не проникнут в своем замысле четко поставленной идеей. В печати он вызовет, надо думать, некоторые возражения и споры. Но это лучше, чем гробовое молчание. Я лично (на этот раз это совершенно определенно) напишу подробный его разбор41. Хочу сопоставить со сборником Озаровской42, которая так испортила свою книгу никчемным предисловием «художественным» и странными примечаниями. Попросила бы тебя сделать и то, и другое. А догадки у нее на этот счет нет. Кстати, тут было совсем зарезали сборник Ирины Валерьяновны43. Я написал решительную контр-рецензию после отрицательного отзыва (в нем говорилось, кому де интересны сказки). В результате, как мне сказал А. В. Луначарский, сборник постановлено печатать, но с моим предисловием44. И<рина> В<алерьяновна>, по-видимому, недостаточно убедительно сумела раскрыть смысл печатания сказочных текстов. Хотя мне очень сейчас некогда, но я напишу предисловие. Я очень доволен, что удастся вскоре еще одному сборнику порадоваться.
Как идет составление библиографии?45 Скоро буду иметь удовольствие беседовать лично с тобой. Приеду на 7–10<-е> для участия в совещании по археологии и этнографии46. Предполагавшийся мой доклад по фольклору, как я и думал, не состоится. Это – отражение той ситуации, которая создалась в МОГАИМКе47 в отношении фольклора. Историки материальной культуры, гл<авным>обр<азом>, ваш Кипарисов48 и заведующий МОГАИМК’ом Мишулин49 допускают фольклор лишь в той степени, в которой он дает материал для истории производства. Хотя Н. Я. Марр решительно возражает против такой узко технической и механистической трактовки вопроса, все же, вопреки ему, протаскивается эта односторонняя точка зрения. На совещании она полностью себя выявит. Н<иколай> М<ихайлович>50 мне говорил, что мой доклад по фольклору будет, но я чувствовал, как повернется дело. Но я приеду и буду выступать в прениях.
В Москве организуется, т. е. начались подготовительные работы по организации – Центральный Музей Литературы, который будет помещаться в «Пашковском Доме», когда Ленинская библиотека из него перейдет в новое здание, т. е. через год51. В ЦМЛ будет существовать большой Отдел Фольклора. Это было бы чудесно! Тогда, наконец, Фольклорный кабинет52 нашел бы себе прочное и постоянное пристанище и перестал бы мыкаться по учреждениям, где он не может не быть каким-то едва терпимым привеском. В Москве организован Комитет по устройству Музея под председательством С. А. Бубнова53. Заместителем Бубнова – В. Д. Бонч-Бруевич54. Он очень поддерживает необходимость широкого развития фольклорного дела в будущем музее. Таким образом, ты видишь, что перспективы на будущее есть, хотя и приходится преодолевать иной раз препятствия и недоразумения. Я не собираюсь сокращать энергию.
Теперь, в конце, раз уж я расписался, о разных разностях. Видел ли ты вторую книжку «Литературного Наследства» со статьей Валентины Александровны о «забытом Франсе»?55 Вообще, как тебе нравится этот журнал?.. На днях в Союзе Писателей открылась выставка продукции за два года. Вот у нас говорят, что мало печатается, а ведь количественно продукция писательская очень велика. Иные печатаются даже, на мой взгляд, слишком много. Есть порядочно халтуры, но, с другой стороны, как многое обычно пропускаешь, книги очень быстро раскупаются, и вот только на выставке удается просмотреть… Какого ты мнения о «Трех цветах времени» Анатолия Виноградова?..56 Как относишься к скорому переезду к Вам в Ленинград Николая Кириаковича?57 Я за него рад. Он в работе над текстами в Архиве ИРЛИ будет вполне на своем месте. Уживется ли он только при своем «характере»? Злоключения Николая Леонтьевича58 кончились тем, что он получил полную академическую пенсию, приглашен на библиографическую и историко-графическую работу по театру в Комакадемию59 и состоит членом Политико-Художественного Совета Малого театра. Сегодня мы с Вал<ентиной> Ал<екса>ндр<овной> были на общественном просмотре новой постановки «Плодов Просвещения»60. Старички недовольны оттенком гротескности в постановке (особенно в костюмах и игре). Но мне понравилось. Нельзя же подходить к старым вещам только с целью воспроизведения «благородных традиций»… Ну, еще обо многом можно было бы тебе писать, но довольно, да и ты устал читать. До скорого свидания. Передай Татьяне Николаевне и Виктору Максимовичу61 о моем скором приезде. Я, правда, им тоже напишу сегодня-завтра. Как мне опять хочется повидаться. Валентина Александровна62 шлет тебе привет и поздравление с книгой. Крепко жму руку. Передай, пожалуйста, привет твоим ипиновцам – Анне Михайловне63, Зинаиде Викторовне64, Евгению Владимировичу65, у которого – предупреди его – я намерен отобрать обратно взятые у меня книги, и Николаю Михайловичу, если его увидишь. Не забыл ли Н<иколай> М<ихайлович> передать Мих<аилу> Георг<иевичу> Худякову66 его экземпляр «Колхозного Сборника»67? Спроси, пожалуйста, Михаила Георгиевича и передай ему мой привет68. А почему мне не прислали этот сборник в новом его обличье?.. В АСАДЕМИИ <так!> мне говорили, что налаживается дело с изданием серии сказок восточных и народов СССР. Разве только о сказках шла речь? А почему не эпос, сборники песен? Ежов, думаю, что-то напутал. Кто будет новым директором издательства АСАДЕМИИ еще не известно. Называли Каменева69, но не знаю, насколько это верно.
Еще раз жму руку.
Твой Юрий Соколов25/IV 1932 г.
P. S. Не успокаивайся тем, что я прочел твои «Сказки». Экземпляр мне временно дали из «Academia»; я его должен вернуть. Всего, что нужно тебе сказать о сборнике, не сказал, несмотря на длинное письмо. Скоро увидимся и тогда наговоримся (70–46; 20–22).
Истинное значение «Русской сказки» и место, которое этот двухтомник занимает в истории отечественной фольклористики, определилось позднее. Так, К. В. Чистов, говоря о «школе Азадовского – братьев Соколовых» 1920–1930‑х гг. и сопоставляя издание сказок Винокуровой в «Folklore Fellow Communications»70 с «Русской сказкой», полагает, что обе эти работы принадлежит к высшим научным достижениям «русской школы». О статье «Русские сказочники» он пишет:
Остается пожалеть, что эта статья, занявшая немногим меньше 100 страниц, в сочетании с очерками об отдельных исполнителях, которые предпосылаются записям от них, не была в свое время переведена ни на один из западноевропейских языков. Книга о Винокуровой перестала бы в таком случае восприниматься как блестящий, но уникальный эпизод71.
Нельзя не упомянуть и о внешней стороне издания – одной из наиболее ярких в ряду других прекрасно иллюстрированных книг издательства «Academia». Все работы по оформлению «Русской сказки» (переплет, суперобложка, титул, заставки, инициалы, концовки) были выполнены П. А. Шиллинговским, постоянно сотрудничавшим с этим издательством. В сочетании с картинками из лубочных книжек и отдельными лубочными листами (их отбором занимался М. К.) ксилографии Шиллинговского создают убедительное художественное целое, что, несомненно, способствовало успеху книги, которым она пользуется у знатоков и любителей вплоть до настоящего времени (притом что замечания Соколова о бледности изображений, «русскости» оформления обложки и др. небезосновательны).
Сам же М. К. был, судя по всему, вполне удовлетворен работой Шиллинговского. О его личных отношениях с выдающимся графиком-иллюстратором известно немного, однако факт их знакомства и сотрудничества в 1931–1932 гг. не подлежит сомнению. Уже после выхода «Русской сказки» М. К. просил Шиллинговского оформить книгу М. П. Алексеева «Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей», которая готовилась в то время к изданию в иркутском Крайгизе.
В письме к Алексееву от 5 марта 1932 г. М. К. рассказывал:
Недавно звонил мне Шиллинговский, просил заехать для беседы по поводу Вашей обложки. Потом мы с ним ходили вместе в Академию Наук72, где я подобрал ему ряд изданий. Обложка выходит занятная – пышная. Только он стремится изобразить в центре герб Сибири: я ему доказывал, что это будет идеологически не выдержано. Но он упорствует и, кажется, ежели не уверится сам, предполагает запросить Ваше мнение по сему поводу.
О работе Шиллинговского для иркутского издания идет речь и в письме от 7 июля 1932 г.:
Я не успел побывать своевременно у Шиллинговского, – и рисунок увидел уже тогда, когда он его вырезал. Юрта, нужно сознаться, вышла неудачной, не сибирской, а какой-то среднеазиатской, татарско-монгольской. Точно в ней сам Батый обитает. Но, в общем, рисунок не плох, хотя и не очень блестящ. Заставка зато очень хороша!
Рисунки Шиллинговского, несмотря на замечания М. К., были акцептированы и автором книги, и руководством издательства – причем настолько, что и дополненное издание этой книги (Иркутск, 1936), и второе издание (Иркутск, 1941) появились в том же оформлении. Сибирский герб, правда, исчез, но «татарско-монгольская» юрта красуется на всех трех обложках.
Одновременно с двухтомником М. К. работает в 1931 г. над тематическим сборником – готовит «антирелигиозные» сказки для издательства «Прибой» (формально закрытого в 1927 г., однако сохранившего издательскую марку и продолжавшего свою деятельность в рамках ленинградского ГИЗа). Книга была завершена в начале 1931 г. (ее иллюстрировал Е. А. Кибрик, в то время начинающий художник73); предисловие к ней написал Н. М. Маторин. Готовая книга была принята к печати и отправлена в производство; уже была отпечатана бо́льшая часть листов. «Наш сборник антирелигиозных сказок скоро уже будет сверстан – обещают примерно в первой декаде октября», – информировал М. К. 28 августа 1931 г. Н. М. Маторина74. Однако на пути издания постоянно возникали разного рода трудности, характерные в тот период для советских издательств (нехватка бумаги, очередная реорганизация и т. д.).
К весне 1932 г. ситуация с книгой еще более осложнилась. 5 марта 1932 г. М. К. рассказывал М. П. Алексееву:
Мои новости – довольно невеселые. Все антирелигиозные замыслы75 рухнули. <…> Мои Сказки (антирелиг<иозные>) прерваны печатанием, и неизвестно, когда вновь пойдут в работу – и пойдут ли. Причина – в общем положении ГИЗа, в его разукрупнении. Причем до сих пор неизвестно, куда перейдет антирелиг<иозный> отдел. Фактически его не существует сейчас – стало быть, не может быть и речи о договорах.
«Антирелигиозные сказки» остались в рукописи. «…Давно подготовленный сборник М. К. Азадовского до сих пор не издан», – сетовал по этому поводу Н. П. Андреев в 1938 г.76 Однако спустя два с лишним десятилетия М. К. вспомнил о своей давней работе. Летом 1954 г. он получил предложение от В. Д. Бонч-Бруевича издать в рамках возглавленной им Комиссии по изучению вопросов истории религии и атеизма сборник антиклерикальных сказок. Осенью 1954 г., после летнего отдыха, М. К. хотел было вернуться к сборнику, но помешала болезнь.
Через две недели после смерти мужа Л. В. писала В. Д. Бонч-Бруевичу:
Э. В. Померанцева77 <…> рассказала мне, что Вам известно о книге, подготовленной Марком Константиновичем и что Вы интересуетесь ее судьбой. Я сразу же решила немедленно Вам написать: во-первых, ответить на Ваше летнее письмо и, во-вторых, поставить Вас в известность как о судьбе самого Марка Константиновича, так и его книги. <…> Поскольку Марк Константинович думал о ее издании буквально за два месяца до своей смерти, то мне очень хотелось бы осуществления одного из его предсмертных желаний, к тому же я считаю, что в серии «Памятники русского свободомыслия» книга эта заняла бы свое должное место.
Книга, находящаяся у меня, совершенно уникальна. Она представляет собой сброшюрованные в виде книги корректурные листы. Название: «Антиклерикальная сказка. Народные сказки о боге, о черте, о святых и о попах. Сказки русские, украинские и белорусские».
Оглавление:
Предисловие – необходимо написать заново78.
От составителя
Содержание: I. Попы и монахи. Сказки русские. Сказки белорусские. Сказки украинские. II. Бог, черт и святые. Сказки русские. Сказки белорусские. Сказки украинские. III. Богомолы. Сказки русские. Сказки украинские. IV. На божественные гласы.
Примечания.
Список источников.
Листаж: 296 стр.
Формат: 27 × 18 см.
Иллюстрации художника Е. А. Кибрика даны в виде клише.
Книга была передана Бонч-Бруевичу в январе 1955 г. во время личной встречи в Москве. Влиятельный в советском издательском мире Бонч-Бруевич проявил к ней живой интерес, о чем свидетельствуют его письма к Л. В. от 21 января и 5 мая 1955 г. (91–18). Однако через несколько месяцев его не стало.
В октябре 1955 г. Л. В. информировала М. А. Сергеева, работавшего в то время над некрологом М. К.:
Эта книга была им подготовлена, и она существует в виде единственного экземпляра сверстанной и сброшюрованной книги. На тит<ульном> листе стоит: предисловие Н. М. Маторина и изд<ательство> «Прибой». Год это, вероятно, 1933–1934. Вы помните лучше меня, когда закрылся «Прибой»79 и когда произошло все прочее. Словом, эта книга лежала как раритет у него в шкафу. В январе этого года я сдала ее В. Д. Бонч-Бруевичу. Он хотел издать ее в своей серии и сам написать предисловие. Что будет сейчас с ней – не знаю80.
Дальнейшая издательская история выясняется из письма Л. В. от 16 ноября 1955 г. к историку и фольклористу Л. Н. Пушкареву (1918–2019), с которым М. К. поддерживал переписку начиная с 1949 г. (33–4):
Дорогой Лев Никитич,
Обращаюсь к Вам с просьбой по поводу одной рукописи Марка Константиновича. Дело в том, что после смерти Марка Константиновича Владимир Дмитриевич81 прислал мне очень хорошее, тронувшее меня письмо. В январе, будучи в Москве, я виделась с Владимиром Дмитриевичем. Он хотел напечатать со своим предисловием оставшуюся неопубликованной работу Марка Константиновича, которой мы дали условное название «Сборник антиклерикальных сказок».
Работа эта должна была увидеть свет в издательстве «Прибой» в 1932–1933 гг. Потом произошел ряд событий, издательство «Прибой» было ликвидировано, и у Марка Константиновича остался ряд отпечатанных листов, которые он велел переплести в виде отдельной книги. Работа эта сохранилась в единственном экземпляре и имеет вид книжечки, переплетенной в синий коленкор с золотым тиснением на корешке.
После разговора с Владимиром Дмитриевичем и его обещания заняться самому этой работой я выслала 18 января эту книгу в Москву. Последнее письмо по этому поводу я имела от Владимира Дмитриевича в мае месяце.
Т<ак> к<ак> после смерти Владимира Дмитриевича было совершенно естественно ожидать всяких изменений в редакционных планах, то я написала его секретарю Клавдии Борисовне Суриковой, прося, в случае явной ненужности этой книги, вернуть ее мне. К. Б. Сурикова ответила мне (17 августа), что рукопись находится в редколлегии сборников «Вопросы истории религии и атеизма» на рецензии и что за сохранность рукописи беспокоиться не следует.