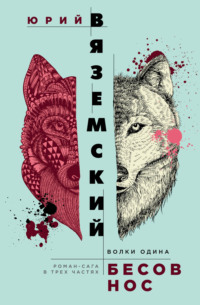Полная версия
Весна страстей наших. Книга 2. Бедный попугай. Сладкие весенние баккуроты
Никто не называл ее «женщиной». Тем более – ее давний воспитанник Гай. Тем более – в присутствии злосчастной, распутной…
Об этом дерзком выкрике Гая Цезаря Августу, я думаю, тоже доложили. Август же…
Он, если и любил кого-то, то этим человеком была Ливия. Все говорило о том, что с годами и с ростом его почти безраздельного могущества он не утратил нежных и благодарных чувств к своей мудрой и чуткой супруге. Однако… как бы это поточнее нарисовать?., он уже тогда стал готовиться к некоторым из своих разговоров с женой и не просто заранее обдумывал свои слова, но брал дощечку и набрасывал на нее как бы план беседы, ключевые аргументы формулируя и выписывая…
Так вот, вскорости после выходки Гая Цезаря Август как бы невзначай зашел на Ливину половину Белого дома, причем в то самое время, когда Юлия с одной из рабынь усердно рукодельничала. Зашел и как будто начал что-то искать среди прялок и ткацких станков. А потом обернулся к дочери и словно хотел что-то спросить, но не спрашивал, разглядывая и раздумывая.
А Юлия, не поднимая головы от работы и не встречаясь взглядом с отцом, тяжело вздохнула и грустно произнесла: «Вот, как рабыня, работаю в чужом доме и многим мешаю».
«Рабыня? – удивленно переспросил Август. – В чужом доме?»
«Мой дом опустел, когда ты выгнал из него моего мужа», – ответила Юлия.
«Я… выгнал Тиберия?!» – уже строго переспросил Август.
А Юлия побледнела, тряхнула головой и с горечью произнесла: «Да, ты. Еще тогда, когда решил сделать Ливиного сына моим мужем. Неужто не знал, чем все это закончится?»
Август поджал губы, на левой щеке вокруг едва заметного шрама появилось красное пятнышко и левый глаз чуть задергался – признаки сдерживаемого гнева, как знали очень близкие к принцепсу люди. Август шагнул к дочери, взял ее за подбородок, поднял ее голову так, чтобы взгляды их встретились, и с тем же вздрагивающим глазом, с тем же пятном на щеке, все более расширявшимся, процедил сквозь зубы: «Ливия любит тебя, как родную дочь. Тебе это прекрасно известно. И в моем доме – в нашем доме! – ты для всех родная и всегда желанная».
Тут Август отпустил Юлин подбородок и направился к выходу. Но на пороге обернулся, все еще с пятном на щеке, но уже без подрагивания глаза: «Ты только не забывай, что, помимо Гая и Луция, у тебя есть другие дети. О них тоже надо заботиться, почаще с ними бывать».
И вышел.
А Юлия с той поры почти совсем перестала бывать в доме на Палатине.
VIII. – Юл тоже переменился, – вновь перескочил Гней Эдий. – Он стал еще более красивым и мужественным. Две улыбки – ты помнишь, я тебе их описывал? (см. 1.IV) – исчезли с его лица, и теперь осталась только одна улыбка – строгая и печальная, глядя на которую, тебя самого будто охватывала печаль.
Глаза его теперь приобрели постоянный желтый, темно-желтый цвет; и эта их желтизна поражала своей необычностью, была какой-то сумрачной, холодной, недоброй. Тяжело было смотреть в эти глаза…
Морщина между бровей – помнишь? Теперь еще одна морщина появилась, от середины лба к переносице, образовав как бы крест.
Из голоса исчезла хрипота. Юл теперь говорил чистым и ровным голосом, скорее баритоном, чем басом. И вот еще странность: чем тише Юл говорил, тем повелительнее звучали слова…
Я Юла сумел изучить, потому что он трижды со мной разговаривал. Один раз окликнул меня на улице, подошел и стал просить, чтобы я «вернул Феникса». Так и сказал: «Я знаю, ты ему самый близкий друг. Верни его нам. Юлия по нему тоскует. И всем его не хватает. Уговори, постарайся».
Второй раз явился ко мне домой и попросил раздобыть для него Фениксову трагедию, не первую, а вторую его «Медею». Дескать, Юлия ее требует, а он, Юл Антоний, ни в чем не может отказать дочери Августа.
В третий раз прислал за мной лектику и просил пожаловать к нему на обед, на котором, помимо разного рода женщин, были Помпей и Криспин, Пульхр и Сципион. Гракх и Юлия, правда, отсутствовали. Но Юл объявил, что считает меня своим давним приятелем, надеется на то, что я буду часто бывать и у него, Юла Антония, и у Юлии с Гракхом, которые якобы часто обо мне справляются и давно ищут встречи со мной.
Феникса ему я, конечно же, не смог вернуть и, ясное дело, не собирался. Но обещал, что буду стараться. «Медею» скоро достал, уговорив Феникса разрешить мне сделать копию с трагедии, дескать, лично для меня. И с той поры я изредка и тайно от моего друга стал бывать на сборищах Юла и Юлии, конечно же, не в роли нового адепта, а в качестве наблюдателя и, если угодно, разведчика…Один из моих знакомых, вернувшись из Африки, рассказывал, что антилопы, завидев льва, не бегут от него, а держатся на определенном расстоянии, дабы, вместо того чтобы пуститься наутек навстречу неизвестности и неожиданной засаде, издали следить за поведением хищника и предвидеть опасность…
Это во-первых. Во-вторых же… Буду честен с тобой и признаюсь: Юлу почти невозможно было отказывать. Я теперь сам на себе испытал…Как бы тебе это объяснить, молодой человек?.. В Юле Антонии с каждым годом становилось все меньше человеческого и все больше того, что некоторые греческие стоики называют демоническим. От него словно запах шел, запах иной природы. Будто в Ахайе, в Азии или на Кипре в Юла вселился призрак его отца. И этот призрак сначала затаился, а потом решил воспользоваться душой и телом своего сына, чтобы отомстить за свой позор, расплатиться с Августом, с его семейством, с Римом самим расквитаться за свою страшную гибель! И Марк с каждым годом все больше вытеснял Юла. Но мстящий призрак, выходец из египетской могилы, скрывался внутри. А на поверхности, обращенной к людям, – сумрачно-прекрасный, притягательно-одинокий живой человек!.. Спорить с ним было невозможно, потому что едва ты начинал ему возражать, тебе тут же хотелось замолчать и ему подчиниться. Взгляд его был настолько тяжел, что, как я заметил, даже Юлия, даже Гракх избегали с ним встречаться глазами… Ты отводил взор. Но взгляда его не мог избежать. И он жег тебе лоб, леденил грудь, долго стоял перед глазами и снился тебе по ночам…
Особую власть Юл имел над женщинами. Но и мужчины – за исключением разве Квинтия Криспина: на этого шута вообще ничего не действовало! – почти все мужчины испытывали на себе демоническое влияние Юла Антония и ему подчинялись.
Мы уже почти дошли до гельветской деревни. Вардий вдруг остановился, схватил меня за руку и сказал:
– Ты прости меня за вчерашнее. За эти поглаживания. Я лишь хотел показать, что и ласки можно сделать… отвратительными. Мы ведь говорили о Любви к нелюбви.
И тут же, словно опомнившись, Гней Эдий воскликнул:
IX. – О Фениксе мы забыли! Я все о Юле, о Юлии… Так вот, о Фениксе. С Юлией и с ее адептами он ни разу не встретился. Он занялся тем, что через год, нет, через два, описал в своем «Лекарстве»… Я еще не давал тебе читать? «Лекарство от любви» не давал? Ну, так дам обязательно, когда мы вернемся. Он там многое описывал из своих ухищрений…
Так отправляйся же в путь, какие бы крепкие узыНи оковали тебя: дальней дорогой ступай!У него в этой антилюбовной терапии, как сказали бы греки, или в «обугливании Фаэтона», как он сам однажды выразился, три этапа было в этом действии. Первый этап – попытка убежать из Рима. Сначала он исчез из Города, не предупредив об отъезде, не сообщив, куда направляется, даже не попрощавшись со мной, своим лучшим, если не единственным другом. Недели две его не было. А когда вернулся, пришел ко мне, сел напротив и молчал, вперив в меня тот самый взгляд, который у него появился в последнее время… Я тебе уже, кажется, описывал: глаза будто ослепшие, и от этого почти безжизненное, словно маска, лицо, на котором изредка возникала едва заметная, но очень неприятная улыбка… На расспросы мои почти не отвечал. Мне лишь удалось узнать, что направился он на север, добрался чуть ли не до Медиолана, но потом повернул обратно. Уходя, сообщил, улыбнувшись слепой улыбкой: «Я, Тутик, похоже, не то выбрал направление. Нельзя мне на север. Мне надо на юг… Дней через пять поеду в Ахайю. Оттуда, наверное, на Крит. А с Крита, пожалуй, в Африку… Ты не сердись. Тебя не зову. Но непременно зайду попрощаться».
…Действительно, укатил. Но не через пять дней, а через три. И не зашел попрощаться…
Нет, покинувши Рим, не ищи утешения горюВ спутниках, в видах полей, в дальней дороге самой.Мало суметь уйти – сумей, уйдя, не вернуться,Чтоб обессилевший жар выпал холодной золой.…Путешествовал сушей, сначала на иноходце, затем на муле, у которого спину натер чемодан, а всадник вытер бока. Добрался до Брундизия, договорился с каким-то капитаном плыть на Керкиру, уплатил деньги, сел на корабль, но перед самым отплытием сошел на берег и не вернулся, оставив на борту свой багаж.
В Риме объявился месяца через полтора. Меня о своем возвращении не известил. Я его случайно встретил в садах Мецената и в первый момент не признал. Мы шли в одном направлении. Я шел сзади. И вижу: передо мной идет какой-то подросток, одетый во взрослую тогу; походка небрежна и ленива, но руками не размахивает – то есть они у него совершенно не движутся, как непременно бывает у идущего человека. Этими-то неподвижными руками я заинтересовался и, ускорив шаг, догнал шедшего впереди меня. Я принялся сзади разглядывать его вьющиеся белокурые волосы и шею, кожа которой поразила меня своей почти женственной нежностью. Он, вероятно, почувствовав на себе мой взгляд или услышав шаги за спиной, обернулся, и я увидел перед собой воистину странное лицо – с одной стороны, детское, испуганное, а с другой… трудно описать это новое выражение, появившееся у него на лице… Представь себе: он одновременно смотрел и на тебя, и как бы в глубь себя, с какой-то почти старческой мудростью и покорностью… Клянусь тебе, я не сразу догадался, что передо мной Феникс. А когда понял наконец, то у меня не возникло ни малейшего побуждения протянуть к нему руки, обнять его… Мы ведь долго не виделись!.. Нет, что-то в его взгляде сковало мои естественные чувства.
И Феникс, как мне показалось, с благодарностью оценил мою сдержанность.
Он тихо произнес, глядя на меня своим странным взглядом: «Я недавно вернулся. Но мне надо прийти в себя. Дай мне несколько дней. Я к тебе сам зайду».
И, повернувшись, пошел к сторону Лабиканской дороги.
Больше он никуда не уезжал из Рима. Похоже, «не сумел, уйдя, не вернуться», «обессилевший жар не выпал холодной золой»… Помнишь, как у Лукреция?
Ибо, хоть та далеко, кого любишь, – всегда пред тобоюПризрак ее, и в ушах звучит ее сладкое имя…С этим призраком он на первом этапе, этапе путешествий, не смог совладать. А посему перешел ко второму этапу обугливания Фаэтона.
– В своем «Лекарстве», – продолжал Вардий, – он этот этап тоже описывает.
Словно платан – виноградной лозе, словно тополь – потоку,Словно высокий тростник илу болотному рад,Так и богиня любви безделью и праздности рада:Делом займись – и тотчас делу уступит любовь.Делом он занялся у себя на вилле. Выгнав уродок-луканок и похотливую актерскую пару, о которых я тебе рассказывал (см. 3. IX), Феникс с неожиданным усердием принялся хозяйствовать: ухаживал за деревьями, подстригал кустарники, сажал яблони и груши, прививал дички, командуя и руководя своими рабами, но значительную часть работы предпочитая делать собственными руками.
Можешь своею рукой сажать над ручьями деревья,Можешь своею рукой воду в каналы вести.Если такие желанья скользнут тебе радостью в душу —Вмиг на бессильных крылах тщетный исчезнет Амур.…Я, правда, не замечал, чтобы «радость скользила к нему в душу». Но он теперь с раннего утра и до позднего вечера трудился у себя в усадьбе, деловитый, сосредоточенный, придирчивый к работникам и требовательный к себе.
На этом этапе он изредка допускал меня к себе. Но я с ним мог общаться, лишь наблюдая за его работой или в ней ему помогая. На трапезы он меня не приглашал – ну разве что наскоро перекусить между одним и другим делом под деревом или в винограднике. Ели мы, как правило, молча или обмениваясь короткими замечаниями на сугубо сельскохозяйственные темы. О Юлии, разумеется, – ни слова.
Когда начался охотничий сезон, Феникс забросил свое садоводство и переметнулся к охоте.
Хочешь – усталого пса поведи за несущимся зайцем,Хочешь – в ущельной листве ловчие сети расставь,Или же всяческий страх нагоняй на пугливых оленей,Или свали кабана, крепким пронзив острием.Ночью придет к усталому сон, а не мысль о красотке,И благодатный покой к телу целебно прильнет.…До этого он никогда охотой не увлекался. А тут обзавелся сетями и различного рода силками, разжился целой сворой собак – двумя рыжими лаконцами, тремя черными молоссами, четверкой галльских борзых и пятеркой умбрских гончаков, – свел знакомство с двумя своими соседями, заядлыми охотниками, и в их обществе часами, иногда целыми днями пропадал в лесах и горных ущельях, с удивительной быстротой освоив охотничьи приемы и навыки. Собак своих откармливал жирной сывороткой. С галльцами охотился на зайцев, с умбрцами – на ланей, с лаконцами – на оленей, с молоссами – на кабана. За какие-нибудь две недели овладел балеарской пращой и, как рассказывали, довольно ловко и точно поражал камнями ланей и коз. Оленей обкладывал кольцом пурпурных перьев и криком заводил в сети, поражая фракийскими дротами. Кабана брал на рогатину… Да, представь себе, он, худенький, изящный, по свидетельству его напарников, несколько раз один на один вступал в смертельную схватку со свирепым альбанским вепрем! Говорят, на это было страшно смотреть и некоторые из загонщиков даже отворачивались, когда огромный кабан кидался на хрупкого Феникса. Но тот с восхитительным бесстрашием, с поразительным спокойствием, с удивительной быстротой и точностью выставлял рогатину, и вепрь на нее натыкался, своим свирепым натиском сам себя поднимая на воздух, своей безумной яростью себя умерщвляя. А Феникс бестрепетно смотрел на агонизирующее чудовище и улыбался ему своей детски-виноватой и старчески-мудрой улыбкой…
Гней Эдий Вардий ненадолго замолчал и продолжал:
– Третий этап обугливания можно охарактеризовать, пожалуй, такими стихами из «Лекарства»:
Только не будь одинок: одиночество вредно влюбленным!Не убегай от людей – с ними спасенье твое.Так как в укромных местах безумнее буйствуют страсти,Прочь из укромных мест в людные толпы ступай.…Догадываюсь, что, как на первом, так и на втором этапе – во время сельских работ, во время охоты – страсти «безумно буйствовали» в душе несчастного Феникса. И потому он в конце консульства Гая Цезаря покинул «укромное место» и шагнул в «людные толпы». То есть перестал уединяться у себя на вилле и стал общаться с друзьями, быстро восстановив отношения почти со всеми своими старыми и новыми приятелями.
Из школьных – с Корнелием Севером, отец которого Кассий Север в консульство Цензорина за «бесстыдные писания» был сослан сенатом на остров Крит; Корнелий же, несмотря на это семейное несчастье, отличался примерным поведением, продвинулся по служебной лестнице, последовательно занимая должности квестора, эдила, претора и пропретора в одной из отдаленных провинций, снискал одобрение Августа за свою поэму о Сицилийской войне, а ныне трудился над стихотворной историей Рима. А также – с Руфином, с которым когда-то служил. А также – с Педоном Альбинованом, отличавшимся, как я уже тебе рассказывал, редкостным безразличием к женскому полу, с юношеских лет увлекшимся философией, в совершенстве изучившим стоиков и ныне погрузившимся в учение древнего Пифагора и его греческих и латинских последователей… Даже с Помпеем Макром, нашим школьным товарищем, Феникс восстановил дружескую связь; Макр наконец-то простил ему свою сестру Меланию, которая, кстати сказать, уже давно и счастливо вышла замуж, а сам Макр теперь руководил многочисленными переписчиками в Палатинской библиотеке, недавно основанной великим Августом.
Из более поздних друзей Феникс встречался с оратором Брутом, с юристом и оратором Флакком, младшим братом Помпония Грецина, с ритором, астрономом и поэтом Публием Саланом, нанятым учителем и воспитателем к юному Германику, сыну Друза Старшего и Антонии Младшей.
Но намного чаще, чем с этими зрелыми мужами – старшими среди них были Макр и Салан, отпраздновавшие сорокалетие (мы с Фениксом были на два года моложе), – чаще, чем с ними, Феникс общался с теми, кого вполне еще можно было назвать молодежью, а именно: с Аттиком, с Цельсом, с Каром и с Коттой. И не потому, что Феникс выказывал им предпочтение – он никого из своих друзей теперь не выделял, даже меня, своего «верного Тутика», – нет, это они на Феникса прямо-таки набросились, едва он вышел из своего домашнего затворничества и стал появляться на людях: чуть ли не каждое утро, как ревностные клиенты, являлись приветствовать его на вилле, зазывали к себе на пиры, предлагали прогулки ближние и дальние. Исключение составлял, разве что Цельс Альбинован, который, как я упоминал, обучался медицине у Музы Антония и посему часто оказывался занят; но при первой же возможности присоединялся к своим товарищам, крутившимся вокруг Феникса. Аттик же и Котта располагали почти неограниченным досугом. Котта, сын, как ты должен помнить, прославленного Марка Валерия Мессалы Корвина и брат стремительно делавшего карьеру Мессалина, Котта тогда только что вернулся из Афин, где под руководством греков-академиков завершил свое ораторское образование, но в Риме не получил еще должности, так как было ему в ту пору… дай-ка сообразить… года двадцать два, не более. А Аттик, приблизившийся уже к тридцатилетию, с отъездом Тиберия, с которым он несколько лет продуктивно сотрудничал, составляя ему речи и выполняя многие другие разнообразные поручения, среди них весьма ответственные и деликатные, с отъездом, говорю, своего покровителя не то чтобы оказался не у дел, а по собственной воле от всяческих дел отстранился, отвергая нередко весьма прибыльные дела и крайне заманчивые должностные предложения, в том числе одну милостивую просьбу Августа отклонив якобы по состоянию здоровья.
Что же касается Кара, начинающего поэта…
Гней Эдий Вардий опять замолчал, прервав мысль. А потом:
– Феникс теперь никогда не был один, с утра и до вечера его окружали друзья и приятели. К тем, кого я перечислил, можно добавить еще с десяток поэтов и, конечно же, старого Мессалу и Фабия Максима, ближайшего соратника великого Августа, занятого с утра и до вечера государственными делами, но в минуты досуга приглашавшего к себе Феникса на завтраки и на обеды… Лишь с Юлом Антонием и с Секстом Помпеем Феникс решительно избегал встреч. Говорю решительно, потому что однажды, когда на пиру у Валерия Мессалы появился Юл Антоний, Феникс тут же покинул застолье, дожевывая кусок мяса в прихожей, а потом выплюнув его в сточную канаву при выходе из дома, и мне пришлось за него извиняться перед удивленным хозяином и, как мне показалось, обиженной его женой, престарелой Кальпурнией. И почти так же повел он себя, когда к нашей прогулочной компании в Помпеевых садах неожиданно присоединился повстречавшийся нам по дороге Секст Помпей с Криспином или с каким-то другим Юлиным адептом… сейчас уж не вспомню… Феникс в этот момент беседовал с Саланом об Аркте Ликаона и о Киносуре, то есть о том, что мы называем Большой и Малой Медведицей. И Салан доказывал, что по Малой Медведице удобнее ориентироваться на море во время плавания, что самые древние и самые искусные мореплаватели, финикийцы, именно по ней ориентировались, а Феникс не то чтобы возражал, а уточнял, что древнее не всегда значит лучшее, что греки и римляне, наверное, не случайно предпочитают Большую Медведицу. Так вот, заметив, что Секст Помпей со своим спутником пристал к нашей компании и, приветствуя ее членов, подбирается к нему, к Фениксу, Феникс вдруг спросил Публия Салана: «А ты знаешь, как переводится “Киносура”?» – «Конечно, знаю: “Собачий хвост”, – ответил тот. «Так тебе нравятся собачьи хвосты?» – снова спросил Феникс и посмотрел в сторону Секста Помпея. Салан удивился вопросу и тоже посмотрел на приближавшегося к ним Помпея. А когда повернулся к Фениксу, того уже и след простыл – он словно растворился в близлежащем кустарнике. И к нашей компании уже больше не вернулся.
– Он непривычно себя вел, для прежнего Феникса или Голубка, – продолжал Эдий Вардий. – Он, например, мог прийти в компанию и там молчать, час, два, три часа, иногда вообще не проронив ни слова. При этом молчал не демонстративно, не тягостно и не подавленно, а как-то тактично, заинтересованно и чуть ли не покровительственно для окружающих, так что никому не хотелось прерывать этого его вдохновляющего молчания. А когда принимался говорить, то никогда не говорил о себе, а выбирал темы, наиболее близкие его собеседникам: с Саланом беседовал об астрономии и о педагогике, с Педоном – о стоиках и пифагорейцах, с Макром – о библиотечном деле, с Цельсом – о медицине, с Коттой – о греческих учителях и об афинских достопримечательностях. Причем так поворачивал разговор, что он вскорости из диалога превращался в монолог, ибо беседовавший с ним увлекался предметом и говорил без умолку, поощряемый ласковым и внимательным молчанием Феникса.
Несколько выбивался из ряда лишь Публий Кар, двадцатипятилетний начинающий поэт, которого с Фениксом свел его друг Котта Максим. Кар не желал говорить и рассказывать. Он хотел слушать Феникса. Он страстно желал, чтобы Феникс читал ему свои стихи и на их примере обучал его любовной поэзии. Феникс первое время пытался избегать Кара. Но Кара избежать было невозможно: в сопровождении Котты, к которому Феникс, как мы с тобой помним, издавна испытывал самые нежные чувства, Кар являлся в любое застолье, в любую компанию, в которых в это время Феникс находился, и, горячо поддерживаемый своим другом Коттой, начинал выпрашивать, вымаливать, вытребовать. Когда Кар его окончательно донимал, Феникс отводил его в сторонку и давал ему «уроки поэзии», иногда краткие, порой продолжительные, разбирая с Публием, однако, не свои любовные элегии, а чужие стихи.
Они, говорю, уединялись. Но я один раз подслушал. Феникс разбирал с Каром оду Катулла. Вот эту:
Долгую трудно любовь пресечь внезапным разрывом,Трудно, поистине так, – все же решись наконец!В этом спасенье твое, решись, собери свою волю,Одолевай свою страсть, хватит сил или нет.…Ну и так далее… Феникс каждое слово рассматривал, словно вынимал, пробовал на зубок и возвращал на его место в строке, доказывая, что слово это незаменимо никаким другим, что только его можно было поставить, дабы выразить чувство и произвести то неповторимое впечатление на слушателя, которое, дескать, только великому Катуллу под силу. А Кар растерянно слушал Феникса, а потом воскликнул: «Но это же не про любовь стихи! Это про…» Феникс не дал ему договорить. «Именно про любовь. Про высшую ее стадию, – спокойно возразил Феникс и прибавил: – Ты научись сначала подбирать нужные слова, сочетать их с размером, пусть сухо, но точно. Потом, когда научишься и начнешь описывать живые мятущиеся чувства, эта сухая точность тебе пригодится. Сам будешь чернеть и страдать, а стихи твои будут радоваться и искриться»… Феникс весело рассмеялся. При этом глаза его…
– Вот это теперь в нем особенно поражало! – воскликнул вдруг Вардий. – Глаза его! Я тебе уже докладывал: в них удивительным образом сочетались детская удивленная открытость со старческой грустной мудростью. Такими у него были глаза, когда он молчал. А когда начинал говорить, особенно когда его спрашивали и заставляли отвечать или когда надо было реагировать на чьи-то замечания, шутки и выходки, особенно когда надо было смеяться и он смеялся! – глаза его сразу теряли прежнее выражение, будто слепли… Трудно описать этот взгляд, который, собственно, и взглядом нельзя назвать, потому что глаза неживые… Представь себе смеющегося человека с окаменелым взглядом. В этом взгляде было… как бы это точнее выразить?., в нем было нечто не просто обгоревшее, а совершенно сожженное и от этого остекленевшее… Не только я – многие из его друзей и приятелей чувствовали, что Феникса лучше не трогать, не заставлять говорить. Не чувствовал только Публий Кар и приставал со своей любовной поэзией. И я сейчас думаю, может быть, именно он…
Гней Эдий замолчал и остановился.
До гельветской деревни нам теперь оставалось несколько шагов. И шедшие впереди нас охранники-германцы мешкали у деревенской ограды, по-видимому, ожидая приказа, вступать на территорию селения или не вступать.
Не глядя на них и на меня не глядя, Вардий, пребывая в задумчивости, сначала несколько раз молча покачал головой, затем брезгливо усмехнулся, а потом сказал: