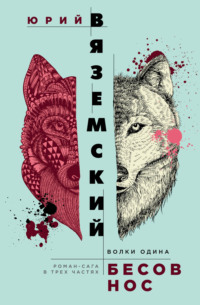Полная версия
Весна страстей наших. Книга 2. Бедный попугай. Сладкие весенние баккуроты
«Говорю: не было никакой маски, – тихо ответил мне Феникс. – Он любит, как я люблю. Ведь только по-настоящему любящий человек может понять, что истинная любовь требует мудрости и милосердия. Он когда-то видел такую любовь, он к ней прикоснулся. А теперь мучительно ищет, потому что ни в ком не может найти».
Тут я не выдержал и почти закричал: «Ищет любви?! Опомнись! Ложь и ненависть – вот его цель! Он ненавидит великого человека и лжет про него! Август не убивал Марка Антония – тот сам покончил с собой. Август не отдавал команды отравить Фульвию – никогда я в этот бред не поверю!.. Не знаю, как там на самом деле произошло с Антиллом, но думаю, что и здесь сочинил и солгал!.. Ведь его, Юла, другого сына своего злейшего врага, Август приютил в своем доме, вскормил, воспитал, пригрел у себя на груди!.. А этот змееныш, похоже, уже тогда, в своем детстве, возненавидел своих благодетелей… Ладно! Допустим, что Августа ему есть за что ненавидеть! Но согласись: человека, который от убийцы своих родителей принимает звания и чины, ненавидит, но женится по его приказу, жаждет отомстить, но кланяется и приветствует в толпе клиентов и слуг, во всеуслышание желает радоваться и здравствовать, а в глубине души или в укромном местечке, на всякий случай по-гречески, обличает и проклинает… – такого человека трудно назвать чутким и любящим, как ты его называешь!»
«Да, трудно, – с быстрой покорностью согласился со мной Феникс. – Но, понимаешь, таких, как он… и моя Госпожа… их нельзя унижать. Они слишком гордые, слишком больно от этого страдают… Тебе не кажется?»
«Мне другое кажется! – вскричал я. – Нет, я теперь уже не сомневаюсь, что Юл уже давно настраивает тебя против Августа, против Ливии, против Тиберия. Хуже того, он тебя подставляет! Он прячется за твою спину и из-за нее наносит удары своим врагам, но так, чтобы люди считали, что это ты соблазняешь Юлию, ты клевещешь на Тиберия, ты сеешь раздор в семье императора… Ты нужен ему как прикрытие, как наживка. Он строит из себя твоего друга. А на самом деле, если не презирает тебя, то наверняка считает человеком наивным и слабым, которого так легко обмануть, затащить в самую глупую ловушку. Любимую женщину можно у него отнять, у него на глазах подло и нагло…»
Я запнулся, почувствовав, что в своей запальчивости, в давнишнем желании открыть глаза любимому другу я зашел за черту, которую нельзя было преступать…Я с ужасом посмотрел на Феникса. Я все что угодно ожидал от него.
Но он молчал и смотрел на меня, как смотрит мужчина на женщину, которая устроила ему сцену ревности: он-то уверен в своей невиновности, а она кипятится, ругается, оскорбляет.
«Тутик, – ласково произнес он. – Я знаю, чего ты от меня хочешь. Но Юла я не оставлю. Я не знал, что он так несчастен. Я его не предам. Не брошу в его беде. Мы с ним, как Еврипид говорит, средь рынка в одной колодке сидим… Юл прав: из нас вынули сердце, стерли в нас память. У нас все забрали, оставив нам одну Госпожу. Юлу, может быть, и вправду – для ненависти и для мести. А мне… Я очень надеюсь, что Юл у меня эту ненависть заберет. Когда я ее ненавижу, я ее, оказывается, еще сильнее люблю… Больше всего на свете я сейчас хочу не любить — никого и никогда! Ты понимаешь, о чем я?.. Как жрец Кибелы оскопляет себя, посвящая Великой Матери. Мне надо взять нож и отрезать, а рану прижечь. В душе, не в теле!.. Я постараюсь любить нелюбовь… А ты меня не ругай больше. Ты меня постарайся понять, как всегда понимал… И не бойся: никто меня не обманет и не подставит. Если я полюблю нелюбовь, я стану, как бог, для всех недоступным…»
Он очень сбивчиво и сумбурно описывал эту новую стадию фаэтонизма, к которой теперь приближался.
IX. Тут Вардий ко мне наклонился и принялся разглядывать мои волосы. И говорил тихо и вкрадчиво:
– Такова была теория. А вот какова практика: он, до этого целомудренный, как весталка, стал чуть ли не ежедневно ходить к заработчицам. Причем выбирал самые грязные и дешевые притоны, а в этих притонах, как мне доносили, – самых уродливых с виду и вульгарных повадками шлюх. Что он с ними творил, я его не расспрашивал. Но несколько лет спустя, когда он за несколько дней написал свои «Лекарства», я там обнаружил и теперь предлагаю нам в объяснение. Ну, скажем:
Стыдно сказать, но скажу: выбирай такие объятья,Чтобы сильнее всего женский коверкали вид.Или вот, например:
Зоркий взгляд обрати на все, что претит в ее теле,И, заприметив, уже не выпускай из ума.Говоря это, Вардий начал гладить меня по голове: легкими, ласковыми прикосновениями. И продолжал:
– Я его как-то спросил, – продолжал Вардий: – «Ты, который имел и имеешь столько чистых поклонниц, зачем тебе эти грязные лоханки?» – А он: «С ними легче себя выхолащивать. И, когда им заплатишь, они тут же уходят… Но ты прав. Этот путь слишком прост». Так ответил мне Феникс. И знаешь, что выдумал? Он поселил у себя на вилле двух каких-то вольноотпущенниц, то ли самниток, то ли луканок, а к ним скоро прибавил актерскую пару, мужа с женой, каких-то южных калабров, у которых, что называется, «все время чешется»… Этих калабров он разместил у себя в атрии, установив для них широкое ложе, на котором они в любое время суток занимались любовью, всему дому на обозрение. А квочек-луканок он заставлял… Позволь, я опять процитирую:
Коли ей отказала в каком-то уменьеМатерь-природа, – проси это уменье явить.Пусть она песню споет, коли нет у ней голоса в горле.Пусть она в пляску пойдет, если не гнется рука;Выговор слыша дурной, говори с нею чаще и чаще…Так вот, он одну заставлял петь и даже плясать. А с другой беспрестанно заговаривал, хотя бедная от природы была косноязычной, зубы выпирали, глаза слезились…Часто бывая на вилле у Феникса, я имел удовольствие созерцать эти мерзости. Если мы были в триклинии, одна из луканок непременно выла в такт нашей беседе. Если мы уходили в экседру, там нас встречала вторая самнитка, которой мой друг беспрестанно задавал вопросы, дабы она еще сильнее торчала зубами и краснела глазами. А в атрии в это время пыхтели и работали друг над другом артисты-калабры.
Гней Эдий левой рукой распустил на мне пояс. А правая его рука скользнула мне под тунику и стала гладить мне грудь. И Вардий продолжал:
– Эдак себя терзая, опустошая, до омерзения доводя, он после этих экзекуций, часто сразу после безумства с порнами, отправлялся в Карины, к Юлии, как правило, с Юлом Антонием, но иногда, когда тот бывал занят делами, – один, изможденный, истасканный, с потухшим взглядом, с пересохшими губами, часто нетрезвый, неряшливый, всклокоченный, тщедушный, вялый, размякший…
Нанизывая эти многочисленные определения друг на друга, Вардий не переставал меня гладить. Рука его с моей груди перебралась мне на живот, с живота…
Я не выдержал. Я схватил его руку и резко вытащил у себя из-под туники. Прямо-таки выбросил наружу!
Гней Эдий тут же от меня отпрянул и довольно испуганно воскликнул:
– Юлия никогда ему не отказывала! Всегда впускала в дом, в каком бы виде он ни являлся… Думаю, он таращился на нее так, как ты сейчас на меня вылупился. Может быть, раздевал взглядом и сравнивал со своими шлюхами. Может быть, на разные лады вспоминал те унижения, которым она его подвергала… Не знаю. Он мне о своих посещениях не рассказывал. Но в «Лекарстве» мне вспоминаются такие стихи:
Стало быть, вот мой совет: приводи себе чаще на памятьВсе, что девица твоя сделала злого тебе…Это тверди про себя – и озлобятся все твои чувства,Это тверди – и взрастет в сердце твоем неприязнь…– И представь себе! – уже без всякого испуга воскликнул Вардий. – При всем при том у него начались чуть ли не любовные отношения с Юлом Антонием! Он и Гракха, Юлиного прежнего любовника, как ты помнишь, боготворил. Но с Юлом было иное. Феникс чуть ли не каждое утро отправлялся его приветствовать, проделывая на рассвете довольно большой путь от своей виллы до города и почти через весь город – Юл жил между Большим цирком и восточным склоном Авентина. Он, Феникс, маленький и изящный, тянулся к этому суровому великану, как девушка тянется к своему возлюбленному: говоря с ним, норовил к нему прикоснуться – будто случайно дотронуться до его руки, или погладить его по спине, якобы расправляя складки одежды.
Тут Вардий опять ко мне потянулся, словно хотел наглядно продемонстрировать, как Феникс обхаживал Юла Антония.
Я вскочил с ложа и заявил:
– Спасибо за угощение… Мне пора… Я обещал… – Я никак не мог придумать, что и кому я обещал, и поэтому еще решительнее прибавил: – Мне давно пора! Меня ждут!
Эдий Вардий ничуть не удивился моему порыву. Он усмехнулся, лукаво мне подмигнул, одобрительно кивнул головой и ответил:
– А ведь и правда – пора. Мы с тобой заболтались. Как-нибудь в другой раз расскажу, чем дело закончилось.
Уходя от Гнея Эдия, я пообещал себе, что больше к нему не приду. Рассказы его мне были весьма интересны. Но поглаживания его мне совсем не понравились. Они возбудили во мне какое-то гадкое и липкое чувство.
Амория 4
Обуглился
И что ты думаешь! Я едва успел прийти домой, как к нам во двор явился один из посыльных рабов Вардия, который объявил мне, что Гней Эдий приглашает меня этим же вечером у него отобедать.
Я, помнится, сказал, что занят, чем очень удивил раба, который заметил: какие могут быть дела у юноши, когда его призывает к себе столь уважаемый господин?
Тогда я сослался на нездоровье. И раб еще искреннее удивился: только что был здоров и вдруг – на тебе, заболел!
Не зная, какую еще выдвинуть причину, я заявил, что сделаю все возможное, чтобы к вечеру быть у Вардия, однако не обещаю. «Никто от тебя обещаний не требует, – снисходительно улыбнулся мне раб и сурово прибавил: – Надо просто прийти вечером. Это понятно?»
Я сказал, что понятно. И раб ушел.
Вечером я вышел из дома и отправился гулять по окрестностям, специально – в противоположную сторону от Вардиевой виллы, на юг, по дороге вдоль озера; благо, ярко светила луна, и мне не потребовалось ни факела, ни фонаря.
На следующее утро я пошел в школу. Не более часа там отсидел, как вдруг в класс без всякого предупреждения вошел Гней Эдий Вардий. Ученики повскакали со скамеек, Манций-учитель как птица вспорхнул-взлетел с кафедры и, подлетев к благодетелю, зачирикал и затрепетал крылышками. А Гней Эдий, непривычно для него хмурый и чуть ли не злой, ткнул пальцем в мою сторону и процедил:
– Вот этого забираю. Раз он сидит у тебя, значит, здоров.
– Конечно, забирай. Конечно, здоров, – в ответ лепетал-щебетал услужливый Манций.
Выбора у меня, как ты видишь, не было. Откажись я следовать за Вардием… Высекли? Нет, физические наказания у нас в школе не применялись. Но выставить из школы запросто могли, даже без специального на то указания.
Я стал собирать свои вещи. Но мне было велено: оставь, тебе принесут.
…Едва мы вышли на улицу, Гней Эдий тут же поменял выражение лица: с грозного на приветливое и улыбчивое. Ни словом не обмолвившись о вчерашнем обеде, на который я не явился, он, однако, мне заявил:
– Говорят, ты любишь гулять по берегу озера. Позволь мне составить тебе компанию. Сейчас, правда, не вечер. Но мы пойдем в другую сторону. Не на юг, а на север.
…Стало быть, накануне за мной следили.
Мы спустились к Леману, и отправились по тропинке, ведущей к дальнему мысу, к гельветской деревне.
Во время нашей прогулки никто нам не попался навстречу. И вот почему: впереди, на приличном от нас отдалении, шли два рослых германца или северных галла, носильщики и прогулочные рабы Вардия, которые, как я несколько раз заметил, заставляли встречных прохожих – не только бесправных гельветов, но и законнорожденных римлян – сворачивать с тропы и стороной обходить нас. И еще два галло-германца – или фракийца, или гета, я тогда плохо в них разбирался – на том же большом расстоянии шли позади нас…Ну прямо-таки ликторы! Хотя без секир и без фасций. А мы с Вардием, будто римские консулы, шествовали берегом варварского Лемана!
Представляешь себе зрелище? Замечу, что ни разу, ни до, ни после этого случая, Гней Эдий так прямо и бесцеремонно не демонстрировал мне свою власть и свое положение в городе. Думаю, что встреться нам на пути дуумвиры, их бы тоже попросили посторониться и не мешать нашей прогулке… Впрочем, они нам, по счастью, не встретились.
I. Вардий начал без предисловия:
– Феникс, который, можно сказать, прилип к Юлу Антонию, вдруг совершенно неожиданно с ним расстался: не заходил ни к нему, ни к Юлии и прятался от Антония, когда тот пытался его разыскать. Слуги объявляли Юлу, что хозяина нет дома. Несколько раз наткнувшись на подобный отказ, Антоний разгневался и, ударив привратника, сбив с ног номенклатора, самовольно проник на виллу. Так Феникс – ты представляешь? – спрятался от него в сундуке, в котором хранилась одежда!.. Он мне сам об этом рассказывал.
Но когда я поинтересовался, что же случилось между бывшими близкими друзьями, Феникс сказал: «Запомни. У меня только один близкий друг – это ты!» Причем о том, как, заслышав возню в прихожей и в атриуме, он бросился в кладовую, залез в платяной сундук, прикрыл за собой крышку и долго, «свернувшись драконом» – так он выразился, – лежал, затаив дыхание и прислушиваясь, как Юл мечется по вилле, бранит слуг и призывает хозяина, – об этом Феникс рассказывал мне подробно и оживленно. А о том, что я теперь единственный его близкий друг, сказал коротко и злобно, глянув на меня так, будто я ему… злейший враг.
Одним словом, не только ушел от ответа, но разом отбил у меня охоту задавать дополнительные вопросы на эту тему.
Это случилось в феврале двенадцатого консульства Августа, то есть на следующий год после отъезда Тиберия на Родос.
II. – А в марте с открытием навигации, – продолжал Вардий, – в Рим после долгого отсутствия возвратился Семпроний Гракх, бывший, как ты помнишь, любовником Юлии и уехавший из Города вскорости после того, как та вышла замуж за Тиберия Клавдия. Он, Гракх, говорят, путешествовал, как странствовал Платон или некоторые другие греческие мудрецы. Год или два с разрешения Августа провел в Египте. Затем отправился в Сирию. Из Сирии – чуть ли не в Вавилон, далеко за пределы Империи. На обратном пути подолгу гостил в Эфесе, на Самосе, на Родосе, в Афинах и в Коринфе. Никаких должностей при этом не занимал, поручений – по крайней мере официальных – не выполнял, а путешествовал за свой счет и для собственного удовольствия, встречаясь с местными жрецами и гадателями, беседуя с философами, посещая выступления греческих ораторов и, как я догадываюсь, попутно еще более совершенствуя свое любовное мастерство, обогащая его экзотическими – в первую очередь египетскими, сирийскими, вавилонскими, персидскими – приемами эротики.
Его многочисленные клиенты и поклонники – молодые мужчины и женщины разного возраста – так долго ожидали его возвращения и так по нему соскучились – ведь Гракха почти шесть лет не было в Италии! – что многие из них отправились встречать Семпрония не в Остию, а в Брундизий, будто он с легионом возвращался из победоносного военного похода. В Риме же приветственные обеды были расписаны почти на месяц вперед, причем люди заранее бросали жребий, кто будет первым принимать у себя Гракха, кто – вторым, а кто – шестнадцатым или двадцатым.
Но очередность эта в последний момент была грубо нарушена. В Остии – Гракх, пересеча полуостров, из Неаполя плыл морем, – в Остии, бесцеремонно оттеснив встречавших, на корабль первым поднялся Юл Антоний и объявил Семпронию, что Юлия приглашает его на пир, а прочие, дескать, подождут.
Прочие, конечно же, негодовали. Но Гракха усадили в экипаж Антония и увезли в Рим. И целую неделю не отпускали от себя. Первый торжественный обед был устроен в доме Тиберия. Второй – в доме Антония и Марцеллы Младшей. Третий – в доме Луция Домиция Агенобарба и Антонии Старшей. Четвертый – в доме Антонии Младшей, вдовы Друза и матери Германика. Далее следовали Клавдий Пульхр и Корнелий Сципион.
Юлия присутствовала лишь на первом пиршестве, у себя дома. А далее Гракха взял под крыло – заезжал за ним, отбирал от осаждавших его дом друзей и поклонниц, привозил на обеды, первым провозглашал хвалебные тосты, более других расспрашивал о путевых наблюдениях и впечатлениях, – все это делал Юл Антоний. Чем вызвал искреннее удивление у многих людей и прежде всего – у самого Семпрония Гракха, ибо до сей поры Юл никогда не проявлял к Гракху особого расположения, скорее наоборот – пренебрегал его обществом, позволяя в адрес Семпрония едкие замечания. А тут вдруг такая прыть, такое внимание, такая увлеченная симпатия! Он, презительный и холодный Юл Антоний, прямо-таки излучал теперь тепло и радушие!.. Но только в направлении Гракха – с другими по-прежнему был резок и бесцеремонен.
И, странное дело, Гракх, такой утонченный, такой деликатно-ироничный, такой подозрительно-предупредительный ко всякого рода избыточным демонстрациям чувств, особенно со стороны мужчин, он, Гракх-Силен, Семпроний-Сфинкс, как его иногда называли, весьма охотно принял ухаживания со стороны Юла Антония, сумрачного циника, казалось, на весь мир обиженного Геркулеса. Они не то чтобы сошлись и стали дружить, но через месяц всюду, где появлялся Гракх со своей свитой, с ним рядом оказывался Юл Антоний, эту свиту рассекая и отодвигая, дабы завладеть Семпронием, увлечь его вперед во время прогулки, его одного пригласить на обед к себе или к Юлии; и Гракх с ним уединялся, принимал приглашения, покидая своих прежних спутников.
III. – А еще через месяц, – продолжал Вардий, – по городу поползли слухи. Сначала утверждали, что где-то в районе Субурры Юл арендовал домик со специально оборудованным потайным кабинетом, из которого через несколько просверленных в стене дырок можно наблюдать за тем, что происходит в соседней спальне. В кабинете якобы располагаются Юл и Юлия, а в спальню Гракх приводит своих любовниц и на глазах у тайных зрителей демонстрирует свое любовное искусство, заранее оговорив, какой именно вид «представления» будет даваться: египетский, или арабский, или лидийский. Некоторые уточняли, что в качестве партнерш для Гракха иногда использовались женщины из Юлиного окружения: Феба, или Полла Аргентария, или Аргория Максимилла.
Потом стали нашептывать, что дело, дескать, не ограничивается демонстрациями, что Юлия в разгар «представления» покидает потайной кабинет и, явившись в спальню, так сказать, «поднимается на сцену», дабы самой испробовать и отведать по-египетски и по-арабски. Сначала она «сотрудничает» с другими «хористками» и всеми ими, словно корифей хора, «дирижирует». А позже, в том, что греки в комедиях называют «агоном», «хор» удаляется, на «постельной орхестре» остаются Гракх и Юлия, и им на помощь из укрытия спешит Юл Антоний. И с Гракхом Юлия исполняет медленный и плавный лидийский танец, а с Юлом – огненную, неистовую фракийскую пляску. Иногда «танец» и «пляска» совершаются отдельно: долго, до чувственного опустошения тянется лидийский танец, а следом за ним, словно взрыв или каскад взрывов, устраивается фракийский припляс, быстрый, но многократный и неутомимо-неиссякаемый.
– Повторяю, то были слухи, – подчеркнул Вардий. – И я им долгое время не верил, так как они исходили из двух очень далеких от Юлии и Юла источников. Две бывшие Грахковы воздыхательницы их распространяли. Но, во-первых, постоянно путались в деталях. Во-вторых, я сразу же понял, что сами они в этих любовных оргиях не участвовали… К тому же, как я тебе признавался, у меня было несколько осведомителей среди Юлиных адептов, и те в ответ на мои осторожные прощупывания единодушно показывали, что слыхом не слыхивали о каком-то секретном доме в Субурре, что Юлия часто бывает в обществе Гракха и Юла Антония, но никогда с ними не уединяется.
Я решил – грязная клевета. И стал вычислять: кто эту пакость про Юлию сочиняет, кто может быть в ней заинтересован? Я так увлекся своими розысками, что однажды не удержался и поделился с Фениксом: дескать, никак не могу определить автора слухов.
«А что за слухи?» – спросил тот.
Я в общих чертах пересказал, разумеется, опуская скабрезные подробности.
«Понятно», – невозмутимо ответил мой друг.
«Что тебе понятно?» – удивился я.
«Он дождался Гракха и пригласил его вместо меня».
Тут я вообще перестал что-либо понимать. А Феникс: «Помнишь, ты спрашивал, почему я прекратил встречаться с Юлом Антонием? Потому что однажды он предложил мне… он предложил вместе с ним… он грубое слово использовал, которое я не могу повторить… Я не успел ударить его, потому что он тут же сообщил мне, что это желание Юлии, что она просила Юла Антония мне передать эту просьбу. При этом она велела напомнить, что когда-то я все ее просьбы обещал исполнять».
– Обрати внимание, юноша: Феникс назвал ее «Юлией», а не «Госпожой»! – заметил Гней Эдий и продолжал:
– Когда Феникс мне в этом признался, я воскликнул: «И ты ему поверил?! Этому лжецу и провокатору!»
Феникс смотрел на меня… К этому времени у него стало появляться выражение лица, ранее ему несвойственное. У него будто слепли глаза: стекленели зрачки, выцветала вокруг радужная оболочка, взгляд устремлялся куда-то в сторону, мимо тебя и наверх, а лицо превращалось как бы в гипсовую маску. На этом ослепшем лице ничего нельзя было прочесть. И, глядя на него, становилось не по себе – особенно когда посреди этой безжизненности вдруг на тонких губах появлялась едва заметная улыбка, похожая на оскал.
Этакое лицо он повернул в мою сторону и произнес без всякого выражения в голосе: «Не кричи. Почему я должен не верить? Это в ее характере. Юл груб и напорист. Ей потребовался нежный и бережный любовник. Я отказался. Тогда они дождались Гракха и пригласили вместо меня. Гракх может любить и вдвоем, и втроем. Гракх согласился».
IV. Эдий Вардий некоторое время шел молча. Потом продолжал:
– И все-таки не берусь утверждать, что Юлия уже тогда, через год после отъезда Тиберия, так низко пала. В любом случае у слухов, которые бродили по городу, не было никаких зримых оснований. Ведь повторяю: Юлия постоянно была в окружении своих адептов. Никто, даже самые близкие к ней люди, ни разу не видели ее в обществе только Гракха или только Юла Антония. Гракх же и Юл старались держаться несколько в стороне, как правило, в окружении своих собственных почитателей.
– Ибо со второй половины года, – продолжал Вардий, – число Юлиных адептов заметно возросло. Образовались как бы три группы различного рода людей. Первую составила молодежь, примерно с десяток развязных щеголей из патрицианского и всаднического сословий, которые держались, как правило, Семпрония Гракха, а когда тот в компании отсутствовал, крутились возле шутника и балагура Квинтия Криспина, подыгрывая ему и подражая. Вторую группу образовывали люди достаточно зрелые и в большинстве своем сумрачные видом, всадники главным образом и должностью не выше квестора, хотя двое из них были сенаторами, а один когда-то был претором; они тяготели к Корнелию Сципиону, который ими не то чтобы верховодил, но часто собирал их вокруг себя долгими рассказами о своих великих предках и горькими сетованиями по поводу канувших в Лету «старых добрых времен».
Третья группа, центром которой стал Юл Антоний, составилась из людей, как греки говорят, «разноцветных». Тут был, например, Луций Авдасий, всадник, публикан и коммандитор – один из крупнейших римских богатеев, но человек очень слабого здоровья. А рядом с ним – Азиний Эпикад, пышущий силой и крепкий, как пень от древнего платана, но варвар из племени парфинов, недавний раб и беднейший из вольноотпущенников. Был некто Вибий Рабирий, безродный эдил, ведавший римскими проститутками, составлявший их списки и следивший за их поведением. А под руку с Рабирием прогуливался, на пирах рядом с ним возлежал Сальвидиен Руф, именитый патриций, к тому же фламин Аполлона, возлюбленного бога великого Августа.
Групп не имели и держались особняком величавый и неприступный Клавдий Пульхр и колченогий и колчерукий Квинтий Криспин, который, накуролесив в одной компании, тут же перемещался в другую, дабы и там эдакое откаблучить и нафордыбачить… Ты знаешь такие слова?.. В латыни их не встретишь, даже в ателлане. Но в греческой комедии они когда-то часто использовались. И я их решил применить, характеризуя поведение Квинтия Криспина, как я упоминал, одного из главных моих информаторов…
Ну и несколько женщин, разумеется, прибавилось, чтобы разбавить это почти сплошь мужское сообщество. Штук пять или шесть приняли в число новых адептов. Из них одна, Домиция Марциана, была прямо-таки ослепительной красавицей, а другая, Помпония Карвилия, – пугающей уродкой, так что, глядя на нее, действительно страшно становилось. Первая, Домиция, была дочерью богатого вольноотпущенника, сколотившего свое состояние на торговле рабами! Вторая же, Помпония, Каракатица, как ее за глаза называли, – из древнего, но вконец разорившегося патрицианского рода, особенно прославившегося своими добродетельными женщинами. И двух этих новых адепток Юлия настолько к себе приблизила, что в пирах и застольях, а также в лектике на прогулках, они часто оказывались по обе стороны от нее: красавица Домиция – справа, уродка Помпония – слева. А мы ведь не греки, и левая сторона, позволю тебе напомнить, у нас считается благоприятной, а правая – опасной и зловещей.