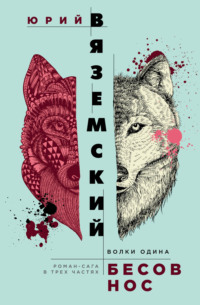Полная версия
Весна страстей наших. Книга 2. Бедный попугай. Сладкие весенние баккуроты
Я не смог договорить и в отчаянии посмотрел на Феникса.
Тот улыбался, но уже не презрительно.
«Ты, Тутик, не понял, – сказал он. – Она действительно у меня спасения искала. И, может быть, даже тогда, когда, как ты говоришь, надо мной издевалась. Потому что так жестоко пошутила над нами судьба, что любить ее могу только я, и она только меня может любить. И когда она спала сначала с одним Юлом, а потом с Юлом и с Гракхом, думаю, любила меня еще сильнее, потому что знала, что я страдаю и, значит, люблю. Но она надеялась, что я ее ненавижу… А я… Видишь, какой я теперь?»
«Я вижу, что ты окончательно спятил», – сказал я.
Улыбка на лице Феникса теперь и глупой быть перестала: только радостной и виноватой одновременно.
«Нет, это она теперь сходит с ума, – возразил Феникс. – А я… Я так долго падал в ее колеснице, что совсем обгорел. Я все понимаю, но уже ничего не чувствую».
«И она тоже наконец поняла, – продолжал Феникс. – Она вдруг перестала кричать, требовать, чтобы я ее спас, увез на край света. Она отпустила мое лицо и стала заглядывать мне в глаза. Но не так, как до этого, когда шептала или кричала. Она попыталась заглянуть мне в самую душу, как ее отец, Август, умеет. У нее почти такой же был взгляд, от которого не скроешься и не спасешься… Она долго в меня заглядывала. А поняла во мгновение. Вздрогнула – она так сильно вздрогнула, что не только руки и плечи, но и голова у нее дернулась, – и перестала меня разглядывать. То есть вынула из меня взгляд и, сморщив лицо и скривив губы, сказала: «Молчи. И не лги… Я могу тебе врать. А у тебя… у тебя не получится».
Она направилась к моему письменному столу и стала ворошить дощечки со стихами. Не найдя того, что искала, она нагнулась и одну из дощечек подняла с пола.
И стала читать стихи, медленно, хрипловато, но нараспев, после каждой фразы оборачиваясь в мою сторону и глядя не на меня, а куда-то поверх моей головы, а потом читая и снова оборачиваясь.
«Вот это откровенно, – сказала она, дочитав до конца. – И поучительно… Никогда не думала, что ты можешь так написать».
«Это Катулл. Это его стихи», – возразил я.
Но она словно не слышала и спросила: «Ты их давно написал? Или совсем недавно?»
«Говорю тебе: это одна из од Катулла, – ответил я. – Он ее написал задолго до моего рождения. Боюсь, что и Августа тогда еще не было на свете».
«Ах, вот как! – вдруг радостно и будто с надеждой воскликнула она. – Стихи не твои – Катулла! И мы с тобой еще не родились. И даже Августа не было! Прекрасное было время! В каком это было году?»
Я растерялся от такого вопроса.
«Не помню… Вернее, не знаю», – признался я.
А она подошла ко мне, обняла и уткнулась мне в грудь своей головой. Она сначала уткнулась. А потом принялась меня целовать в подбородок, в щеки, в губы и в лоб. И говорила, вроде бы подсмеиваясь надо мной, но так проникновенно, так нежно, что даже хрипы исчезли из ее голоса: «Мой бедный. Мой ласковый. Не знает. Не помнит. Все на свете забыл… Можно, напомню… Я – та самая Коринна… или как ты называешь ту женщину, которую полюбил еще в детстве, еще не встретив ее… Ты ее всю свою жизнь любил и будешь любить. Так боги решили. Не нам с ними спорить… И если с этой единственной твоей женщиной произойдет что-нибудь страшное, если злые люди ее погубят или она сама с собой что-нибудь сделает, ты себе этого никогда не простишь… Потому что это ты погубил ее, нежный мой. Ты ее не почувствовал, мой чуткий. Ты, мой смелый, ее испугался. Ты, верный и преданный, бросил и предал ее, когда она так в тебе нуждалась…»
Я стоял, словно завороженный, не смея пошевелить даже пальцем.
А Юлия, поцеловав меня напоследок в один и в другой глаз, тихо отошла от меня, вернулась к столу, задумчиво взяла с него дощечку со стихами Катулла, прижала к своей груди и направилась к двери. Но на пороге обернулась и расхохоталась, внезапно, надрывно, безумно.
«Ненавижу твоего Катулла! Он глупый и пошлый поэт!» – хрипло крикнула она и с такой силой шмякнула дощечку об пол, что та разлетелась… Она прямо-таки в крупу рассыпалась»…
Гней Эдий Вардий, похоже, опять собирался пойти-побежать в сторону города. Но, сделав одно судорожное движение, снова вернулся ко мне и сказал:
– Феникс мне все это рассказал. И я в ужасе воскликнул: «Ты сегодня к ней побежишь?»
«Нет… Зачем мне теперь бежать?.. У меня не получится», – ответил Феникс, по-прежнему улыбаясь, но теперь только виновато – без всякой радости.
Я возмутился: «Театр! Комедия! Нет, пошлая ателлана!.. И тут не могла удержаться, чтобы не устроить тебе представление!»
Феникс совсем перестал улыбаться.
Я подумал, что надо обнять его, прижать к груди, сказать ему какие-то дружеские слова. Но слов я не находил, и желания обнять его у меня не было, – может быть, потому, что я боялся его обнять.
И я спросил: «А что это была за ода?»
«Какая ода?» – Феникс как-то скучно на меня посмотрел.
«Ну, те стихи, которые Юлия сперва читала, а потом разбила». «Катуллова. Ты ее знаешь. Пятая у Тукки. И восьмая в издании Руфа». «Я их не знаю по номерам. Ты мне подскажи», – попросил я.
И Феникс: «Она начинается:
Поэт измученный, оставь свои бредни:Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым…А заканчивается:
Любимая, ответь, что ждет тебя в жизни?Кого пленишь красотой своей поздней?Кто так тебя поймет? Кто назовет милой?Кого ласкать начнешь? Кому кусать губы?А ты, поэт, терпи! Отныне будь твердым!Феникс читал монотонно и уныло. А потом пояснил: «Я эти стихи несколько раз переписывал. Пытался проникнуть в тайну их ритма. Но не нащупал, не получилось… Эти-то дощечки у меня и лежали на столе. Моих стихов среди них не было».
XII. Эдий Вардий пошел в сторону Новиодуна и больше не останавливался. И по дороге – теперь он шел медленно и для беседы удобно – он мне по дороге рассказывал о том, как некоторое время, не доверяя Фениксу, он, Вардий, следил за ним и людей посылал следить, опасаясь, чтобы тот не наделал каких-нибудь глупостей: не вернулся к Юлии, чего доброго, не поддался на ее уговоры и не убежал с ней из Рима, чтобы их сразу же хватились, розыски объявили.
Но зря Гней Эдий тревожился. Феникс из Города никуда не отлучался. Юлию ни разу не навестил, и та к нему больше не заявлялась. Феникс начал работать над второй частью своей «Науки», а первую отнес к Плоцию Тукке, решившись ее издать. Книга эта вышла в сентябре, вскоре после Римских игр, и сразу же обрела широкую популярность не только среди всадников – они давно интересовались стихами Пелигна, – но и у плебса. А после того как один очень влиятельный деятель из «первого круга» – Вардий не назвал его имени – в компании консуляров раскритиковал «Науку»: дескать, изобретательно и изящно, но в стихотворном отношении поверхностно, в нравственном плане предосудительно, а в политическом смысле несвоевременно; – после этого замечания чуть ли не все сенаторы устремились в лавки Сосиев, требуя там Фениксову поэму; и Тукка специально для этих читателей велел изготавливать свитки в кипарисных ковчегах, натертые кедровым маслом.
Как Фабий Максим отнесся к «Науке», Вардий мне не сказал. И ни словом не упомянул о реакции Августа на весь этот общественный ажиотаж. Вместо этого Гней Эдий увлекся перечислением различных форматов, в которых издавалась поэма его друга, и подробным описанием чехлов, пеналов, ларцов, сундучков, ковчегов и тех рисунков, иногда очень смелых, которыми они покрывались.
Когда же, наконец, мы дошли до Новиодуна, Вардий наскоро попрощался со мной у Северных ворот, забыв, что обещал зайти на виллу и дать мне на прочтение «Науку любви».
По-гречески пожелав мне «благого демона на остаток дня», Гней Эдий, словно спохватившись, добавил:
– Стало быть, он действительно сгорел и обуглился к Юлии. Но… – Тут мой собеседник поднял вверх указательный палец и несколько раз провел им туда-сюда перед моим носом. – Юлия еще до конца не сгорела. И скоро такой пожар устроила в Городе!..
С этими словами Вардий удалился, с четырех сторон окруженный своими охранниками, расчищавшими для него дорогу, не то чтобы грубо, но крайне непривычно для нашего городка.
II. Венера Оффенда
Амория 5
Разжигание пожара
I. «Науку любви» Феникса-Пелигна мне принесли домой на следующий день к вечеру Не в кипарисовом ларце и не в пергаментном пенале, а в обычном холщовом чехольчике, маленького формата, предназначенного для дорожного чтения.
Поэму я тут же прочел. На следующий день перечитал после школьных занятий.
Я ожидал приглашения от Вардия. Но оно не последовало ни через день, ни через несколько дней: никто не приходил за мной и не приглашал к «просветителю и благодетелю» – так мой школьный учитель Манций часто называл Гнея Эдия.
Дней через пять мне ждать надоело, и я сам отправился к нему на виллу.
Вардий меня тотчас же радостно принял и спросил укоризненно:
– Неужели тебе не любопытно, чем все закончилось?
– Любопытно и интересно, – ответил я.
– Так что же сразу не пришел?
– Мне было неудобно…
– Неудобно? – удивился Гней Эдий и сморщил свое гладкое и кругленькое личико; – так сочное пиценское яблоко морщится через полгода, если его выставить на солнце, а Вардий весь сморщился в сущее мгновение.
– Я не хотел тебя беспокоить…
– Беспокоить?! – сердито воскликнул Гней Эдий и еще сильнее сморщился. Но в следующий момент разгладил личико, просиял глазами и радостно объявил:
– Мой юный друг, ты меня никогда не беспокоишь! Клянусь удом Приапа!.. Или чем ты хочешь, чтобы я поклялся?.. Меня другие беспокоят и меня отрывают. А ты – никогда!.. Вот сейчас, например, меня беспокоят мои виноградники. И их ведь за дверь не выставишь, ждать не заставишь. Ибо они – природа и, пожалуй, лучшая ее часть! Сегодня утром, когда я их обходил, они, мои лозы, властно мне приказали: «Ты нас должен подстричь!» Я не могу их ослушаться… Но кто нам мешает во время работы вести нашу беседу?
…Нам и вправду никто не мешал. В его винограднике трудилось много работников, судя по всему, не только его собственные рабы, но и наемники. Кстати сказать, никто из них, когда Гней Эдий привел меня на вершину «Нисы» – так он называл свой покрытый виноградниками холм, может быть потому, что, как ты знаешь, Дионис детство свое провел на одноименной горе в Индии, – так я говорю: никто из работников лозы не подстригал. Разбившись на несколько групп, они в разных местах либо выравнивали и очищали канавки, либо рыхлили почву, либо подвязывали лозы, либо готовили новые «рогатки-двурожки», чтобы заменить ими старые ясеневые подпорки. И лишь два человека, по виду гельветы, готовили «зубы Сатурна», специальные серпы, но именно приготовляли: тщательно их точили, заботливо протирали какой-то травой и бережно откладывали в стороны.
Мы с Вардием расположились на самом верху «Нисы», в широком и высоком полотняном шатре – я очень похожие видел в Германии, у римских легатов. Полог шатра был раздвинут и приподнят таким образом, чтобы почти весь виноградник был в нашем поле зрения и солнце над озером нас не слепило. На низком походном столике – фрукты, сладкое печенье, кувшин с уже разбавленным вином. Один был бокал и стул был один, но Вардий крикнул, чтобы принесли еще один стул и бокал для «дорогого гостя»; и хотя непонятно было, кто его мог услышать, приказание его так быстро выполнили, что я не заметил, как это произошло.
В этом шатре с видом на виноградник и на искрящееся озеро Гней Эдий Вардий и завершил свой рассказ о Фениксе, вернее, о Юлии, дочери Августа, и о Юле Антонии.
Рассказывал он в этот раз без ораторских жестов и без присущих ему гримас и ужимок. Рассказывал спокойным, размеренным тоном, как некоторые школьные учителя излагают историю какой-нибудь войны или как на суде выступают свидетели, желающие показать себя непредвзятыми. При этом изредка пригубливал из бокала и маленькими кусочками, чтобы не забивать себе рот, откусывал от фруктов или от печений. И несколько раз, извинившись передо мной, прерывал свой рассказ, выходил из шатра и делал короткие замечания своим работникам, а вернувшись, произносил: «сколько ни учи – до конца не научишь», или «никогда сами правильно не сделают», или «глаз да глаз за ними, и так в каждом деле», и, вновь передо мной извинившись, продолжал прерванное повествование.
И вот что он мне рассказал.
II. Дальнейшее падение Юлии – или, как Вардий именовал этот процесс, «разжигание пожара» – делилось на три этапа. И в каждом этапе было по три стадии.
«Проделки» —так Гней Эдий окрестил первый этап. А первую стадию назвал забавы. Юлия к ним приступила почти сразу же после того, как в последний раз побывала у Феникса, то есть летом, в июне, в консульство Луция Цезаря и Пассиена Руфа. Как забавлялись? Ну, например:
Переодевшись в мужскую одежду – германские штаны и галльскую рубаху, чтобы удобнее было скакать на лошади, – Юлия стала сопровождать Антония на рыбалку. На рыбалку из женщин никого с собой не брала. Но с Юлией часто отправлялся на озера или на реки некто Пупилий. Этот Пупилий, во-первых, никогда не входил в число Юлиных адептов. Во-вторых, выехав вместе со всеми на рыбалку, по прибытии на место он имел обыкновение исчезать. В-третьих, именно когда исчезал Пупилий, у Юла Антония одна за другой начинали ловиться на крючок огромные рыбины, тащить которых на берег было проще простого, так как они либо очень слабо сопротивлялись, либо, вынутые из воды, вообще были, как греки говорят, «уснувшими». Через какое-то время после того, как клев прекращался и рыбаки усаживались закусывать, выпивать и играть в кости, объявлялся Пупилий, предлагая какую-нибудь смешную историю, объяснявшую его задержку в пути. С каждым разом ему все меньше и меньше верили, однако, как ни старались, не могли обнаружить его присутствия во время самой рыбалки. Он сам себя, наконец, обнаружил. Когда однажды Юл Антоний вытащил из реки не просто «уснувшую», а копченую рыбину, следом за этим уловом из речного водоворота возле коряги появился Пупилий, держа в одной руке полую тростинку, а в другой пояс в ладонь шириной, обитый свинцовыми бляхами…Пупилий, как вскорости выяснилось, был на юге Италии знаменитым ныряльщиком…
Когда в декабре начались Сатурналии, Юл и Юлия не один вечер, а три дня и три ночи подряд не покидали застолья в каринском доме, пригласив туда всех адептов, общим числом человек пятьдесят. Все были в рабских одеяниях, даже Пульхра заставили. Рабов же своих Юлия нарядила: женщин – в свои одежды, мужчин – в одежды своего мужа Тиберия, в сенаторскую тогу – истопника и в консульскую тогу – мусорщика. Извели чуть ли не месячные запасы провизии. Одних кабанов было зажарено и съедено не менее пятнадцати. И множество павлинов, журавлей, гусей, африканских цесарок, великое множество краснобородок, мурен, угрей, камбал и касперов, горы дроздов, паштетов и разных колбас. И чего никогда не было в этом доме – были приглашены мимы, шуты и фокусники; бренчали на своих инструментах субуррские кифаристки, приторно надушенные, с желтыми розами в косах, сплетенных узлом на лаконский манер; гадесские танцовщицы распевали свои скабрезные песенки и отплясывали разнузданные, похотливые танцы. И Юлия, всегда презиравшая подобные низменные развлечения, теперь с неподдельным интересом и с видимым удовольствием за ними наблюдала, повторяя за певицами особенно пошлые строки и несколько раз разражаясь внезапным, хриплым, будто припадочным хохотом, от которого у Вардия, как он сам мне признался, холодок пробегал по спине… И факелы, факелы! Их было великое множество. Они висели и блестели в разных местах и притом в таких разнообразных положениях и фигурах, что составляли ромбы, квадраты и круги.
Сатурналии в том году заканчивались на четырнадцатый день до январских календ. Пиры завершились, господа снова стали господами, а рабы – рабами; никто больше не переодевался и не играл в «Сатурновы времена». Но не Юлия и не Юл со своими адептами. На тринадцатый день до календ они так же буйно и невоздержанно в плане еды пировали в доме Юла Антония, попирая закон о роскоши, принятый в консульство Гая Фурния и Гая Юния Силана. На двенадцатый день – у Гракха. На одиннадцатый – у Луция Авдасия, на десятый – у Руфа Сальвидиена. Более того, Юлия так и осталась в платье рабыни, а Феба наряжалась в одежды своей госпожи, каждый день их меняя. В рабской одежде разгуливал и Квинтий Криспин, главный заводила на этой стадии забав.
На девятый день до январских календ после попойки у Вибия Рабирия компания отправилась гулять по ночным римским улицам, шумела возле домов горожан, вызывала хозяев и требовала, чтобы они тотчас присоединились к гуляющим. Гуляли сначала по Субурре. Некоторые хозяева действительно примыкали, другие – отшучивались и уходили спать, третьи – нервничали и ругались. Когда на следующий день, на восьмой, стали шуметь и проказничать на Целии, некоторые сонные горожане уже грозились спустить собак. Когда же на седьмой день перебрались безобразничать на Авентин, один то ли сенатор, то ли богатый всадник вызвал ночную стражу; Гракх, пользуясь своей известностью в Городе и приятельскими отношениями с Сеем Страбоном, префектом Рима, стражников отправил обратно, а перед хозяином почтительно извинился. Но в другом доме, который они принялись осаждать своими криками, рыком труб, писком свирелей, вскриками флейт и грохотом бубнов, в доме этом жил какой-то богатый чужеземец, не знавший в лицо ни консуляра Юла Антония, ни знаменитого Семпрония Гракха, ни сенатора Аппия Пульхра, ни фламина Аполлона Руфа Сальвидиена, – он вооружил палками своих многочисленных рабов и велел им разогнать дебоширов. Возникла нешуточная потасовка, в которой сильнее других пострадал Квинтий Криспин, который в этих ночных походах всегда был, как говорят военные, «на острие атаки», то есть лез вперед со своими шутками и остротами.
Намяли бока также почти всем «амиметобиям» – так Юл Антоний однажды обозвал юных щеголей, крутившихся возле Гракха и вместе с ним принятых в Юлину адептуру. Их было не менее десятка. Их можно было узнать по множеству колец, украшавших их пальцы (иногда до пятишести штук на каждом); по редкостной белизне кожи, ежедневно натираемой пемзой; по изящно причесанным и надушенным волосам, по покрытому мягкой пушистой бородкой подбородку, по длине туники и рукавов, по блеску и изяществу тоги, замечательной своей необыкновенной шириной. Они прямо-таки светились в темноте, но драться с рабами умели плохо. Вдобавок были сильно навеселе.
Юл же со своими молодчиками держался в стороне. Он, надо сказать, на этом этапе вообще старался не привлекать к себе особого внимания, словно полководец, высылая в авангард Криспина или амиметобиев. На пирах был немногословен, ел мало и почти не пил вина, сохраняя внимательную и суровую трезвость, что сильно настораживало Вардия.
Но еще сильнее настораживала его Юлия, вернее, ее дикий, внезапный, гортанный хохот, ничем внешним, вроде бы, не вызванный… Вардий сказал, что, по его представлению, подобные звуки могли издавать эриннии, змееволосые богини, когда они преследовали несчастного Ореста…
И даже когда Юлия не смеялась, молча разглядывала своих спутников или следила за их проделками, этот чудовищный смех, казалось, трепетал на ее губах.
III. В новом году, в консульство Корнелия Лентула Косса и Марка Валерия Мессалина – да, того самого Мессалина, который был старшим сыном Мессалы Корвина и братом Котты Максима, вот какую уже сделал карьеру! – в консульство Мессалина и Лентула с середины января, через несколько дней после Карменталий, началась вторая стадия первого этапа, которую Вардий именовал таким неприличным словом, что я не хочу его повторять, даже мысленно.
Юлия на день, иногда на несколько стала исчезать из дома. Сопровождала ее в этих исчезновениях только Феба, которая, естественно, тоже исчезала из поля зрения других адептов. Впрочем, их несколько раз видели в районе Марсова поля и один раз на Пинции у спуска к Фламиниевой дороге. Фебу узнали по одеянию, которое обычно носила Юлия – особенно по ее желтым брильянтам; Юлию же очень трудно было узнать, так как он скрыла свои рыжие волосы под серым капюшоном, насурьмила брови и веки, набелила лицо и губы кроваво накрасила, как какая-нибудь заработчица. Только по Фебе и догадались, что рядом с ней – Юлия. А кто же еще?
Тут мне придется сделать маленькое отступление, потому что и Вардий его сделал.
IV. На Квиринале, на краю Агриппова поля, жил некто Квинт Порций, всадник и бывший военный трибун. В шестое консульство Августа он успешно воевал в Мезии и во Фракии и из похода вернулся с богатой добычей, с десятком рабов, среди которых был десятилетний фракийский мальчишка. У него было имя, состоявшее из одних согласных: Грврд или даже Грврдн – язык сломаешь, и уважающий себя римлянин никогда не возьмется такое варварство выговаривать. Порций прозвал его Бессом, потому что он был захвачен во фракийском племени бессов.
Бесс этот скоро подрос и, хотя был невысокого роста и с виду тщедушным, однако обладал поразительными способностями. Однажды он в чем-то тяжело провинился, и хозяин решил его примерно высечь. Шесть рабов пытались поймать юношу, но он никак не давался им в руки, ловко от них увертываясь. Когда же его все-таки изловили и стали пороть, он с удивительным мужеством переносил наказание, хотя секли его не розгами, а кожаным флагеллом, правда, без шипов и костяшек. Квинт Порций, хозяин, не мог не обратить внимания на эту поразительную стойкость – Бесс не только не кричал, он даже не морщился лицом, когда его с усердием полосовали, – а также на невероятную подвижность и восхитительную увертливость, ранее проявленные юношей. Квинт велел прекратить наказание. А когда Бесс отлежался, Порций отвел его в школу Лепидов, ту, что у цирка Статилия Тавра…Квинт был большим поклонником гладиаторских боев.
Ланиста, едва глянув на фракийского юношу, попробовал отказаться. Но Порций ему возразил: «Во-первых, я его не продаю, а прошу обучить. Так что не надо считать мои деньги. Во-вторых, попробуй его на ретиария».
Уже через месяц ланиста объявил Квинту Порцию: «Ты оказался прав. Твой Бесс у меня теперь один из лучших. Я его у тебя куплю. За хорошие деньги». Квинт отказался и велел продолжать обучение.
А через полгода забрал Бесса из школы Лепидов и отправил учиться в Капую, в лучшую, как ты знаешь, из гладиаторских школ, за его, Квинта, разумеется, счет и с условием, чтобы Бесса тренировали со всей строгостью, присущей этой казарме, однако содержали в здоровом и просторном помещении, за ошибки и проступки в цепи не заковывали и, уж конечно, не бичевали, а наказывали и воспитывали другими способами.
В Капуе Бесс еще целый год учился на ретиария. А когда по окончании полного курса его хозяин собрался увезти его в Рим, Бесс стал его упрашивать: «Оставь меня здесь еще на один год». – «Зачем? Боишься настоящей арены?» – спросил Порций. «Боюсь, – отвечал Бесс. – Боюсь не оправдать твоих надежд. Мне надо освоить другие техники». – «Я уже и так на тебя много денег потратил», – сурово заметил Квинт. А Бесс в ответ: «Не жадничай, хозяин. Те деньги, которые я тебе потом принесу, с лихвой покроют твои издержки».
Квинт Порций не стал возражать. И Бесс, оставаясь в Капуе, продолжил свои тренировки, но уже не как ретиарий, а сначала как секутор, затем мирмилон, потом фракиец, самнит, провокатор, гопломах – все виды оружия перепробовал, во всех доспехах побывал, на каждую технику потратив по два месяца. Хотя с самого начала было ясно, что он именно ретиарий и словно родился с трезубцем и с сетью в руках.
Уже в первом своем настоящем бою Бесс привлек к себе симпатии зрителей. Сражались в римском театре Тавра. Устроитель игр, недолюбливавший капуанских воспитанников, так как сам имел отряд гладиаторов, которых тренировал в Пренесте, этот устроитель – Вардий не назвал его имени – выставил против Бесса опытного и мощного секутора: он был на голову выше Бесса, раза в два шире того в плечах, к тому же, несмотря на свое тяжелое вооружение, отличался стремительностью атаки и натренированной, как гладиаторы говорят, разворотливостью. Это его слишком очевидное превосходство над юным, изящным, невысоким и таким вроде бы беззащитным противником, вооруженным лишь сетью и трезубцем, сразу же не понравилось публике. С трибун полетели крики: «не честно!», «не по правилам!», «поменяйте пару!». Бесс кинулся убегать от секутора, с благодарностью глядя на трибуны, словно надеялся, что их поединок прервут и ему дадут другого противника. Но устроитель безмолвствовал, и судья велел Бессу прекратить трусливую беготню. Бесс начал сражаться с великаном. Но тот быстро и умело перерубил своим гладием древко его трезубца. Бесс оказался безоружным. К тому же, отступая и уворачиваясь от выпадов секутора, отбиваясь от противника сетью, случайно сам в ней запутался и упал на песок. Секутор занес над ним меч и посмотрел на судью. Тот в свою очередь посмотрел на устроителя. Тот, чувствуя настроение публики, потянул время, а потом поднял палец вверх, даруя жизнь поверженному. Внимание зрителей вновь вернулось на арену. И тут все увидели, что на песке теперь распластался не юноша-ретиарий, а грозный секутор, которого Бесс, воспользовавшись победными взглядами своего противника сначала на судью, потом на устроителя, затем на шумящую публику, незаметно подсек, ловко свалил, мгновенно окутал сетью, в которой сам отнюдь не запутался, и, подхватив выпавший меч, уже приставил его к горлу поверженного великана. Бесс действовал строго по правилам: он ведь не поднимал двух пальцев, не просил пощады, и, стало быть, бой продолжался, и нечего было секутору глазеть по сторонам!.. Зрители, понятное дело, взревели от восторга, когда все это увидели и осознали. И с этого дня, как говорится, стала расти, распускаться и расцветать слава Бесса, раба и гладиатора всадника Квинта Порция.