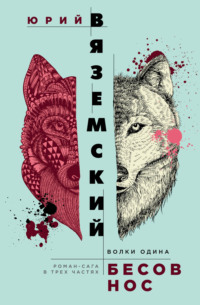Полная версия
Весна страстей наших. Книга 2. Бедный попугай. Сладкие весенние баккуроты
А муж ей в ответ: «Нехорошо. Нехорошо оставлять своих друзей. Они будут сильно без тебя тосковать».
И из кабинета отправился в спальню, заперев дверь изнутри.
На следующий день, рано утром, к Тиберию явились два легата. Им, дескать, поручено помогать Тиберию в армянском походе и командовать Шестым и Десятым легионами.
«Кто поручил?» – поинтересовался Тиберий.
«Август», – последовал ответ.
«Так вот, – сказал им муж Юлии, – ступайте к тому, кто вам поручил, и сообщите ему, что Тиберий Клавдий Нерон объявляет голодовку и не будет ни есть, ни пить до тех пор, пока к просьбе его не прислушаются».
Легаты удалились. Тиберий же заперся у себя в спальне и в течение четырех дней действительно не принимал не только пищи, но и никакой жидкости – ни вина, ни воды.
Вечером четвертого дня к нему прибыл глашатай, который сообщил, что принцепс сената и первый трибун разрешает второму трибуну взять годичный отпуск и удалиться на остров Родос.
…Рассказывали, что Ливия чуть ли не на коленях упрашивала своего великого супруга сжалиться над ее теперь единственным сыном и не дать ему погибнуть, учитывая его твердолобую решимость и непоколебимое упрямство.
Через Криспина – ты помнишь, мы с ним дружили, и он во многое меня посвящал? – через Квинтия мне удалось узнать, что на третий день Тибериевой голодовки к просьбам Ливии присоединилась и Юлия. Она явилась в Белый дом; оттолкнув сначала одного, а затем второго секретаря, ворвалась в кабинет Августа и, с ласковой улыбкой глядя на отца, с порога тихо спросила: «Ты хочешь, чтобы мой муж умер от жажды у себя в спальне? Ты хочешь совсем опозорить свою дочь?»
И, не дожидаясь ответа, ушла…
Короче, совместными усилиями уломали того, кого никому еще не удавалось подчинить своей воле.
IV. – Четыре дня голодал, – продолжал Гней Эдий. – Два дня собирался в дорогу. А в ночь на седьмой день незаметно вышел из дома, пешком по ночным улицам добрался до Остийской дороги, там сел в поджидавший его экипаж и покинул римский померий. Ни с женой, ни с Августом, ни даже с матерью Ливией не попрощался. В Остийском порту его провожали лишь два человека: Гней Пизон и Патеркул Старший. Патеркула он взял с собой на корабль. Пизону же, поцеловав его на прощание, Тиберий поручил присматривать за своим девятилетним сыном, Друзом.
Достигнув Кампании, Тиберий узнал, что Август заболел, на людях не появляется, лежит в Белом доме, никого к себе не пускает, ни Ливии, ни врача Антония Музы.
Это известие получив, Тиберий прервал свое путешествие. И тут же по Городу поползли слухи, что он, дескать, медлит в Кампании, потому что с нетерпением ожидает смерти Августа в Риме.
Но через неделю Август поправился. И когда Тиберий узнал, что с принцепсом все в порядке, продолжил свой путь: в Брундизий, морем – на Керкиру… ну, и дальше в сторону Родоса.
V. А слухи продолжали жужжать и роиться. Я насчитал четыре роя.
Одни объясняли отъезд Тиберия тем, что он уже долее не мог переносить неверность своей жены, ее пренебрежения к себе как к неравному по происхождению, их взаимного отвращения друг к другу, ну, и тому подобное.
Другие утверждали, что Юлия здесь ни при чем, вернее, главная причина не в ней, а в том, что Тиберий обиделся на Августа, который, судя по всему, вознамерился передать власть не пасынку, а внуку, выдвигая на первое место мальчишку Гая Цезаря, а его, зрелого мужа, двукратного консула, победоносного триумфатора, от себя отстраняя и даже не посчитав нужным пригласить его на празднество совершеннолетия своего будущего наследника, а теперь отсылая в какую-то Армению, где, собственно говоря, ничего опасного для государства не случилось и не может случиться, и, стало быть, как говорится, – с глаз долой, из сердца вон.
Третьи уточняли: да, из-за Гая Цезаря, но вовсе не потому, что Тиберий обиделся. Он, преданнейший из преданных великому Августу, ни за что бы себе этого не позволил! Он удалился из Рима, чтобы уступить место второго человека в государстве подросшему Гаю Цезарю, дабы избежать нежелательного соперничества с юридическим сыном великого принцепса, с природным сыном Юлии, и своим присутствием не мешать его делам и не умалять его значения. Да, самовольно уехал, вопреки решению Августа. Но так же самовольно уехал на Лесбос Марк Випсаний Агриппа, когда Август стал приближать к государственным делам своего усыновленного племянника Марка Марцелла, такого же малолетнего. И Август в итоге высоко оценил скромность и преданность своего ближайшего друга.
Четвертые возражали: дело тут не в Юлии и не в Цезаре – стойкого, невозмутимого Тиберия на такие крючки не поймаешь. Наперекор мнению Августа, вопреки молениям матери Ливии этот расчетливый и предусмотрительный государственный муж удалился на Родос, дабы продемонстрировать свою полную независимость от кого бы то ни было и гордым самоудалением укрепить, а то и увеличить свою славу к тому времени, когда римскому государству могут действительно и всерьез понадобиться его услуги.
Пятые… их все-таки пять было – основных роящихся слухов, а не четыре, как я сперва посчитал… пятые дошли до того, что стали намекать на некий мистический страх, охвативший Тиберия. Он, дескать, вспомнил о том, что оба прежних мужа его нынешней жены – молодой Марцелл и далеко не старый, пышущий здоровьем и энергией Агриппа – оба они умерли преждевременной смертью…
Слух этот с особой настойчивостью распускал Квинтий Криспин, с характерными для него ужимками: загадочным подмигиванием и лукавым смешком.
О том, что Тиберий, дескать, хотел подчеркнуть свою независимость и укрепить славу, рассуждал Секст Помпей.
Юл Антоний оправдывал Тиберия, говоря, что он решил последовать примеру Марка Агриппы и освободить поле деятельности для Гая Цезаря.
Корнелий Сципион утверждал, что Тиберий на Августа обиделся.
Пульхр скорбел о семейном разладе.
Слухи же о том, что в Кампании Тиберий якобы ожидал смерти Августа, распространяли Эгнация Флакцилла и Аргория Максимилла…
Как я понимаю, это была вторая задача, которую Юл и Юлия поставили перед вновь призванными адептами. И они с этой задачей успешно справлялись: их заранее распределенные между собой измышления люди принимали, как греки говорят, за чистую монету – еще бы, ведь всем было известно о том, что они чуть ли не ежедневно бывают в доме в Каринах и, стало быть…
Эдий Вардий не окончил, быстрым гибким движением приподнялся на ложе – то есть только что лежал навзничь и смотрел в потолок, а в следующее мгновение уже сидел на сигме. И вдруг как закричит, так громко и неожиданно, что я вздрогнул:
– Эй, кто там?!. Принесите фрукты!.. Уберите со стола и принесите нам фрукты!
Замечу, что на столе стояло два блюда, наполненных различными фруктами, и Вардий к ним не притронулся.
VI. Прокричав эти команды, Гней Эдий продолжал совершенно спокойным тоном:
– Когда было получено известие, что Тиберий отплыл из Брундизия и покинул Италию, Юлия в тот же вечер устроила у себя званый обед. Приглашены были не только адепты, но и посторонние люди. К моему удивлению, даже меня пригласили: сначала Криспин стал зазывать, потом Феникс зашел и сказал, что «Госпожа ждет нас вместе».
Женщин разместили в Юлином, в женском триклинии. А в мужском – на половине Тиберия! – возлегли – заметь: на сигме и бок о бок! – восемь мужчин и среди них Юлия. Юлия – в центре. По правую руку от нее – Феникс. По левую – Юл Антоний. Я, признаться, впервые видел, чтобы стольких мужчин за столом возглавляла одна женщина.
Я лежал с краю и внимательно наблюдал за дочерью Августа.
Юлия, как я сразу заметил, изменилась. В ней теперь не было прежней царственной величавости и умной, чуть прищуренной насмешливости. Движения стали какими-то резкими и будто скомканными. Лицо же словно застыло, и в этой застылости никаких чувств не проглядывало: ни интереса к тому, что происходит, ни даже задумчивости. И это стылое лицо она сначала повернула к Юлу Антонию и неотрывно на него смотрела, эдак с четверть часа, не переводя взгляда даже на тех, кто к ней обращался и кому она отвечала, и не глядя на те кушанья, которые она брала со стола и отправляла себе в рот. А потом точно так же принялась разглядывать Феникса, повернув в его сторону свое лицо-маску.
Представляешь себе? Порывистые, дерганые, иногда настолько неточные движения, что пальцы ее промахивались мимо блюда, рука задевала сосуды с вином и один раз даже опрокинула Фениксову чашу, – а взгляд остановившийся и неживой, как у некоторых статуй в храме Изиды.
Юл тоже на себя не был похож: какой-то непривычно расслабленный, умиротворенный, очень красивый; без обычных двух своих блуждающих улыбок; взгляд – светло-карий, без желтизны, по-взрослому умный и детски-приветливый, чуть ли не ласковый; даже морщина между бровей разгладилась и исчезла.
Феникс же возлежал мрачный, нахохлившийся и какой-то… тщедушный.
Ни Юл, ни Феникс рта не открыли – то есть рты свои раскрывали только для того, чтобы есть или пить. А разговаривали за столом большей частью Сципион и Криспин: первый занудствовал, второй балагурил, и оба смешили собравшихся, но не Юлию, не Юла и не Феникса.
Когда к холодным закускам стали прибавлять горячие, в лице Юлии вспыхнуло вдруг оживление. Именно – вспыхнуло что-то в глазах, и эти ожившие вдруг зеленые глаза принялись внимательно и с любопытством разглядывать того, кто в это время говорил за столом. И живо, чуть ли не весело перескакивали с одного говорящего на другого.
Когда же перед тем, как подать основные блюда, слуги стали убирать недоеденные закуски, Юлия вдруг рассмеялась и радостно произнесла: «Меня муж бросил. А вы устроили из этого праздник».
Все несколько опешили. И в том числе потому, что об отъезде Тиберия до этого ни словом не упоминалось. Но Юлия приветливо улыбалась, глаза ее лучились, будто приглашая разделить с ней веселье. Криспин что-то сострил в ответ по поводу Тиберия. Тактичный Помпей тотчас перевел тему разговора, заговорив о греческих философах.
Тут начали подавать первое главное блюдо. Секст умолк со своими философами. И в наступившей тишине Юлия снова засмеялась и сказала, глядя на Аппия Клавдия Пульхра: «Говорю вам: меня бросил муж. Чему же вы радуетесь?»
Опять-таки весело и беззаботно. И ей в ответ, уже с нескольких сторон, прозвучали шутливые ответы. Я сам еле сдержался, чтобы не сострить. Застыл от ее вопроса и перестал жевать лишь один Аппий Клавдий.
А Юлия, сделав из своего янтарного каликса несколько медленных глотков, теперь уже не смеясь, но ласково улыбаясь, сказала: «Пошли прочь. Вон из моего дома. Все убирайтесь».
Тоже сначала все растерялись. Затем кто-то попытался шутить, кто-то нахмурился, Пульхр поперхнулся. Лишь Юл и Феникс, пребывая в молчании, сохраняли прежние выражения лиц… я уже их тебе описал.
А Юлия встала из-за стола и тихо предупредила, на всех весьма ласково глядя: «Если через четверть часа кто-нибудь из вас здесь останется, мои слуги вас выгонят».
И вышла, нет, выплыла из триклиния, ибо к ней вновь вернулась ее царственная плавность.
Почти сразу за ней с неприступно-торжественным видом оставил застолье сенатор Аппий Клавдий Пульхр.
Когда на пороге триклиния появился раб-номенклатор, встал с ложа и покинул помещение всадник Корнелий Сципион, обиженно пробурчав: «Ну это, знаете ли, свинство».
Когда явился привратник, Квинтий Криспин объявил: «Нет, похоже, не пошутила. Нас гонят, сограждане… Возьму-ка я напоследок эту аппетитную зайчатину. На скаку ей полакомлюсь», – и выбежал из триклиния вприпрыжку.
Юл, Феникс и я вышли из-за стола, лишь когда к номенклатору и привратнику прибавились два дюжих истопника.
…Оказавшись на улице, мы втроем направились в сторону Эсквилина. Я пошел рядом с Фениксом, а Юл Антоний – чуть сзади. Мы и двадцати шагов не сделали, как Юл легонько хлопнул меня по плечу и сказал: «У тебя на сандалии ремешок отстегнулся».
Я остановился и стал в темноте изучать свою обувь, – наши рабы не успели за нами прийти, ибо никто не ожидал, что пир так быстро закончится.
Я, стало быть, нагнулся к сандалиям. И Юл мне шепнул на ухо, тоже нагнувшись: «Иди домой. Феникса я провожу. У меня к нему разговор»…
Короче, спровадил. И я не скажу, что это было сделано вежливо.
Тут Гней Эдий опять закричал, требуя, чтобы убрали со стола и принесли фрукты; на этот раз не так гневно, но так же громко и неожиданно.
Никто на его требование не откликнулся. Тогда Вардий удовлетворенно осклабился и сказал:
– Никого нет… Можно дальше рассказывать.
И продолжал:
VII. – На следующий день Феникс пришел ко мне и только тут пересказал мне свой второй разговор с Юлом Антонием, в котором тот ругал великого Августа… Ну, мы с тобой уже говорили об этом (см. 2.IX)… Я был в ужасе от услышанного. А Феникс тотчас принялся описывать ту беседу, которая у них с Антонием произошла накануне, после того как Юл бесцеремонно спровадил меня и пошел провожать Феникса.
Юл начал с того, что спросил: а правда ли Август велел Фениксу написать эпическую поэму о римских героических женщинах?.. Откуда Юлу стало известно, Феникс, к сожалению, не поинтересовался. Но уточнил: не приказал, а рекомендовал, посоветовал.
Рекомендовал. Посоветовал. – Юл несколько раз на разные лады повторил эти слова. А после принялся убеждать Феникса, что ни в коем случае ему не следует браться за эту поэму.
Почему? Да потому, объяснял Юл Антоний, что Феникс – человек любви и поэт любви… Так и сказал: поэт любви и человек любви… Тебе о любви надо писать, говорил он, которой ты себя посвятил. А в римских женщинах любви не найти, ни в древних, ни в нынешних. Им это великое чувство было всегда недоступно, ибо для того чтобы тебя посетила любовь, чтобы тебе ее боги послали, необходимо обладать по меньшей мере тремя природными качествами: надо одновременно быть умным, искренним и милосердным. А римлянки либо умны, но неискренни; либо искренни, но глупы; либо искренни и умны, но жестоки; – у всех у них одного из этих качеств непременно недостает.
Тут Юл принялся приводить многочисленные примеры из древней римской истории, между прочим доказывая, что в лучшем случае римские героини искренность замещали добродетелью, ум – расчетливостью, а милосердие – справедливостью. А это при внимательном рассмотрении – не одно и то же и явная подмена, которая, обманывая людей, богов не обманет.
Юл весьма пространно философствовал на эту тему, определяя и разграничивая понятия. И вдруг объявил, что за всю свою жизнь – Юлу было тогда… дай-ка сосчитать… ну, скажем, Юлу было под сорок – за всю свою жизнь Юл встретил лишь единственную римлянку, которую боги наградили даром любви, потому что она была и искренней, и умной, и чуткой к тем, кто страдает, пусть даже заслуженно… Так именно выразился, не сказав милосердной… Этой женщиной была его мать, Фульвия.
«А Ливия?» – спросил Феникс.
Юл долго не отвечал на этот вопрос. А потом укоризненным тоном – они шли в темноте, и Феникс не мог видеть лица Антония, – чуть ли не обиженным тоном стал выговаривать Фениксу, что он с ним серьезно разговаривает, а тот над ним, судя по всему, подсмеивается, ибо разве неясно, что нет в Риме более умной женщины, чем Ливия, но нет и более жестокой и лицемерной; и только такая, с позволения сказать, героиня может жить под одной кровлей и делить ложе… Он грубо обозвал великого Августа, и я не желаю вслух повторять этого мерзкого слова.
Феникс промолчал. А Юл быстро вернул разговор к своей матери Фульвии. И, в частности, заявил: «Вот о ком ты мог бы написать поэму! Фульвия не только умела любить – из тех мужчин, которым она дарила свою любовь, она делала поистине великих людей. Ее первый муж Клодий своей всенародной славой сначала ей был обязан, а потом уже Юлию Цезарю. Мой отец, когда она с ним сошлась, почти никому не был известен, но уже через несколько лет стал блистательным Марком Антонием! Она так искренне, так умно, так милостиво умела любить, что избранники ее вдохновлялись ее любовью и преображались в великих политиков, в великих воинов. Она не лгала им, как Ливия лжет Августу. Она не унижала их, как Юлия унижала и унижает своих мужей и поклонников!.. Хочешь, я все тебе расскажу о Фульвии? И ты напишешь прекрасную поэму! О единственной из римлянок, которая хотела и умела любить! И всю себя этой любви подчинила… А в конце изобразишь, как ее погубили, понимая, что, пока Фульвия живет на свете, ее муж, Марк Антоний, ни с кем не сравним, недосягаем ни для каких подлых происков, непобедим ни в сенате, ни на форуме, ни тем более на поле брани!»
Тут Юл Антоний вновь стал пересказывать Фениксу свои домыслы относительно того, что его мать, Фульвию, дескать, отравили в ахайском Сикионе. Но в этот раз упирал на то, что заказчиком тайного убийства был не кто иной, как сам Фурнин, нынешний Август. Он якобы приказал Меценату, и тот, выполняя его волю…
А далее принялся описывать, как спустя десять лет в Египте был убит его единокровный брат Антилл, старший сын Марка Антония, которого отец, начиная с Филиппийской войны, всегда держал при себе. Намеренно или непреднамеренно путая его историю с историей умерщвления Цензорина, Юл живописал, не жалея красок, специально останавливаясь в местах, освещенных луной, чтобы заглянуть Фениксу в лицо и увидеть произведенное на него впечатление.
Антилл, утверждал Юл, был заранее отправлен Марком Антонием в Эфиопию, чтобы оттуда бежать ему в Индию. Но Октавиан – Юл по-прежнему называл его Фурнином, а я буду называть его Октавианом, чтобы нам не путаться – Октавиан отправил следом за юношей его воспитателя Феодора, обещав ему огромную сумму денег, если тот догонит и вернет беглеца. Антилла сопровождали и охраняли надежные и преданные ему люди. А посему, по наущению Октавиана, Феодор объявил им, что Марк Антоний и Клеопатра одержали несколько блестящих побед, что римский флот уничтожен, западные легионы разбиты восточными и отброшены в Иудейскую пустыню, что в битве погибла прекрасная Клеопатра и египетский трон отныне принадлежит Антиллу, который должен вернуться в Александрию и воцариться в Египте, дабы Антоний мог по завету божественного Юлия отправиться на покорение парфянского царства.
Подлая ложь! Но ее принес воспитатель, которого юноша знал и любил с младенческих лет.
Антилл поверил и повернул на север. В Мемфисе его встретили солдаты Октавиана, торжественно доставили во дворец, короновали Короной Обоих Египтов и усадили на трон. А потом явились египетские жрецы и вместо египетских песнопений стали распевать стихи Еврипида, радостно повторяя припев:
Нет в многовластии блага!Феодор же, воспитатель Антилла, объявил несчастному юноше, что отец его, злосчастный Марк Антоний, давно уже покончил жизнь самоубийством. Всем миром теперь управляет Октавиан и он, посоветовавшись с египетскими жрецами, решил оказать Антиллу величайшую из почестей: сделать из него не просто фараона, а египетского бога. Но для этого Антиллу Антонию придется умереть, потому как при жизни ни один человек стать богом не может. Но это будет великая смерть, утешал юношу Феодор.
Антилл, сорвав с себя корону и спрыгнув с царского трона, бросился к статуе Юлия Цезаря, которая стояла в передних покоях дворца, и пытался найти у нее убежище, обхватив руками новое римское божество.
Но юношу от статуи оттащили и умертвили, медленно и аккуратно, чтобы не попортить тело и выпустить из него кровь, – а вдруг Октавиану придется по душе задумка, и он и вправду решит забальзамировать старшего сыночка своего ненавистного врага!
С чувством исполненного долга и гордый своей изобретательностью Феодор – он считал себя философом, учеником знаменитого Ария – этот Феодор явился к Октавиану и потребовал от него обещанной награды. Октавиан же, услышав о гибели Антилла, сначала якобы не желал верить произошедшему, затем по полному чину оплакал несчастного юношу – прямо-таки истек слезами во время молитвы. А после, публично отрыдавшись и отскорбев, велел обыскать Феодора и, когда в поясе у того нашли зашитым индийский изумруд, с которым Антилл никогда не расставался, правитель мира велел «наградить» воспитателя – распять его, как преступного раба, без приколачивания гвоздями, без предварительного встряхивания столба, то есть самым жестоким образом, чтобы Феодор целым и невредимым висел несколько суток и мучился как можно дольше. Рот ему заткнули паклей, чтобы он не болтал лишнего.
Нет никаких сомнений в том, что Феодор не украл у Антилла индийского изумруда. А кто-то другой, следуя тайному приказу, снял его с шеи казненного и незаметно зашил драгоценность в пояс его воспитателя…
– Эту страшную историю, как я понимаю, – продолжал Вардий, – Юл Антоний рассказывал с таким расчетом, чтобы конец ее пришелся на тот момент, когда они подошли к Фениксовому дому. И когда слуги выбежали с фонарями, ими и луной хорошо освещенный Юл завершил свое искушение: «Брата моего Фурнин, конечно же, не стал бальзамировать. Ведь он уже давно заживо бальзамировал меня. Когда у него родилась его Юлия – мне было тогда семь лет, – он обручил меня с ней и тем самым, если угодно, провозгласил будущим фараоном. Затем за дело принялась его сестричка Октавия. Она, как к трупу, склоняла ко мне свое горестное личико, окропляла меня горючими слезами, произнося предписанные ей заклинания, погребальные магические формулы: „Бедный мой мальчик! Несчастное брошенное дитя! Никому мы с тобой не нужны! Боги от нас отвернулись. Люди покинули“. Так меня бальзамируя, она, хитрая и ловкая жрица, словно вынимала у меня из груди мое сердце, острым ножом соскабливала имена матери и отца и вырезала на нем письмена чувств, которые ей заказали для Чертога Двух Истин. …Двух Истин! Это не я придумал – так египтяне именуют этот загробный чертог.
Когда же меня так подготовили, когда сердце мне поменяли, явился передо мной Владыка Вселенной со своей Маат – так египтяне называют богиню Справедливости – и оба принялись колдовать над моей мумией, внушая:
„Мы любим тебя как родного нашего сына. И ты нас люби и нам поклоняйся“.
„Все, что ты хочешь, мы тебе предоставим. А ты все былое забудь“.
„С нами ты счастлив и жив. Так будь благодарен. Цени наше милосердие и восхваляй нашу добродетель“.
Они меня так „возлюбили“, что отняли у меня обещанную мне Юлию и выдали ее сначала за маленького доходягу Марцелла, затем за козлоногого Агриппу, потом за истукана Тиберия. Меня же женили на бывшей жене Агриппы, выброшенной за ненадобностью, старой и потасканной.
Они мне „все предоставили“. Я попросился в жрецы – они меня сделали жрецом Аполлона, того самого бога, который, как они считают, помог им окончательно разбить и уничтожить моего отца. Я захотел стать военным – они мне дали в наместничество Африку, но запретили там появляться. Они провозгласили меня консуляром – но какой же я консуляр, если до этого я ни разу не сидел в консульском кресле?
Они обещали мне счастье. Но дали одно унижение. На него, мое унижение, сокрушенно взирает с небес великий бог Геркулес, от которого мы происходим. Его видит Юлия, твоя Госпожа, как ты ее называешь, видит и тянется ко мне не потому, что она меня любит – она отца своего обожает, как бога, и среди смертных людей, может быть, любит только тебя, потому что ты на других людей не похож… Они в нас все почти вытравили, все внутренности из нас вынули. Но печень оставили, то ли по забывчивости, то ли специально для того, чтобы нам было еще горше, еще унизительнее…»
Произнеся эту выспренную тираду – напоминаю: на греческом языке и на глазах у выбежавших слуг – Юл обнял Феникса, прижал его к себе и долго держал в объятиях, а потом отпустил, махнул рукой и, не попрощавшись, побрел по улице, словно раненый гладиатор…
VIII. – С раненым гладиатором, – продолжал Вардий, – его Феникс сравнил, когда на следующее утро рассказывал мне об их, с позволения сказать, беседе. И, кончив рассказ, воскликнул: «Никто еще так глубоко в меня не заглядывал, чтобы понять, что я – человек любви. Действительно, для нее живу, и кроме нее мне ничего не надо на свете!.. Какая замечательная чуткость, оказывается, заключена в этом таком большом и суровом на первый взгляд человеке! Ты представляешь?!»
«Да, теперь очень живо представил, – спокойно ответил я. – Страшный он человек. Исчадье ада. Демон ночи… Страшно, что такие люди живут среди нас».
«Да что ты?! – радостно удивился Феникс. – Юл в этот раз совершенно не был похож на демона. Он сбросил с себя наконец ту маску, которой всегда прикрывался. И я увидел его настоящего – искреннего, страдающего, беззащитного, как ребенок!»
«Ты не понял, – возразил я, пытаясь сохранять спокойствие. – Он на себя новую маску надел, чтобы еще сильнее тебя обмануть».