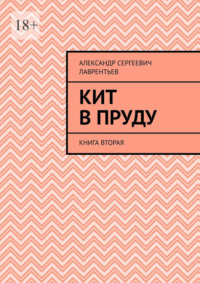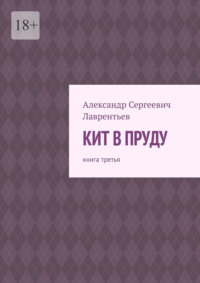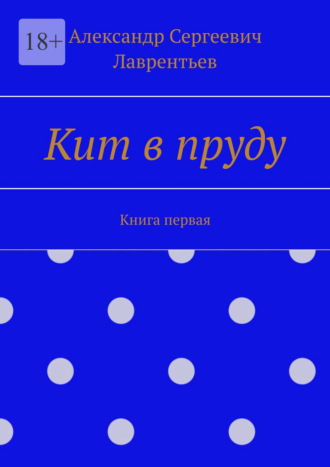
Полная версия
Кит в пруду. Книга первая
Можно было даже и леску прозрачную приобрести, но это уже стоило других денег.
И каждый день, пока не наступала грибная пора, мы пропадали на этой Друченке.
Как-то папа мне сказал, что гулял по лесу, вышел к речке, а там компания мальчиков, жгут костёр и страшно ругаются матом.
Я, случайно, не знаю, что это за мальчики такие?
Да, ругаться матом – это тоже была страсть.
В Гатчине есть большой пруд, и великие князья (точнее – их жёны и дети) приручали карпов. Кормили и звонили в колокольчик.
И когда звенел колокольчик, карпы понимали и приплывали к берегу, к людям. Они позволяли даже гладить себя. Детям очень нравилось.
Но времена, как известно, меняются.
И нравы меняются, и люди меняются.
После революции к пруду пришли другие люди.
Голодные рыбы устремились к привычному месту кормления и встретились там с голодными людьми.
Что было дальше – уточнять не будем, полагаю, это и так понятно.
Времена наступили суровые.
Вот кто тут прав?
Изнеженные барышни и юноши, звонившие в колокольчик, или бородатые изголодавшиеся солдаты с винтовками?
Отвлеклись.
Я собирался говорить о рыбной ловле (занятие весьма распространённое среди творческой интеллигенции: Паустовский был заядлый рыбак, Аркадий Гайдар, до них – Аксаков, из нынешних – Ширвиндт).
За время моего увлечения рыбалкой случалось многое, но здесь я расскажу всего лишь об одном эпизоде, в чём-то очень показательном.
В нём как будто бы отобразилась вся моя жизнь.
Дело было в новгородской области, на реке Мсте.
Приехал я туда к вечеру (на велосипеде, километров двадцать по хорошей асфальтовой дороге до самого Топорка), по берегу дошёл до места, где быстрина с перекатами вливается в широкий омут (я это место заранее присмотрел).
Набрал в чайник воды (мутноватая, ещё сказывается поганство целлюлозно-бумажного комбината, убившего реку Перетну, которая впадает в Мсту выше по течению). Чайник?
Да, я всё возил с собой в рюкзаке. Рыболовные снасти привязаны к раме велосипеда, а в рюкзаке провиант, небольшой алюминиевый чайник, небольшой бензиновый примус, очень удобный, рекомендую (можно даже без бензина, на таблетках сухого спирта).
Алкоголь?
Ну, об этом и упоминать не надо, это и так понятно.
(Хемингуэевское открытие и в северных широтах действовало безотказно и эффективно – тоже рекомендую.)
Вечереет.
Я уже закинул снасти – две донных удочки, одну примерно в середину омута, другую туда, где быстрина соединяется с тихой водой, и стал пить чай.
Хорошо заваренный, вкусный, шикарное добавление к «Беломору».
Подошёл какой-то мужичок в кепке, осмотрел моё расположение и одобрил.
– Хорошо устроился, ладно, – сказал он. – Вот, и с чайком, чайник есть. Молодец, так и надо.
И пошёл дальше.
Ловля на донку – занятие для философов.
Не надо суетиться, мельчить, мельтешить.
Сиди себе и жди. На природу смотри, любуйся и – думай о чём угодно.
И никто не мешает. Один.
Ты – и Бог.
Я смотрел в потухающий закат, слушал комариный звон, удочки мои стояли без движения.
Я ещё выпил водки (тогда ничего другого я не пил, только водка и крепкий чай) и стал думать о том, как нескладно складывается моя семейная жизнь и моя профессиональная жизнь.
Успеха – ни там, ни там. Херово.
Я ещё выпил водки, пожевал перо зелёного лука, ещё покурил папиросу «Беломор» (только это, никаких сигарет с фильтром и пр.).
Да, херово. Очень херово.
Допил остатки, выкинул в кусты пустую бутылку.
Удочки будто умерли, хоть бы одна поклёвка.
Терпение моё лопнуло.
– Да пошли вы на …, – сказал я всему – и удочкам, и рыбе, и реке, и своей не складывающейся толком жизни – и уснул.
У меня была и подстилка, между прочим, – старый брезентовый плащ, я его сложил несколько раз, получилась вполне приличная постель.
Я укрылся курткой от комаров и уснул.
Стоял комариный звон, журчала на перекате река, а я спал, и мне было хорошо.
Что мне снилось поначалу – не помню. Я поначалу провалился в пустоту и темноту, убегая таким образом от всей этой своей с трудом выносимой нескладности жизни.
Да, поначалу просто отдыхал, набирался сил – для следующего раунда, скажем так.
Потом мне стало казаться, что я в нашей городской квартире и как-то настырно звонит телефон.
Ну звонит и звонит… ну достал просто!
Ну, как бы там ни было, а звук это новый заставляет меня вынырнуть из омута алкогольного забвения… Телефон – тут, на берегу реки Мсты?
Единственным источником звука тут может быть только одно – бубенец, укреплённый на конце удилища донки.
И сердце моё – заядлого рыболова – ёкает, и я, путаясь ногами в плаще, как бы скатываюсь к самой воде.
Да, туман плотный, да, темень.
Но – различимо, не надо думать, что середина ночи – тьма непроглядная.
В начале августа на Мсте – это так.
Одна донка как стояла, так и стоит (которая в середину омута), зато другая…
Другая лежала на ветвях куста, зацепившись катушкой за ветви.
Я выбрал снасть, действовал почти наугад.
Оба крючка были пусты.
Я быстро насадил на каждый по пучку червей (а у меня их полная банка, заранее накопал) и – вот не поверите – в этой темноте наугад практически повторил свой первый заброс – туда, где кончается перекат и начинается тихая вода.
Я это не столько увидел, сколько почувствовал.
Дальше – ждать.
Как тут не закуришь… Достаю папиросу, спички, чиркаю и – не успеваю прикурить. Удилище резко сгибается, звякает бубенчик на конце, я хватаю удилище и – дёргаю.
Подсекаю.
Дальше – что-то непонятное, чего раньше не было.
Представьте себе. Ночь. Берег реки. Комариный густой звон. Вы держите удилище, леска натянута до предела и немножко вибрирует, от напора неравномерного водяных струй и от натяжения.
И – абсолютная глухая тишина. И – ни движения.
Вот сколько вы выдержите в такой ситуации?
Когда положение стало нестерпимым, я с силой потянул на себя, во всей системе «я – снасть – что-то там, на другом конце» (рыболовный стандарт) что-то скрипнуло, подалось, и я увидел, как это «что-то» на другом конце снасти стремительно двинулось сначала к одному берегу омута, там несколько раз дёрнуло (снасть всё передавала, руки чётко воспринимали), потом к другому, противоположному берегу – как бы по дуге окружности, радиусом которой являлась натянутая до предела леска.
Увидел – в темноте, в глухом тумане?
Ну да, открылся третий глаз.
Стало светать. И отсюда вывод: я простоял с удилищем в руках, в тупом этом противостоянии с представителем дикой природы – не менее трёх часов.
Когда этот житель подводный примчался по дуге к противоположному берегу, леску стали перепиливать напильником, это ясно читалось руками.
Затем всё напряжение спало, леска провисла, всё было кончено. Светало.
«На сегодня хватит».
Позже в какой-то телевизионной передаче я увидел, что есть такая пресноводная рыба – сом, и размер может быть больше человеческого роста.
И пасть такая, что туда легко умещается голова человека.
И силища неимоверная.
И я подумал: действительно, на всё воля Божья.
Что бы я там делал с этим чудищем в темноте, если бы оно не догадалось перепилить зубами леску?
Да, вот леска… у меня была японская, какой не было в продаже.
Морошка
Морошка – вид многолетних травянистых растений рода Рубус семейства Розовые.
Распространена в Северной Голарктике. Плоды съедобны, имеют приятный вкус. В древности называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный стражник». На севере укоренилось название «царская ягода» (Википедия).
«Одной из последних просьб великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина была просьба поесть нашей северной ягоды – морошки.
До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти, перед самой смертью ему захотелось морошки. Данзас сейчас же за нею послал, и когда принесли, Пушкин пожелал, чтоб жена покормила его из своих рук, ел морошку с большим наслаждением и после каждой ложки, подаваемой женою, говорил: «Ах, как это хорошо» (тоже, наверное, Википедия).
Экзамены за четвёртый курс я всё-таки сдал, хотя чувствовал себя канатоходцем над пропастью.
На лекции я не ходил уже с третьего курса: высидеть пару в душной аудитории, стараясь подавить голодное урчание желудка и при этом не понимать, что там преподаватель несёт, увлечённо покрывая доску формулами, понятными ему и непонятными мне, – нет, этого унижения натура моя не выдерживала, и на лекции я «забил».
Практические занятие – это другое дело, туда я захаживал. Это позволяло хоть что-то уловить из содержания предмета и было гораздо живее, чем лекции.
Когда настала сессия, обнаружилось, что есть один предмет, с которым мне не совладать… то есть обнаружилось, что я вообще в этом предмете ничего не понимаю.
А я к тому времени уже имел твёрдо выработанную программу: институт надо закончить, получить распределение на какой-нибудь завод, и вот тогда… Ну, примерно так.
А усвоенный ещё в школе принцип – «нам нет преград ни в море, ни на суше» («мы рождены, чтоб сказку сделать былью») – не позволял отступать.
Умрём – но не сдадимся.
«Это есть наш последний и решительный…»
И я достаю пачку листов белой бумаги (А4), разноцветные шариковые ручки (чтобы легче было различать темы) и – выписываю из учебника материалы по каждому вопросу экзаменационных билетов.
На подготовку к экзамену было отведено три дня.
Это была пахота, надо сказать. Давно так не трудился.
К вечеру третьего дня в моём распоряжении были материалы ответов по всем билетам.
Экзамен был с утра, я явился заранее (нервы не железные), но в аудиторию вошёл не первым, выждал, когда освободится самая дальняя парта, отодвинул от двери желающих экзаменоваться («моя очередь»), вошёл в аудиторию, взял с преподавательского стола билет, и – дальше всё по плану.
Расположился за этой партой, всем видом демонстрируя: вот пришёл серьёзный человек с серьёзными намерениями. Весь мой вид должен был показывать: человек серьёзен и сосредоточен и вызывает полное доверие.
Когда внимание преподавателя отвлёк очередной желающий отвечать, я раскрыл портфель, где аккуратно по порядку уложены листы с ответами, и выбрал нужные – без суеты и спешки. Разложил листы по столу, и поверхность стола как бы расцвела – все цвета радуги. Меня это, конечно, смутило… побочный эффект, как-то я об этом не подумал, что может так весело для глаза получиться. Но отступать было некуда.
Тем временем преподаватель поставил «Хор.» в зачётку отвечавшему и поднялся размяться, пройтись – и двинулся по проходу между партами, прямо на меня.
Я замер, опустив голову. Он подошёл и спросил мой затылок:
– Ну, готовы?
– Да, конечно, – сказал я, собрал по порядку свои листы, и когда мы уселись к преподавательскому его столу, я бойко стал читать ответ по первому вопросу.
Он слушал какое-то время, задумчиво поглядывая на потолок, потом остановил меня и спросил:
– «Уд.» – устроит?
Так, в пространство спросил.
«Уд.» – три балла по-нашему.
– Ну что?
Не та была у меня позиция, чтобы претендовать на «Хор.»… и, кажется, мы оба это понимали.
Таким образом, путь в четвёртую студенческую стройку был открыт.
Ядром нашего отряда была наша бригада из прошлогодней (третьей) стройки. Тогда мы в полупустыне на Мангышлаке отслеживали скорпионов и тарантулов (а там ещё и фаланги… такая гадость) и ремонтировали железнодорожные пути к урановому руднику (нас туда возили на экскурсию, впечатление циклопическое: лунный пейзаж, лунная поверхность, куда угодил метеорит и получился огромный котлован, в котором урановая руда – тёмно-серая, жирноватая на вид; открытая разработка, роторный экскаватор, небоскрёб на гусеничном ходу, его обслуживают иностранные специалисты, а в ремонтном депо – автоматы с холодной газированной водой)…
(Хочу предупредить, пользуясь случаем: в жаркую погоду не давайте слабину, не пейте воды много… Ну, пять стаканов, не больше… Потому что когда вы выйдете из прохладного затенённого помещения, где эти автоматы, – выйдете наружу, а вам же нужно идти работать, и на вас обрушится жара, и свирепое солнце снова вопьётся в ваше тело, – вы тут же захотите снова пить, и это уже будет мучительно.)
Да, там на Мангышлаке под палящим солнцем мы так притёрлись друг к другу, что вопрос – в какой компании отправляться на север Ленинградской области строить узкоколейку, – такой вопрос не стоял, его просто не было.
К нашей бригаде добавилось ещё народу, и в первых числах июля мы выехали к месту дислокации, как строго выразился комиссар отряда.
Как строить узкоколейку, никто из нас не знал, но большевистский принцип – «нам нет преград ни в море, ни на суше» («мы рождены, чтоб сказку сделать былью») – действовал железно.
Путь к месту дислокации пролегал через Вознесение (символично, правда?)
(Посёлок городского типа в Подпорожском районе Ленинградской области, административный центр Вознесенского городского поселения. Расположен на крайнем северо-востоке области, на берегу Онежского озера – Википедия.)
(В том месте, где из Онежского озера вытекает река Свирь, устремляя свои воды к другому озеру – Ладожскому.)
В Вознесении был перевалочный пункт, мы полдня проболтались по посёлку, ничего интересного не обнаружили – ну, дома деревянные, народ обычный… скучно. Потому, когда на нашем пути оказался буфет, да ещё открытый, да ещё с пивом, – я очень обрадовался.
Да не только я, все обрадовались.
И то, что пиво оказалось безбожно разбавленным, – не омрачило нашей радости, мы не спеша пили коктейль из пива и воды и смотрели в окно, где было видно озеро и небо, неотличимое от озера: день был сильно пасмурный.
Когда за нами прибыл узкоколейный поезд, немножко игрушечный (как показалось), мы были уже изрядно навеселе и потому не заметили, как добрались до «места дислокации».
Это оказалась большая заброшенная деревня, окружённая лесом. Покинутые пустые дома, разбитые окна… глушь и дичь, место невесёлое.
Как тут жили прежние жители, и зачем они тут жили, и кто они были – вопросы без ответа… Скорее всего, тут околозэковская тематика – гадать не хочу, просто помню, что у нашей страны непростая история.
Квартирьеры (они за трое суток приехали, чтобы подготовить для нас жильё) вполне справились, выбрали два больших дома, перетащили туда матрацы и прочую спальную принадлежность (всё это доставил мотовоз в вагончике), так что особых проблем с устройством не было.
Пока мы управлялись с размещением (в одном доме – мужское население, в другом – женское), из Вознесения нам привезли кухонную утварь – миски, ложки, кружки и три больших бидона: в одном – картофельный суп, во втором – макароны с мясом, в третьем – компот.
И мы всё это с удовольствием слопали, и у нас появилась уверенность в завтрашнем дне.
Рано утром прибыл мотовоз с нашим завтраком и двумя местными специалистами (как оказалось, местное руководство понимало, с кем имеет дело).
Два мужичка, оба приземистые, крепенькие, как грибы-боровики. Один – вальщик, другой – мастер.
Оба практики, слава богу. Один умел валить лес, другой умел строить узкоколейку и всё про это дело знал.
Да, ещё бензопилы, пильные цепи и бачки для бензина. И две бочки для хранения бензина.
И как-то сразу, как бы само собой получилось, что мы посерьёзнели, кожею ощутили, что вольная наша разгульная жизнь осталась позади.
Мастер сказал, что надо разбиться на бригады и что в каждой бригаде должен быть свой вальщик, и я тут же решил, что буду вальщиком.
Ну да… «Вы умеете играть на рояле?» – «Не знаю, не пробовал».
Надо пояснить, почему четыре бригады.
От магистрали, основной узкоколейной дороги, надо проложить четыре новых боковых ветки – к местам новых зон лесоповала. Стало быть, и бригад должно быть четыре, каждая со своим направлением работы и своим вальщиком.
Нам выдали каски, жилеты, и вальщик повёл нас в лес, благо идти никуда не надо было, всё под боком, и мы в течение целого дня учились спиливать деревья.
На следующий день – первый трудовой для всех – мотовоз притащил пустые, немножко игрушечные вагончики и развёз нас по участкам.
Мы (наша бригада) выгрузились, где указал моторист, и стали ждать, когда появится мастер и объяснит, что нам делать, как эта узкоколейка строится.
Тут же обнаружился местный колорит – комары.
В деревне они нас не очень доставали, но тут… голодные и свирепые, как орды кочевников когда-то на Русь, нападали на нас волнами, они словно ждали нас. Мы мужественно сражались, мох вокруг нас уже был усеян комариными трупами, но – орда… неисчислимая, неиссякаемая… и нам стало казаться, что долго мы не продержимся.
Нет ничего хуже бездельного ожидания среди дикого леса, и уже у кое-кого стала появляться малодушная мысль: «И на хера мы сюда приехали?»
Но появился мастер, двумя-тремя фразами всех взбодрил и стал объяснять, что и как делать.
И началась работа.
Я, как вальщик, спиливал несколько деревьев, девушки учились обрубать сучья, и уже голый ствол я раскряжёвывал, то есть распиливал на двухметровые брёвнышки, шпалы будущей дороги.
Комары отступили… не совсем, конечно… но нашествие кочевой орды было закончено. Мы стали своими, а своих обижать не принято.
Так мы двинулись в наше ближайшее будущее.
К концу третьей недели, когда мы уже изрядно углубились в лесной массив, комары к нам привыкли и не особенно досаждали и вообще – «привыкли руки к топорам» (а это тоже важно), – я начал скучать.
Опять. Снова.
Я заметил за собой такое: период моей активности и оптимизма – три недели.
Я бодр, мне всё интересно, жизнь прекрасна и т. д.
Когда этот срок истекает, я начинаю маяться и мне уже ничто не мило.
Ну вот такая психика, бороться невозможно. Да и зачем?
К тому же об этом моём свойстве знал и ещё кто-то, ко мне расположенный сдержанно-доброжелательно, и когда мне становилось совсем тошно и невмоготу, появлялся шанс изменить ситуацию.
Шанс, случай.
Нет, решение, право выбора – всегда оставалось за мной.
Но возможность перемены – появлялась.
Вот странное такое что-то…
То, что мы работаем исправно, было отмечено и начальством, и оно тут же решило открыть новый трудовой фронт.
В 50 км ниже по Свири в прошлом году заложили зимник, но не доложили.
Вот туда надо пятерых мужчин, шестой будет Эдька Репетуха, из местных, он будет прорабом, знает, что надо делать, а мест в вагончике всего шесть. Ну, конечно, нужен один вальщик.
Я почувствовал примерно то же, что чувствует боевой строевой конь при звуке трубы, объявляющей атаку.
Расклад такой.
Мы с вещами (это меня немножко смутило – зачем с вещами? – но спорить не стал, начальству виднее), на мотовозе добираемся до Вознесения, там грузим вещи на трактор-трелёвщик (за кабиной тракториста что-то вроде бульдозерного щита, между кабиной и щитом всё вполне умещается).
На складе выдают продукты – коробки с консервами, мешки с крупами, макаронами, сахаром и пр.
Отдельно – чай, Эдька Репетуха отбирает пачки с чаем и несколько пачек рассовывает по карманам.
Все продукты присоединяются к нашим вещам, уже погруженным на трактор, и получается внушительная картина: горбатый трелёвщик.
Тракторист, увидев эту картину, качает головой, но ничего не говорит, забирается в кабину и запускает двигатель.
Мы смотрим ему вслед, и нас зовут к берегу, где нас ждёт катер.
Не прогулочный, конечно… нет, какая-то рабочая лошадка, похожая на маленький буксир. Отчаливаем, и – «вниз по матушке по Волге».
Что-то около часа вниз по течению, вдоволь любуемся пейзажами.
Конечно, если бы мы не проголодались, это была бы чудесная увеселительная водная прогулка. Но в этот раз о таких мелочах, как обед, как-то впопыхах никто не подумал, и к моменту нашей высадки на берег все были изрядно голодны.
– Ничего, – сказал Репетуха, – тут уже недалеко, пару часов ходу. Придём, там уже трактор нас ждёт… всё путём.
И мы двинулись от берега вглубь леса.
Вот знаете, леса есть разные… это был лес как бы первозданный… Ты идёшь по лесной тропе и всею кожей, всем своим существом ощущаешь: здесь хозяин – он, лес. Ты – гость, причём непрошеный и нежданный.
Через час (комары опять почуяли свежинку) перед нами взлетел птеродактиль, тяжело ударяя крыльями по вершинам деревьев. Репетуха, возглавляющий нашу колонну, не обратил на это внимания.
– Эдик, что это? – спросил я.
– Глухарь, птица каменного века. Их тут много, – ответил Репетуха.
Через два часа мы вышли на поляну, где действительно стоял вагон-бытовка, на полозьях.
Заглянули внутрь – да, шесть спальных мест.
Но где трактор?
Репетуха включил радиотелефон и связался с конторой.
Там ничего о судьбе трактора и тракториста не знали.
Получалось положение. Вечерело, холодало, был красивый закат, мы – уставшие и голодные. Красивым закатом сыт не будешь, впереди – ночь со звёздами, в двух часах ходьбы – Свирь…
Ну да. Мы выходим на берег в темноте (если вообще доберёмся) … И – что?
Репетуха пожал плечами, нашёл пустую консервную банку, ополоснул её, набрал воды и на костерке стал варить себе чифир. Человек он был опытный, видавший виды, скажем так (потому на складе набирал в карманы не конфеты и пряники, а пачки индийского «со слоником»).
Откуда вода?
Мох, покрытый морошкой, местами расступался, и в ямках (бочагах по-местному) скапливалась вода – бурая, торфяная, для нас непривычная.
Родниковых вод и ручьёв, где плещется форель, – тут не было.
А ощущение голода и требование желудка насытиться становилось мучительным. Молодые здоровые организмы нуждаются в хорошем, добротном питании, тему вегетарианства, лечебного голодания и пр. можно рассматривать в преклонном возрасте, когда уже на склоне, но не когда ты на подъёме и у тебя всё впереди.
Объективно единственным съедобным элементом окружающего была морошка, сплошным ковром покрывавшая мох, отчего мох из сизо-зелёного превратился в оранжево-золотистый.
Раньше я эту ягоду не пробовал, у нас (на моей малой родине) привычным было – сначала земляника, потом черника, потом брусника и малина.
Болот у нас не было, сосновые боры с грибами-боровиками (никогда не забуду свои корзины, полные боровиков… фантастика!).
Болот не было, и потому не было ни клюквы, ни морошки.
Так что для меня это было в диковину – морошка.
Оказалось – вкусная ягода… ни на что не похожая… немножко кисло-сладкая, но именно немножко, самую малость.
Мы разбрелись по окрестности и – ели, ели, ели…
Теперь скажу серьёзно. Все разговоры о том, что можно питаться ягодами, фруктами и пр., – враньё (непонятно зачем). Ты можешь съесть ведро морошки, и единственным результатом будет то, что тебя стошнит. А чувство голода («Я хочу жрать» – бывший полковник Чернота, «Бег», М. А. Булгаков) станет ещё мучительнее.
Сколько мы этой морошки съели – до тошноты. До полного отвращения.
Ну вот ещё – торфяная вода в бочаге. Что до тебя из этой бочаги мог лось пить, или заяц, или волк, или ещё какой зверь (им же тоже вода нужна), – об этом уже никакой заботы. В природе всё стерильно.
Выпив чифира, Репетуха взбодрился и решил, что надо прибраться в вагончике, чтобы было культурно. Мы стали прибираться, следы жизнедеятельности прошлогодних обитателей нам были ни к чему. Человек вообще должен жить в чистоте.
Уже сильно темнело, когда появился тракторист с мешком на плечах.
Сбросил мешок себе под ноги и сказал:
– Ну и заебался…
В мешке было – две буханки хлеба, несколько банок тушёнки, кулёк с сахаром и ещё что-то, уже не помню.
Оказалось: трактор провалился в яму – по «дальше некуда», сам тракторист едва вылез, а трактор наглухо сел, а в прошлом году никакой ямы не было, откуда она взялась – … его знает… сейчас трактор почти по кабину в воде – со всеми продуктами и вещами нашими… недалеко, километров пять.
– Вот тут вам принёс, чтоб с голоду не помёрли, – сказал он.
(Вспоминая эту историю, я не могу не отметить вот что: люди, занятые естественным трудом… натуральные люди… уточню и конкретизирую: русские люди, о других не знаю… невзгоды, неприятности и пр. воспринимают не как повод впасть в печаль-тоску-уныние, а как повод «воспрянуть духом»… казалось бы, всё плохо – а дух играет, и человек становится свободным, большим, сильным, бодрым и весёлым, и несговорчивым, и неуступчивым, точно знающим свой пункт и свою цель, готовым к любому сильному действию… Я отмечал это не раз… Свойство ли это только русского человека или общее для всего человеческого рода – я не знаю… но я убеждён, что именно это свойство русского психотипа позволило нам победить в Великой Отечественной войне, когда против нас сражалась вся Европа.)