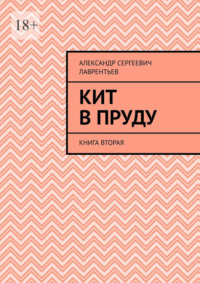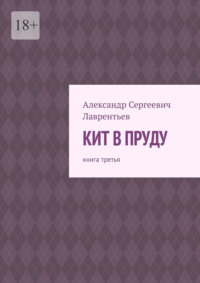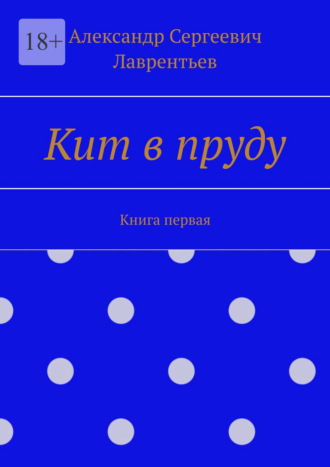
Полная версия
Кит в пруду. Книга первая
У него была роскошь и преимущество: он играл на гармони.
Ну, может быть, не очень профессионально – но играл, и мы частенько усаживались на завалинке их дома, и он играл, а я слушал, а перед нами было пустое пространство, полное воздуха, уходящее в ближний лес. Там мы учились частушкам (разумеется, матерным) и взахлёб, с восторгом их орали – в это пустое пространство, благо нас никто не слышал.
Когда возвращалась с работы Оксинья и обнаруживала, что в огород опять забрались куры, начинался аттракцион, который я помню до сих пор.
Оксинья широко распахивала калитку и вдоль забора подкрадывалась поближе к курам, разрывающим грядки, и фальшиво-ласковым тоненьким голоском начинала подманивать: «Тюшеньки, тюшеньки, тюшеньки» (так она созывала кур, когда кормила их крупой. И куры, следуя этому призывному подманиванию, потихохоньку смещались в сторону распахнутой калитки.
И когда они оказывались уже в нужном расположении, ласковое, льстивое «тюшеньки, тюшеньки» превращалось в зычный, на всю округу, клич: «Шиш, бляди!»
И в кур летели комья земли, и куры суматошно вываливались из огорода наружу, толкаясь в калитке.
Это, значит, Колька.
Теперь – Толька Катин.
Катя – это его мать, это понятно.
(У нас всё было как у евреев, по матери.)
Многодетная семья, пятеро (кажется, пятеро) детей, Толька – младший.
Бедность – дикая. Я любил наблюдать за тем, как они обедали, что у них было на столе.
Одна вымоченная треска, чугунок варёной картошки, буханка хлеба и несколько пучков зелёного лука.
Если бы я тогда знал про Ван Гога, то непременно бы подумал: вот сюжет для него.
Толька был на год младше меня и был хулиганистым.
Любимым занятием было перебраться через грязную реку и на том берегу бить фонари.
Зачем, почему – я не знаю… Нет, знаю. Это был протест против грязной реки… зачем убили реку, нам без живой реки – плохо.
В самом деле. Вы нам детство, в сущности, отравили.
Когда подошло время окучивать картошку, мы взялись за это дело с энтузиазмом.
Мы уже были в достаточной силе, чтобы самостоятельно управляться с окучником – устройством типа плуга, двое тянут за верёвки, один держит за ручки, управляет направление.
Раздобыли окучник и окучили все наши делянки, заслужив благодарность и уважение взрослых.
И когда всё, казалось бы, было завершено, Оксинья сказала: «А тот-то наш участок… его тоже надо».
«Тот-то» участок был посреди пустоши, считай… никаких строений вокруг.
Ну, мы и там окучили картошку, и при этом заметили, что на межах созрела крупная земляника, много…
Колька сказал: «Мать потом соберёт», – и мы ушли.
А к вечеру и у меня, и у Тольки одновременно созрела мысль: мы сами лучше соберём и съедим…
И мы пробрались на этот участок и собрали всю землянику. И съели, разумеется.
Потом Колька спрашивал – не мы ли, и мы категорически отрицали.
И вот вопрос, который меня мучает до сих пор: как я мог совершить такую подлость?
И я опять не нахожу ответа.
Ясно, что это было… ясно, что мне стыдно… просто невыносимо стыдно…
Но я не понимаю, как я мог такое сделать?
Получается – что? Что подлость изначально заложена в человека?
Не знаю… не знаю.
Два слова о дальнейшей судьбе моих друзей детства.
Колька перед армией пошёл учиться подмастерьем в обувную мастерскую, после армии уехал в Сибирь и там стал водителем электровоза.
(Говорят, какое-то время звал меня в гости.)
Толька быстро погрузился в уголовный мир и жил с девизом – или грудь в крестах, или голова в кустах.
Что с ним стало дальше – не знаю… скорее всего, голова в кустах.
Ну а я… что я… институт, двадцать лет инженерства, двадцать лет школьного учительства.
И эти ягоды земляники с той Колькиной межи до сих пор стоят перед глазами и словно сами смотрят мне в душу… и указывают на земляной пол в их избушке, где стены на подпорках.
Улыбка Джоконды
«Взялся Леонардо выполнить для Франческо дель Джокондо портрет моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершённым…»
Утро было прескверное.
Небо плотно затянуто облаками, серо, сыро, пасмурно, совсем не весело.
Самая ленинградская погода.
Если б не надобность – никуда б из дому не вышел, сидел бы книжки читал, музыку слушал, чаёк на кухне попивал.
Но надобность была, потому я вышел из дому и направился к ближайшей станции метро.
Кстати (или некстати) о метро… В студенчестве я там пробовал подрабатывать дежурным электриком (в ночную смену), но долго не выдержал: после бессонной ночи самое разумное – полдня проспать и потом вкусно пообедать, а не сидеть на лекциях (которые к тому же не интересны).
Самое отчётливое воспоминание о том времени: во время ночных дежурств просыпалась похоть… в самом жёстком, прямом, грубом, натуральном выражении… (Я серьёзно, так было. Колом торчит, со стула не встать – неудобно, неловко… а куда денешься? Ни согнёшь, ни в узел не завяжешь… молодая натура, естество! Приходилось много курить, это помогало.)
Это запомнилось. Ещё – тоннель… Вообще-то впечатляет – ограниченное с боков пространство, уходящее неограниченно вдаль.
Впечатляет.
Отвлёкся (старческая болтливость, подогретая воспоминаниями и, наверное, просыпающейся любовью к жизни).
Возвращаемся к теме.
В метрополитене много разных работ, и есть одна, на которую не соглашаются мужчины: продажа проездных жетонов и продление проездных карточек.
Нулевое пространство для творчества.
Ни один мужчина выдержать этого не может, обязательно сопьётся.
(Кстати, я понял причину алкоголизма: отсутствие пространства для творчества. Человек обнаруживает, что превращается в рабочую скотину, в бесчувственный робот, и всё в нём возмущается и протестует. Алкоголь смиряет и возмущение, и протест. На первое время, разумеется. А потом… Но это уже другая тема, и очень невесёлая, порой даже страшная.)
У пропускного турникета выясняется, что срок пригодности моей проездной карты давно прошёл, надо продлевать.
За прозрачной перегородкой с небольшим отверстием снизу молодая женщина с тусклым усталым лицом (а ещё утро, впереди весь рабочий день).
Она умело обращается с моей карточкой, я расплачиваюсь и как бы в обмен на карточку просовываю в окошко конфетку-леденец в прозрачной обёртке.
И случается чудо: лицо женщины преображается… оно становится мягким, светлым, добрым и чуть ли не ласковым… всё понимающим женским прекрасным лицом.
Это длится долю секунды, это запоминается на всю жизнь.
Внезапный луч солнца, пробившийся сквозь хмурую плотную облачность.
И всё преображается.
Поездка по знакомому маршруту («Спасская» – «Дыбенко») занимает, как обычно, пятнадцать минут.
Я поднимаюсь на поверхность.
На небе – ни облачка, ясно и щедро светит солнце.
Можно жить дальше.
Птичье каприччио
Есть такая птица – павлин. Когда распускает хвост – то да, картинка.
Но очаровываться не стоит: характер вздорный и мелочный.
Как в жизни: если кто-то павлином выставляется – так и знай, будут проблемы.
Впрочем, павлин – это всё-таки экзотика.
У нас своего добра довольно.
Вот воробей… чирикает, нахохлившись… на жалость давит. Не стоит обольщаться: наглец, бесцеремонник, жлоб и хам. Забияка. На малой моей родине заслужил прозвище «жидёныш», этим всё сказано.
А вот синички – совсем другая порода. Напоминают воспитанниц Смольного института… деликатные, аккуратные, любопытные в меру, сообразительные… Люблю. Их, кстати, много разных подвидов.
Голуби?
Те же воробьи, только крупнее, и ощутимо гадят.
Терпеть не могу.
Почему голубь – птица мира, ума не приложу.
Наконец, ворона… Это особая песня. Тип американского пионера Дикого Запада. Если поленился вынести пакет с мусором к мусорному сборнику и оставил на ночь на участке, утром пакет будет разорван и содержимое разбросано по всему участку. Устанешь собирать. Причём – под насмешливыми вороньими взглядами. Сидят на верхушках деревьев и с удовольствием за тобой наблюдают.
Однажды я наблюдал за вороной, которая размачивала в луже хлебную корку, и размочила-таки и всё склевала.
А один раз вовсе любопытное: я отправился погулять в Никольский сад поздней осенью, когда вазоны (где летом фонтаны) уже были закрыты щитами, предохранявшими от скорого уже снега.
На щите сидела одиноко ворона и смотрела, как я приближаюсь.
Я замедлил шаг, и она двинулась мне навстречу. Спрыгнула со щита и по песчаной дорожке, по-матросски вперевалку, продолжала сближаться со мной. Я остановился, в двух шагах остановилась и она.
Момент истины: я смотрю на неё, она, склонив голову набок, смотрит на меня.
Да, момент истины. Проверка на вшивость.
Я понял, что проверку не выдержал. Она явно ждала хоть какое-то угощение. У меня с собой ничего не было.
Запоздало подумалось: ну кусок хлеба-то мог бы захватить… жлоб ты этакий. Стало стыдно, и я поспешил уйти, не оборачиваясь.
Букингемский дворец
«Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция и административная штаб-квартира британских монархов. Расположен напротив улицы Мэлл и Грин-парка…»
Когда мама сказала, что ей на производстве предложили взять участок в садоводстве, мне показалось, что я слышу голос судьбы.
Мне было тридцать лет, из чеховского устава – «посадить дерево, вырастить сына и построить дом» – был выполнен только средний пункт (да и то наполовину: не сын, а дочь). Ни дерева, ни дома…
Студенческие стройки?
Две первых – электрификация посёлков в Карелии, куда ещё не подведено электричество, третья – Мангышлак, ремонт железнодорожный путей к урановому руднику, четвёртая и пятая – узкоколейки в леспромхозах… Экзотично, конечно, но навыка строительства домов не сообщает.
Ну, и про деревья – тоже. Спилить – пожалуйста… посадить?
Ну, понятно, что ямку выкопать, туда опустить корни, засыпать землёй, полить… Понятно, дело не мудрёное. Тем не менее выполнен и этот пункт не был, деревьев я не сажал.
Дальше.
В профессии своей (инженер электронной техники) я не состоялся и уже твёрдо знал, что не состоюсь… тоскливо «влачил существование» («Ну не моё это, не моё… Я бы сам себе ни в жизнь диплом инженера не выдал, халтурщики советские, штампуете кадры как винтики, без души работаете»).
Дальше.
Попытки «стать писателем» упорно ни к чему не приводили, вся стена в комнате была украшена редакционными бланками различных журналов и издательств с однообразно доброжелательными отказами (мотив из «Мартина Идена» с одной поправкой: тот был один, а у меня уже была семья, дочь и, соответственно, какая-никакая, но ответственность).
Дальше.
И настойчивая мысль: человек после себя должен оставить ещё что-то, кроме кучи… (неприятное слово, смысл понятен).
– Конечно, берём, – сказал я.
(Про себя подумал: инженер из меня не получился – построю дом… Странная логика.)
Было начало марта, когда мы вдвоём с мамой отправились посмотреть наш участок.
Дорога довольно долгая, час на автобусе, унылый ранне-весенний день, солнце, казалось, этот край решило обойти стороной.
Дома как грибы, тесновато, «шесть соток» площадь участка, двадцать пять квадратных метров – жилая площадь постройки.
Тесновато. Я привык к другому, в Новгородской области было просторно. Настроение моё как-то незаметно падало, как стрелка барометра перед бурей. Наш участок оказался в глубине территории, среди уже построенных чужих домов и раньше служил складом строительных материалов, там размещали кучи щебня, гравия, песка (всё, что нужно для дорожных работ).
И ещё большая бочка на берегу пруда и трансформатор, тоже большой.
– Это увезут, – сказала мама.
– Деревьев довольно много, это хорошо, – заметил я.
Да, на участке было довольно много ивняка и штук пятнадцать берёз.
(Когда я увидел деревья, я взбодрился… На пятой моей студенческой стройке мы работали в лесу, прокладывали узкоколейки для леспромхоза, и что такое валка леса – я знал не понаслышке.)
Когда снег сошёл, я принялся за дело – с энтузиазмом застоявшейся лошади. Ивняк пока не трогал, зато все берёзы свалил, очистил от ветвей и коры (к тому времени я уже понимал, что нужно поставить, во-первых, шалаш-сортир, во-вторых – сарай, где можно хранить инструмент и при случае и заночевать).
С шалашом-сортиром проблем не было, это понятно, а вот сарай… тут уже ветками не обойдёшься, нужен строительный материал, а у меня ничего, кроме этих берёз, не было. Поездки в Кировск на лесобазу и ещё куда-то (в Тосно, что ли) ничего не дали, досок нет, срезок нет… ничего нет.
Ситуация явно не в пользу патриотического настроения. Не забывай, где живёшь. Всё что умел – я уже реализовал, и теперь открывалась панорама того, чего я не умею. «Буду строить Букингемский дворец», – сказал я себе, чтобы приободриться.
Размер три на три, чтобы и лежанки можно поставить (пару), и инструмент разместить, и печку небольшую. Соответственно, напилил из стволов поровнее брёвен и жердей, ошкурил.
Естественно, у меня были самые общие представления о том, как надо строить. Тем не менее я смог возвести строение, по возможности выравнивая топором неровности древесины.
В результате получилась большая деревянная птичья клетка, и первый же дождь объяснил очень понятно, что крышу не случайно люди придумали.
Рубероид! Вот спасение.
Нет, патриотизма всё это не прибавляет, нет. И любви к советской власти тоже. Поездки по окрестностям опять ничего не дали, в городе в строительных магазинах – пожимают плечами.
Вот откуда берётся русский мат?
Вот отсюда берётся русский мат, чистый, как слеза младенца.
Когда я пожаловался Сашке и Альке (заодно впервые открыто обругав советскую власть: ну завели садоводства – обеспечьте строительным материалом, суки), Сашка сказал, что на крыше депо – а он там работал, закончив плавания на Севере (судовой электрик, после «Макаровки» устроился электриком в депо метрополитена), – валяется рулонов десять рубероида, ещё с осени (крышу перекрывали), Алька сказал, что машину починил и можно сгонять.
(И тот и другой были друзьями моего детства, и тот и другой уже давно покинули этот явно не лучший из миров… мне их очень не хватает, но я стараюсь об этом не думать.)
Уже вечерело, когда мы подъехали к зданию депо, забрались по наружной лестнице на крышу и действительно обнаружили там рулоны рубероида.
Я почувствовал воровской кураж и – вот он, фарт! – стал сбрасывать рулоны. Это же надо же! Днём с огнём в городе не найти, а тут под открытым небом просто так валяются, никому не нужные! Сучья власть!
Сбросил пять штук и решил, что достаточно
Алька в багажник погрузил четыре рулона и сказал, что этого довольно, рессоры и так уже прогнулись.
Душа моя ликовала, и тем сильнее было огорчение, когда мы приехали на участок: рубероид оказался гнилым и рвался при малейшем натяжении.
И у меня впервые появилась малодушная мысль: а не послать ли всё к… матери? (И советскую власть туда же.)
Но – «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Но – «Нам нет преград ни в море, ни на суше».
Оказалось, что в городе идёт капитальный ремонт соседнего дома, и я обратил на это внимание, после работы зашёл туда, поднялся на третий этаж (оттуда доносились голоса) и увидел кучу рулонов рубероида.
– Ребята, мне надо два рулона, – сказал я.
– Литр, – ответили ребята.
Я сбегал в магазин, купил две бутылки и – обменял их на два рулона.
Они оказались гладкие и тяжёлые и всё время норовили выскользнуть, и я с трудом дотащил их до квартиры.
Зато появилась реальная возможность устроить крышу моего строения, да и с боков прикрыться от ветра.
Когда всё было сделано, я встал в дверном проёме своего бунгало и молча смотрел, как снаружи идёт дождь… и, пожалуй, впервые в жизни поймал себя на том, что смотрю на окружающее снисходительно, сверху вниз.
Если я сумел сделать это – я смогу всё.
Этюды о рыбалке
Когда Хемингуэй понял, что на родине (то есть в Америке) ему жить неудобно, он обосновался неподалеку – на Кубе.
Там и работалось хорошо, и отдыхалось хорошо.
Он был профессионал высокого класса, он уже побывал военным корреспондентом в Испании, роман о гражданской войне в Испании был почти готов.
Хемингуэй работал как автомат – тысяча слов в день. Каждый день. Ежедневно.
Невзирая ни на какие свои состояния (а состояния были, уже не так уж молод, здоровье уже пошаливает, и очень нравится местный напиток – дайкири со льдом… и ром кубинский тоже неплох… ну, и виски, конечно… куда ж без виски).
На Кубе он сделал самое главное открытие своей жизни: после хорошего честного (а ничего другого он не признавал) трудового дня напряжение можно снять двумя способами.
Только двумя.
Первый – алкоголь.
Второй – рыбалка.
Это было фундаментальное открытие и позволяло сделать следующий шаг.
Гениальная догадка: если объединить оба способа, то эффект усилится. Напряжение как рукой снимет.
На Кубе это было легко проверить…
Каждый день с утра – тысяча слов (подсчитано скрупулёзно, именно тысяча, если меньше – увязнешь в романе, если больше – переутомишься, а это недопустимо, снижается качество текста).
Когда очередная тысяча была вывалена на листы бумаги, Хемингуэй отстранялся от конторки (письменный стол как рабочее место не признавал, только конторка – и бодрит, и простатита не будет, да и геморроя тоже) и направлялся к причалу, где ждала его лодка.
Два слова о лодке.
Если кто-то подумал, что это что-то вроде шлюпки, прогулочного ялика с вёслами, тот ошибся. Сильно ошибся.
Его лодка была с капитанской рубкой, с каютой внутри, с широкой кормой, где располагались два плетёных кресла и специальные гнёзда для крепления удилищ.
В лодке его уже ждал специальный человек, универсальный помощник, который следил за двигателем (чтобы всегда был исправен и заправлен топливом), за наживками (чтобы всегда сардинки были свежими и обложены кусками льда) и чтобы шкафчик в каюте не пустовал, я уже примерно обозначил содержимое – джин, ром, виски… ну, ещё пиво, конечно.
Под таким солнцем в открытом океане – без пива? Вы шутите.
Завидев Хемингуэя, этот «подсобный человек» запускал двигатель, и лодка гостеприимно и любовно принимала в себя прославленного писателя.
– Как дела, дружище?
Лодка отваливала от пирса и начинала движение к океану, осторожно проталкиваясь между всякими прочими яхтами, катерами, лодками и так далее.
Хемингуэй спускался в каюту и изучал содержимое шкафчика.
Бутылки стояли в ряд и весело позвякивали в такт тарахтению двигателя.
Определившись в симпатиях, Хемингуэй выпивал стаканчик, убеждался, что не ошибся в выборе, и с несколькими удочками выбирался на корму, где они – вдвоём, так сподручнее – распускали снасти, насаживали на крючки сардинки из ящика со льдом и закрепляли удилища в специальных гнёздах, специально для того и предусмотренных.
Вы видели океан?
Зря. Это надо видеть, это стоит того.
Нет берега, ровная поверхность воды, небо… и воздух. Ветер-ветерок.
Ты – и Бог, Творец, Создатель, Вседержитель.
Больше никого, только вы двое.
(Становится понятно, почему раньше моряки были самыми набожными людьми.)
Управившись с удочками, Хемингуэй снова спускается к шкафчику и возвращается уже со стаканом в одной руке и бутылкой в другой.
– Идём на Гольфстрим.
Там крупный тунец, там…
Вы читали «Старик и море»?
Зря. Почитайте, вещь стоит того. Нобелевскую премию так просто не дают.
И марлин – это тоже вещь, надо сказать.
Всё. Релаксация. «Два в одном».
«Здорово я всё-таки это открыл – два в одном», – думает Хемингуэй.
Лодка движется к Гольфстриму, над ней – чайки.
При чём тут Хемингуэй?
Как же – тоже моя любовь.
Моё сердце, оказывается, любвеобильно, и это при том, что человек я злой.
Да, любовь.
Очерёдность такая: сперва – Джек Лондон. Сильная вещь, рекомендую.
Потом – Максим Горький. Тоже сильно, тоже рекомендую.
Потом двое боролись за моё сердце, и оба победили – Александр Грин и Александр Куприн (обоих рекомендую).
Потом Паустовский. Тут я крупно залетел. Всё, начиная с «Романтиков»… «Блистающие облака», «Повесть о лесах», «Повесть о золотой розе», «Повесть о жизни»… я несколько раз прочёл его шеститомник.
А когда я случайно прочёл «Фиесту» и узнал таким образом что есть такой американский писатель Хемингуэй – я понял, что залетел ещё круче, чем с Константином Георгиевичем.
Почему? Не знаю. Любовь… «любовь как пташка…» Возникает из ничего. Из всего нажитого опыта жизни.
(Ну вот Кармен – да?)
В эпиграфе «Фиесты» цитата из Екклезиаста: «И восходит солнце, и заходит солнце…» (тогда я впервые услышал эти слова и в них тоже влюбился).
Да, тут какая-то магия. Всем рекомендую, высочайшая, мощнейшая поэзия.
Хемингуэй был мастером эпиграфов.
«Килиманджаро – покрытый вечными снегами горный массив, высотой в 19710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик „Нгайэ-Нгайя“, что значит „Дом бога“. Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может».
Что это?
Это эпиграф к рассказу «Снега Килиманджаро», рассказу автобиографическому.
Я прочёл рассказ, эпиграф мне понравился больше, чем всё остальное.
Иссохший труп леопарда меня заворожил… заколдовал на всю оставшуюся жизнь.
«Вот как надо писать», – подумал я тогда…
Отвлекусь, тема очень уж занимательная.
Когда Паустовский стал уже старенький, сильно стала досаждать и отравлять жизнь привычка много курить, и он стал чувствовать себя плохо и терял способность работать самостоятельно, а не работать он не мог, его работа была его жизнь, и он, волнуясь и запинаясь, пытался диктовать очередное произведение своей жене, а она старалась записывать и боялась что-то пропустить, отстать…
Как-то вечером в дверь постучали, она дверь открыла, и в квартиру вошли несколько человек в штатском.
– Константин Георгиевич дома?
У неё подкосились ноги.
Она прекрасно знала – что это такое, когда вот так приходят.
Пыталась сообразить – за что? Может, Нобелевскую наконец дали?
Нет, тут такое дело…
Прошли в комнату, говорят Паустовскому – мягко, уважительно и даже со смущением.
На арест не похоже.
Тут такое дело.
Одна шикарная баба приехала из-за границы, чтобы тебя, старого мудака, увидеть. Так что собирайся быстренько, машина ждёт.
Паустовский ничего не понимает, внутри страх остаётся.
Его привозят в концертный зал и выводят на сцену, и к нему устремляется, да, действительно шикарная баба, не обманули, мерзавцы. Она подходит, высокая, стройная, светлая, красивая до изумления, в блестящем узком платье, берёт Константина Георгиевича за руку и опускается перед ним на колени.
Битком набитый зал – половина из органов, другая из партноменклатуры – замирает и, кажется, перестаёт дышать.
А она целует старческую руку, плачет и говорит быстро-быстро, переводчик едва успевает.
Ещё в войну она прочитала рассказ Паустовского «Телеграмма» и почувствовала, что обязана поцеловать руку, написавшую этот рассказ.
За этим и приехала.
(А вы – что, подумали, что на вас, мудаков, любоваться? Это была Марлен Дитрих, звезда мирового уровня.)
Ну вот, всё нужное – обозначено.
Теперь собственно опыт личный.
(Собственно, я об этом и собирался…)
Это занятие – рыбная ловля – была моей страстью первые тридцать три года моей жизни.
Первые опыты.
Речка, скорее даже ручей – с прозрачной холодной водой, в жаркую пору сильно мелеющий, но не пересыхающий, всё время подпитка родниковая.
Название смешное – Друченка.
Три вида рыб: горькушка (прообраз голавля), лежбак (прообраз налима) и бабка-ёбка (прообраз бычка, рыбы морской, большая плоская голова с хвостиком).
Всё размером не больше ладони.
Снасти. За леску – белая суровая нитка, за поплавок – кусок сосновой коры, за грузила – свинцовая дробинка (легко режется ножом), удилище – ивовый прут.
Остаётся крючок, и это – особая тема.
Раз в неделю приезжал на телеге старьёвщик. Скупал разное барахло и продавал кое-что по мелочи. Ну и рыболовные крючки, конечно.
Когда он приезжал, мы начинали судорожно соображать, какое старое барахло можно ему продать (своих денег у нас не было), и – приобретали крючки.