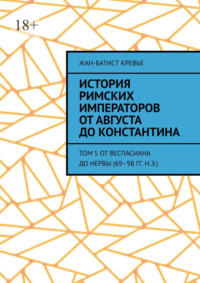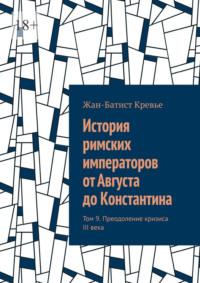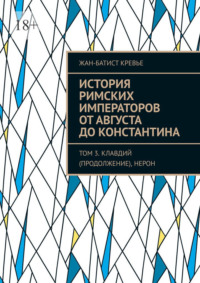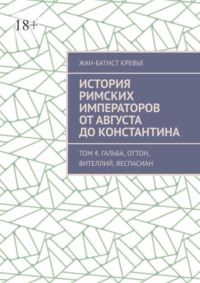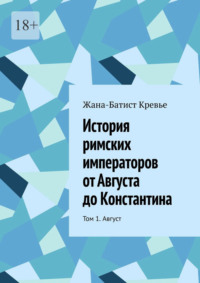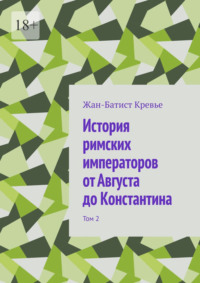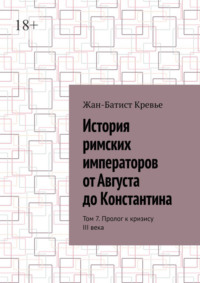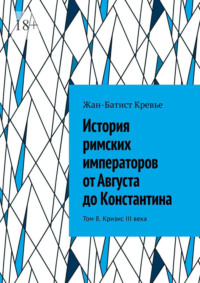Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 6. Период «Пяти добрых императоров»
«Я имею обыкновение, государь, обращаться к тебе во всех моих сомнениях. Ибо кто лучше тебя может разрешить мои затруднения или восполнить недостаток моих знаний? Мне никогда не приходилось присутствовать на следствии или суде по делам христиан, и потому я не знаю, что именно в этом случае заслуживает наказания и в каких пределах следует применять строгость кары или тщательность расследования. Поэтому я немало затруднялся в решении многих вопросов: следует ли делать различие между возрастами или же самых юных надлежит наказывать наравне со взрослыми; заслуживает ли прощения раскаяние или же тот, кто был христианином, ничего не выигрывает, перестав им быть; должно ли наказывать одно только имя, даже если за ним не стоит никакого преступления, или же преступления, связанные с этим именем. Вот как я поступал в отношении тех, кого мне доносили как христиан. Я спрашивал их, христиане ли они. Признавшихся я спрашивал во второй и третий раз, угрожая смертью. Если они упорствовали, я приказывал вести их на казнь. Ибо, не вникая в то, преступно ли их признание, я не сомневался, что по крайней мере их упрямство и непреклонное упорство заслуживают наказания. Среди тех, кто дошел в своем безумии до такой крайности, оказалось несколько римских граждан; я отделил их от прочих и отправил в Рим.
Внимание, уделяемое такого рода делам, умножило их число, как это обычно бывает, и представило мне новые случаи для решения. Мне подали анонимный донос с длинным списком имен. Но те, на кого в нем указывалось, отрицали, что они христиане или когда-либо были ими. Действительно, они вслед за мной повторили молитвы, которые мы возносим богам; воскурили фимиам и возлили вино перед твоим изображением, которое я велел принести вместе со статуями богов; наконец, они прокляли Христа, как они его называют. На этом основании я счел возможным освободить их от обвинения. Ибо говорят, что истинных христиан нельзя принудить ни к чему подобному.
Нашелись и другие, которые сначала признались, что они христиане, а затем отреклись; были и такие, которые признали, что были христианами в прошлом, но теперь, вот уже три года, давно, а некоторые даже двадцать лет, не являются ими. Все они поклонились твоему изображению и статуям богов и согласились проклясть Христа. Впрочем, они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли лишь в том, что они собирались в определенный день до восхода солнца, воспевали Христа как Бога и клятвенно обязывались не совершать никаких преступлений, а только не красть, не грабить, не прелюбодействовать, не нарушать данного слова и не удерживать вверенного им имущества. После этого они расходились, а затем снова собирались для вкушения безобидной пищи. Они добавляли, что прекратили эти собрания после твоего указа, которым, согласно твоему повелению, я запретил тайные сходки.
Чтобы удостовериться в истинности их показаний, я приказал подвергнуть пытке двух рабынь, но не обнаружил ничего, кроме суеверия, исполненного извращенности и безумия. По этим соображениям я приостановил следствие и решил обратиться к тебе за советом, тем более что число обвиняемых очень велико и среди них люди всякого возраста, пола и состояния. Ибо зараза этого суеверия распространилась не только по городам, но и по деревням и селам. Впрочем, зло это еще не безнадежно. Уже теперь видно, как храмы, почти опустевшие, вновь наполняются народом, а давно прекращенные торжественные жертвоприношения возобновляются. Раньше почти не находилось покупателей для жертвенных животных, теперь же их продается множество. Отсюда легко заключить, какое множество людей можно вернуть, если дать им возможность раскаяться».
Это письмо бесконечно ценно для нас как прекрасное свидетельство о чистоте нравов наших первых отцов; свидетельству этому нельзя не доверять, ибо оно исходит от того, кто осуждал их на смерть. Оно подтверждает необычайное умножение числа христиан спустя так мало времени после возникновения христианства. Оно дает нам повод сожалеть о слепоте человека столь просвещенного и разумного, как Плиний, который, не исследуя истинности или ложности учения, карает смертью всякого, кто остается ему верен. Траян, столь мудрый и добрый государь, не проявил большей справедливости, чем его наместник. Вот его ответ.
Вы поступили как должно, мой дорогой Плиний, при рассмотрении дел тех, кого обвиняли перед вами как христиан; ибо невозможно установить общее правило или единую процедуру, применимую ко всем случаям. Не следует предпринимать специальных розысков для их обнаружения. Если их приводят на ваш суд и изобличают, вы должны наказать их; с той оговоркой, однако, что если кто-то отрицает свою принадлежность к христианам и подтверждает это делами – то есть поклонением нашим богам, – то даже если в прошлом он был под подозрением, его раскаяние должно принести ему прощение. Что касается анонимных доносов, их не следует принимать во внимание ни в каком деле. Это слишком дурной пример, не соответствующий нашему времени.
Было вполне достойно Траяна запретить использование анонимных доносов: но в первой части его ответа какая непоследовательность – с одной стороны, запрещать разыскивать христиан, а с другой – приказывать наказывать их как преступников, если кто-то их обвинит!
Таково, впрочем, представление о гонениях, которые претерпевала Церковь при Траяне. Хотя этот император, движимый, возможно, суеверной ревностью к своей религии или, скорее, введенный в заблуждение ложной политикой, заставлявшей его считать любую новизну в вопросах культа опасной для государства, ненавидел христиан и санкционировал их казни, он не издал всеобщего эдикта против них. Народные волнения, произвол и жестокость провинциальных наместников, закон, который Траян установил для себя – казнить за упорство в христианстве, – вот причины, по которым в его правление появилось множество мучеников. Самые известные из этих доблестных воинов Христовых – святой Симеон Иерусалимский и святой Игнатий Антиохийский; но рассказ об их славной смерти принадлежит церковной истории: я ограничусь своим предметом.
Не похоже, чтобы Плиний прожил долго после возвращения из управления Понтом и Вифинией. История больше не упоминает о нем, а события, описанные в его письмах, не выходят далеко за эти пределы.
Невозможно читать этого автора, не полюбив его; и я бы счел своим долгом нарисовать здесь, на основании фактов, которые предоставляют его письма, картину его души и всех его прекрасных качеств, если бы это уже не было сделано рукой более ученой, чем моя. Роллен [51] с удовольствием изобразил характер, весьма схожий с его, разве что у Роллена религия возвышала и освящала добродетели, которые Плиний умалял любовью к суетной славе, бывшей его конечной целью.
Поскольку г-н Роллен не мог и не должен был сказать всего, он опустил один факт, который мне кажется весьма интересным во всех своих обстоятельствах и очень почетным для Плиния [52]. Я думаю, читателю будет приятно найти его здесь. Помпония Гратилла, которая, видимо, была вдовой Арулена Рустика и которую Домициан сослал одновременно с казнью ее мужа, имела от другого брака сына по имени Ассудий Куриан, чье поведение ее мало удовлетворяло. Она лишила его наследства в завещании, назначив наследниками Плиния вместе с Серторием Севером, бывшим претором, и несколькими римскими всадниками знатного имени и положения. Куриан, решив оспорить завещание, предложил Плинию уступить ему свою долю наследства, пообещав дать встречное письмо, которое аннулировало бы дарение. Цель Куриана состояла в том, чтобы создать предубеждение против действительности завещания, которое он хотел отменить. Плиний ответил ему, что не в его характере совершать публичный поступок, чтобы тайным актом его разрушить. «Кроме того, – добавил он, – вы богаты, у вас нет детей; дарение, которое я вам сделаю, будет выглядеть подозрительно. Наконец, в том виде, как вы просите, оно вам не принесет пользы; тогда как отказ от моего права в вашу пользу был бы вам полезен; и я готов его оформить, если буду убежден, что вас несправедливо лишили наследства». – «Хорошо, – ответил Куриан, – я беру вас самого в судьи». Плиний на мгновение заколебался, но, подумав, сказал: «Согласен; ибо почему я должен думать о себе хуже, чем вы? Но предупреждаю вас, и помните это: у меня хватит мужества, если ваше дело плохо, подтвердить решение вашей матери». – «Пусть будет по-вашему, – ответил Куриан, – ибо вы не пожелаете ничего, кроме справедливого». Плиний взял себе в советники двух самых уважаемых людей города – Корнелия и Фронтина – и в их присутствии устроил заседание в своих покоях. Куриан изложил свою позицию. Плиний ответил ему, поскольку никто другой не мог защитить честь завещательницы; затем он удалился с советниками в кабинет и, по их мнению, вынес решение в таких словах: «Куриан, у вашей матери были веские основания лишить вас наследства».
Такой приговор, в котором Плиний выступил и судьей, и адвокатом, и стороной, был уважен тем, против кого он был вынесен. Куриан вызвал других наследников по завещанию своей матери в суд центумвиров, но не привлек к делу Плиния. Уже приближался день суда, и сонаследники Плиния опасались исхода из-за неблагоприятных времен. Домициан еще был жив; и поскольку некоторые из них были друзьями Рустика и Гратиллы, они боялись, как бы гражданское дело не превратилось для них, как уже бывало, в уголовное. Они выразили Плинию свои опасения и желание договориться. Плиний взял на себя переговоры. Он предложил Куриану то, что юристы называют «фальцидиевой четвертью» – четверть наследства, гарантированную законом Фальцидия наследникам по крови, – и обязался внести свою долю. Куриан принял предложение; и что особенно показывает, какое уважение и почтение вызывает безупречная честность, – этот самый Куриан, умирая несколько лет спустя, оставил Плинию завещательный дар, который, хотя и был скромен по стоимости, в тех обстоятельствах доставил ему больше удовольствия, чем богатое наследство.
Плиний был тесно связан дружбой с Тацитом; основой этой связи стали общие чувства честности и ненависти к тирании, а также любовь к литературе и занятия красноречием, которые их объединяли [53]. Их охотно упоминали вместе как двух величайших ораторов своего времени, и Плиний с удовольствием рассказывает небольшой случай, подтверждающий это. Однажды на зрелище Тацит оказался рядом с незнакомцем, который после долгого разговора о литературных темах спросил, с кем беседует. «Вы меня знаете, – сказал Тацит, – даже через сочинения». – «Вы Тацит или Плиний?» – живо воскликнул незнакомец. Сама мысль о литературе и красноречии сразу же вызывала имена этих двух знаменитых друзей, бывших их главными представителями.
Между ними не было ни соперничества, ни зависти. Они обменивались своими трудами, чтобы получать советы друг от друга, и делали это с искренностью и прямотой. Плиний, будучи моложе Тацита, с юных лет стремился подражать ему и следовать за ним, хоть и на большом расстоянии, как он сам выражался. Он достиг желаемого, что стало для него источником радости. «Я счастлив, – пишет он Тациту [54], – что, говоря о красноречии, нас называют вместе; упоминая вас, мое имя следует за вашим. Есть ораторы, которых ставят выше нас обоих, но мне неважно, на каком месте мы связаны, ибо для меня высшая честь – быть вторым после вас. Вы, наверное, замечали, что в завещаниях, если только завещатель не близкий друг одного из нас, нас включают вместе и назначают одинаковые доли. Все это должно укреплять нашу взаимную привязанность, ведь литература, сходство нравов, слава и даже последняя воля усопших связывают нас столькими узами».
Похоже, Тацит пережил Плиния, так как последний, подробно описывая в письмах и восхваляя всех умерших друзей, ни словом не упоминает о смерти Тацита. Можно предположить, что Тацит, судя по масштабу его трудов, дожил до глубокой старости при Траяне. Действительно, он начал писать исторические сочинения именно при этом императоре. Его первая работа – «О происхождении и местоположении германцев» – датируется вторым консульством Траяна, совпавшим с первым годом его правления. Затем Тацит создал «Жизнеописание Агриколы». Успех этих шедевров вдохновил его на «Историю», охватившую 28 лет – от второго консульства Гальбы до смерти Домициана. Он упоминает [55], что планировал описать правления Нервы и Траяна, но, хотя и радовался возможности сохранить такой благодатный материал для старости и хвалил эпоху, где «можно думать, что хочешь, и говорить, что думаешь», его свободный дух, вероятно, не позволил писать историю живого правителя, пусть и достойного. Закончив «Историю», он обратился к более ранним временам и создал «Анналы» – от смерти Августа до Нерона. Он планировал также описать правление Августа, но смерть или болезни помешали этому. Из 30 книг его трудов сохранилось 17, причем четыре – в поврежденном виде.
Тацит, возможно, был сыном Корнелия Тацита, римского всадника и прокуратора Белгики, упомянутого у Плиния Старшего [56]. Карьеру начал при Веспасиане, стал претором при Домициане, консулом – при Нерве. Его исторические труды обессмертили имя. Я стремился включить их в свою работу, и через мое изложение читатели узнают его лучше, чем я смог бы описать.
Другой менее известный, но заметный литератор, Силий Италик, умер в первые годы правления Траяна [57]. Он запятнал репутацию при Нероне, но восстановил ее при Вителлии и как проконсул Азии. В старости, удалившись от дел, он писал поэму о Второй Пунической войне. Плиний отмечал, что в его стихах больше труда, чем таланта. Силий жил в почете, коллекционировал статуи великих, особенно почитая Вергилия. В 75 лет, страдая от неизлечимой болезни, он уморил себя голодом, став последним из консулов, назначенных Нероном.
Вскоре после него умер поэт Марциал [58], автор едких эпиграмм. Лишившись милостей Домициана, он покинул Рим и вернулся в испанский Бильбилис [59], получив перед отъездом подарок от Плиния. Умер около 851 года от основания Рима, прожив в изгнании три года.
Считают, что Ювенал написал большую часть своих сатир в правление Траяна. Они сильно отдают, как заметил г-н Депрео*, криками школы, в которой воспитывался автор. В них, без сомнения, встречаются великие и прекрасные максимы, благородство, энергия; но эта энергия часто доходит до циничной наглости; к тому же в целом в этих произведениях царит декламаторский тон, мало способный нравиться тем, кто сумел оценить изысканную веселость, легкую грацию и милую непринужденность сатир Горация. Я не побоюсь сказать, что Ювенал, как мне кажется, даже ниже Персия**, который, без сравнения, скромнее, содержательнее, и чей темный, но без напыленности стиль выдает писателя, убежденного в том, что он говорит.
К стольким именам, более или менее значимым в литературе, я полагаю нужным добавить одного их современника, который походил на них лишь в безобразии: плохой оратор, бесчестный человек, но знаменитый, влиятельный, пользующийся доверием и обогатившийся благодаря злоупотреблению искусством речи. Речь о Регуле, о котором я уже не раз упоминал и о котором Плиний*** сообщает несколько любопытных и интересных анекдотов.
Регул – пример того, на что способны дерзость и наглость без помощи таланта и почти вопреки природе. У него был слабый и невнятный голос [60], тяжелый язык, мало изобретательности, никакой памяти; и тем не менее он восполнял все свои недостатки неистовой горячностью, которая впечатляла толпу и заставляла тех, кто не разбирался в ораторском искусстве, считать его оратором. Это был пылкий характер, могущественный в интригах. Если ему предстояло вести дело, он требовал и получал право говорить столько, сколько считал нужным; он собирал толпу слушателей своими происками; короче, он умел использовать все средства, которые желание блистать и шуметь заменяют истинным достоинством.
К безумному честолюбию он добавлял страсть к богатству, и все пути были для него хороши, чтобы его стяжать. Мы видели, как он, еще молодой, наживался на крови невинных, которых обвинял. Он получил от Нерона семь миллионов сестерциев [61] за помощь в уничтожении дома Крассов. С не меньшим рвением он стремился попасть в завещания богачей, используя для этого одновременно хитрость и дерзость. Вот несколько примеров такого рода, собранных Плинием в одном письме.
Пизон Лициниан, брат Красса, чью гибель вызвал Регул, и сам сосланный, вероятно, по проискам этого опасного клеветника, – Пизон, позже усыновленный Гальбой и убитый вместе с ним, – оставил вдову по имени Верания, дожившую до правления Траяна. Когда эта дама тяжело заболела, Регул, зная, как он должен быть ей ненавистен, все же пришел навестить ее, сел у ее ложа и, притворяясь глубоко заинтересованным в ее здоровье, разыграл роль астролога. Он спросил, в какой день и час она родилась. Получив ответ, он принял серьезный и сосредоточенный вид, шевелил губами, считал на пальцах – все это, чтобы держать больную в напряжении и заставить ждать чего-то чудесного. «Вы в своем критическом году, – сказал он, – но вы выздоровеете. И чтобы вы в этом убедились, я посоветуюсь с гаруспиком, чьи знания не раз проверял». Он действительно принес жертву и сообщил Верании, что внутренности жертв согласуются с указаниями звезд. Охотно верят тому, чего желают: больная, обнадеженная мыслью о выздоровлении, потребовала завещание и добавила в него дар Регулу. Вскоре болезнь усилилась; она почувствовала, что умирает, и перед смертью горько жаловалась на обман. Но обманщик уже держал добычу и смеялся над этими запоздалыми и бессильными жалобами.
Менее удачной оказалась другая его афера против Веллея Блеза, богатого консулярия. Он долго за ним ухаживал, когда Блез тяжело заболел и выразил желание изменить завещание. Регул не сомневался, что получит в новом завещании значительную долю, и умолял врачей сделать все, чтобы продлить жизнь больного. Когда завещание было составлено и подписано, он переменил тон. «Доколе, – говорил он тем же врачам, – будете мучить бедного умирающего? Зачем отказываете ему в легкой смерти, если не можете дать жизнь?» Блез умер и, словно слыша все речи Регула, не оставил ему ни гроша.
Наглость, как я уже говорил, была в нем не меньше, чем плутовство. Следующий случай это доказывает. Знатная дама по имени Аврелия, желая подписать завещание при семи свидетелях, как требовало римское право, попросила Регула быть одним из них. Для церемонии подписания она надела очень красивую одежду; Регул выразил желание, чтобы она завещала ему эти наряды. Аврелия сначала подумала, что он шутит; но он говорил совершенно серьезно. Он настойчиво просил, заставил ее вскрыть завещание и вписать требуемый дар, наблюдал, как она пишет, а затем проверил, все ли сделано правильно. Такими махинациями он, родившийся без состояния, так сказочно разбогател, что однажды сказал Плинию, будто хотел узнать по внутренностям жертв, когда его владения достигнут шестидесяти миллионов сестерциев [62], и предзнаменования обещали ему вдвое больше.
При таком богатстве у Регула был лишь один сын, которого он потерял почти ребенком. Плиний сомневается, что отец искренне горевал, и подозревает, что расчет в его душе преобладал над естественными чувствами: ведь он эмансипировал сына, чтобы тот мог распоряжаться своим материнским наследством, которое было значительным, а затем раболепно льстил ему, надеясь, что ребенок назначит его наследником. Таким образом, смерть сына была ему выгодна; но чем меньше было настоящей скорби, тем больше он выказывал ее напоказ – с таким шумом, что выдавал притворство. У мальчика были верховые и упряжные лошадки, собаки, соловьи, попугаи, дрозды; Регул приказал зарезать всех этих животных вокруг погребального костра. Он умножил всеми способами статуи и изображения того, кого хотел оплакивать: в бронзе, воске, на холсте, в серебре, слоновой кости, мраморе. Сам он написал книгу о жизни сына, умершего ребенком, и публично зачитал ее перед толпой. Более того, он разослал тысячу копий по всей Италии и провинциям и писал в сенаты городов, прося назначить члена с самым сильным и красивым голосом, чтобы прочесть книгу собравшемуся народу.
Я завершу этот, возможно, слишком длинный фрагмент о Регуле метким замечанием Плиния. «Какая живость! – говорит он [63]; какой огонь! Сколько добра мог бы совершить Регул, если бы направил эту силу на достойные цели!» – «Я ошибаюсь, – тут же добавляет Плиний, – добрые менее деятельны, чем злые; и подобно тому, как невежество рождает смелость, а знание, напротив, часто приводит к робости, так и добродетельные натуры ослабляются в своих действиях скромностью, которая их сдерживает, тогда как дерзость укрепляет порочных».
В другом месте я уже отмечал, как низким и угодливым стал Регул после смерти Домициана. Он прожил ещё несколько лет. Из письма Плиния можно заключить, что он умер до 853 года от основания Рима.
После упоминания мужей, прославившихся в литературе, не забудем и о знаменитом отроке – Валерии Пуденте, который в возрасте тринадцати лет одержал победу в поэтическом состязании на Капитолийских играх в 857 году.
Давно уже мы потеряли из виду Траяна. Необходимо вернуться к этому императору и рассказать то, что нам известно о второй войне, которую он предпринял против даков.
[1] Я отступаю от текста Диона или его сокращенного изложения, согласно которому Траян обещал не лишать ни жизни, ни чести ни одного добродетельного человека: обещание расплывчатое, которое мог дать как самый решительный тиран, так и лучший правитель. Я передал то, что мой автор должен был сказать, а не то, что он говорит.
[2] Плиний Младший, «Панегирик», 20.
[3] Плиний Младший, «Панегирик», 22.
[4] Плиний Младший, «Панегирик», 22.
[5] В 1747 году в Пьяченце был найден оригинальный документ, выгравированный на бронзовой таблице, который подтверждает эту щедрость Траяна и выделенные им средства на пропитание детей обоего пола. Этот документ был включен Антуаном Террассоном в его «Историю римского права».
[6] Плиний Младший, «Панегирик», 94—95.
[7] Плиний Младший, «Панегирик», 41.
[8] Не знаю, основано ли на опыте утверждение Траяна о селезёнке. Достаточно того, что таково было тогда общее мнение.
[9] Плиний Младший, «Панегирик», 44.
[10] Плиний Младший, «Панегирик», 45.
[11] АВРЕЛИЙ ВИКТОР, «О цезарях», 13.
[12] Плиний Младший, «Панегирик», 44.
[13] ЕВТРОПИЙ, VIII, 5.
[14] Плиний Младший, «Панегирик», 85.
[15] Плиний Младший, «Панегирик», 82.
[16] Плиний Младший, «Панегирик», 81.
[17] Плиний Младший, «Панегирик», 82.
[18] Плиний Младший, «Панегирик», 83—84.
[19] Плиний Младший, «Панегирик», 45.
[20] Плиний Младший, «Панегирик», 44.
[21] Плиний Младший, «Панегирик», 45.
[22] Плиний Младший, «Панегирик», 47.
[23] Плиний Младший, «Панегирик», 50.
[24] Плиний Младший, «Панегирик», 51.
[25] «ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫСОКА БЫЛА ГОРА И МЕСТО, РАСЧИЩЕННОЕ ТАКИМИ УСИЛИЯМИ».
[26] Плиний Младший, «Панегирик», 55.
[27] АММИАН МАРЦЕЛЛИН, XXVII.
[28] Плиний Младший, «Панегирик», 2.
[29] Плиний Младший, «Панегирик», 62.
[30] Плиний Младший, «Панегирик», 67 и 68.
[31] Плиний Младший, «Панегирик», 69.
[32] Плиний Младший, «Панегирик», 71.
[33] Плиний Младший, «Панегирик», 72.
[34] Плиний Младший, «Панегирик», 72.
[35] Плиний Младший, «Панегирик», 74.
[36] ЮВЕНАЛ, «Сатиры», I.
[37] Плиний Младший, «Письма», III, 9.
[38] Плиний Младший, «Письма», III, 14.
[39] Штюмайзе утверждает, что этого римского всадника звали Аттиан, а не Татиан. Но это различие несущественно.
[40] ФИЛОСТРАТ, «Жизни софистов», I, 7.
[41] Плиний Младший, «Письма», IV, 8.
[42] ТАЦИТ, «Агрикола», 17.
[43] Плиний Младший, «Письма», V, 1; IV, 8; X, 8.
[44] Плиний Младший, «Письма», IV, 8.
[45] «Римская история», т. VII, кн. 27, стр. 247.
[46] Плиний Младший, «Письма», III, 20.
[47] Плиний Младший, «Письма», IV, 25.
[48] Плиний Младший, «Письма», V, 4, 14 и 21.
[49] Чивитавеккья.
[50] Плиний Младший, «Письма», X, 97.
[51] См. «Древнюю историю», т. XI, стр. 294 и далее.
[52] Плиний Младший, «Письма», V, 1.
[53] Плиний Младший, «Письма», IX, 23.
[54] Плиний Младший, «Письма», VII, 20.
[55] ТАЦИТ, «История», I, 1.
[56] ПЛИНИЙ, «Естественная история», VII, 16. Ср. ТАЦИТ, «История», I, 1; Плиний Младший, «Письма», II, 11.
[57] Плиний Младший, «Письма», III, 7.
[58] Плиний Младший, «Письма», III, 20.
[59] Кажется, Бильбилис находился недалеко от нынешней Калатаюда в Арагоне.
[60] Плиний Младший, «Письма», IV, 7.
[61] Восемьсот семьдесят пять тысяч ливров.
[62] Семь миллионов пятьсот тысяч ливров.
[63] Плиний Младший, «Письма», IV, 7.
§ II. Вторая война Траяна против даков
Согласно хронологии г-на де Тилемона, начало второй войны Траяна против даков мы относим к 855 году от основания Рима. Причиной возобновления войны Дион [1] называет Децебала, который открыто нарушал все условия предыдущего мирного договора. Он принимал римских дезертиров, изготавливал оружие, восстанавливал крепости, призывал соседние народы к союзу с собой. Из некоторых писем Плиния к Траяну [1] можно даже заключить, что Децебал поддерживал тайные связи с парфянами. Он нападал и тревожил народы, выступившие против него в прошлой войне, и силой захватил область, принадлежавшую язигам.