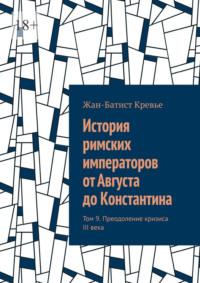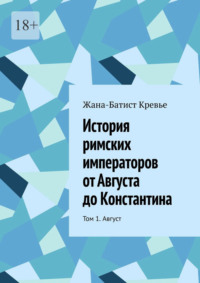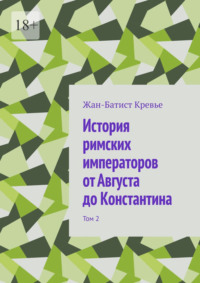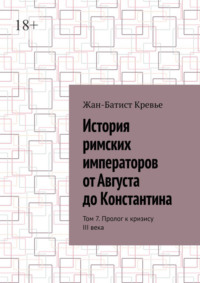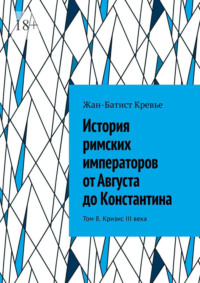Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 6. Период «Пяти добрых императоров»
Его доброта распространялась не только на друзей; она проявлялась в легкости его аудиенций, на которые он допускал всех без различия. Ни одна площадь, ни один храм не были более открыты и доступны, чем дворец Траяна. Нерва приказал поместить на фронтоне императорского дворца надпись: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ». Траян полностью оправдывал это название; казалось, что жилище принцепса было жилищем всех граждан: там не было закрытых дверей, никто не встречал отказа или препятствий со стороны стражи; все там было скромно и спокойно, как в частном доме: Траян принимал всех, выслушивал каждого, кто к нему обращался. Человечный, приветливый, занятый делами, о которых ему говорили, как будто у него не было других, он даже вступал в непринужденные беседы с теми, кто не имел к нему никаких дел. Была полная свобода приходить выражать ему почтение и полная свобода отсутствовать. Живя так среди своих граждан, как отец среди детей, он находил в любви народов безопасность, которую усиленная стража, террор и жестокость не смогли обеспечить Домициану. «Да, – говорит Плиний, – мы знаем по опыту, что лучшая защита для принцепса – это его доброта и добродетель. Нет крепости, нет стены более неприступной, чем отсутствие нужды ни в крепости, ни в стене. Напрасно окружать себя грозной стражей тому, кто не защищен любовью своих; оружие раздражает и провоцирует оружие».
Траян умел ценить удовольствия общества, и они служили приправой его трапезам. За его столом всегда присутствовали некоторые из первых и самых добродетельных граждан. В его беседах царила свобода и даже веселость; он шутил, отвечал. Там не восхищались золотой и серебряной посудой, ни разнообразием блюд и изысканностью соусов. Приятная веселость, непринужденные разговоры, иногда затрагивающие литературные темы, делали трапезу Траяна истинным и приятным отдыхом как для императора, так и для его гостей.
В целом, манеры Траяна были просты, и его развлечения носили отпечаток этой простоты. Он любил охоту и занимался ею без роскоши и изнеженности, сам спугивал зверя и преследовал его через горы и долины. Если он совершал морскую прогулку, то наблюдал за маневрами, сам участвовал в них и брался за весло, когда нужно было побороть ярость ветра и волн.
Я не устаю цитировать самые прекрасные размышления Плиния. Вот как он рассуждает о характере развлечений Траяна:
«Есть удовольствия, – говорит он [15], – которые свидетельствуют о чистоте нравов и умеренности того, кто их испытывает. Кто из людей не имеет хотя бы видимости серьезности в своих занятиях? Досуг нас раскрывает. Охота, это военное упражнение, делает честь принцепсу, чьи развлечения – лишь смена труда [16]. – Не то, – добавляет Плиний [17], – чтобы забота о закалке тела и придании ему силы сама по себе заслуживала больших похвал, но если это крепкое тело управляется еще более крепким духом; если к внешней силе присоединяется мужество, не изнеженное и не ослабленное милостями судьбы и удовольствиями, окружающими трон, – вот тогда я восхваляю упражнение, в котором усталость приятна и где прирост сил покупается ценой трудных походов».
Пример добродетелей Траяна сначала повлиял на его семью. Его жена и сестра подражали его скромности; они жили в полном согласии и делали его столь же счастливым в частной жизни, сколь он был велик на публике: по крайней мере, так говорит Плиний, чьи похвалы, возможно, здесь несколько преувеличены; ведь постоянное покровительство, которое Плотина оказывала Адриану вопреки желанию Траяна, и интриги, которые она вела, чтобы возвести того же Адриана на трон, не дают хорошего представления о почтительности этой императрицы к воле своего супруга.
Но ничто не мешает нам верить свидетельству Плиния [18], когда он утверждает, что общественные нравы преобразовались по образцу принцепса, и что при столь добродетельном императоре люди стыдились любить порок. «Такова, – говорит он [19], – сила примера государя. Мы – мягкий воск в его руках; мы следуем за ним, куда бы он ни повел; ибо мы хотим заслужить его расположение и уважение, чего не могут добиться те, кто на него не похож. Добавьте мощный стимул наград. В самом деле, добродетель или порок [20], получающие воздаяние, формируют хороших или дурных людей. Немногие обладают душой достаточно возвышенной, чтобы любить добро ради него самого и не выбирать между добродетелью и ее противоположностью в зависимости от успеха. Подавляющее большинство – это те, кто, видя, что плоды труда достаются бездельникам, а безумие разврата уносит почести, причитающиеся мудрости и доброму поведению, стремится достичь успеха теми же путями, что и другие, и подражает почитаемым порокам. И наоборот, когда добродетель привлекает милость принцепса и награды, которые за ней следуют, ее естественный блеск, подкрепленный вознаграждением, вновь обретает власть над сердцами».
Даже толпа оказалась восприимчива к урокам добродетели, которые Траян ей преподавал. Известно, каким было увлечение народа пантомимой. Домициан изгнал актеров; Нерва был вынужден вернуть их: народ сам попросил Траяна отменить этот соблазнительный спектакль, соединявший все прелести порока. Таким образом, этот принцепс удостоился славы исправить пагубное злоупотребление по просьбе тех, кто всегда был его защитником; и вместо того, чтобы прибегать к страху [21] – ненадежному проводнику на пути долга, – он оставлял тем, кого направлял к добру, честь казаться избравшими его по собственному побуждению.
Благотворное влияние примера столицы распространилось на провинции. Первый магистрат Вьенны в Галлии, по имени Требоний Руфин, своим указом отменил гимнастические состязания, учрежденные завещанием одного гражданина. Дело вызвало спор и было передано на рассмотрение Траяну, который разбирал его в совете. Плиний присутствовал. После того как Требоний сам изложил свою позицию, перешли к голосованию, и Юний Маврик высказался за подтверждение отмены, постановленной магистратом Вьенны, добавив: «Да будет угодно богам, чтобы подобные зрелища были отменены и в Риме!» Его мнение возобладало, и гимнастические состязания в Вьенне были запрещены.
Траян, сам не будучи ученым, проявлял большое уважение к искусствам и тем, кто ими занимался. Его склонность к военному делу не позволила ему посвятить себя литературе, но, обладая возвышенным умом, он не мог не чувствовать ценности знаний, которые не имел возможности приобрести. Он любил их; ему нравилось слушать о них. Чтобы облегчить их распространение, он учредил библиотеки. Таким образом, он вернул к жизни все отрасли литературы, погибавшие от гонений, которым они подвергались при Домициане [22]. Он был прав, защищая изучение мудрости и все искусства, облагораживающие человечество, поскольку в своем поведении он исполнял обязанности, которые они предписывают. Их уроки были ему похвалой; и за честь, которую они ему оказывали, он был обязан им любовью и покровительством.
Плиний сообщает нам еще несколько других черт хорошего правления Траяна, и я изложу их в том порядке, в каком он их представляет: «Вы делаете нас, – говорит он [23], – участниками вашего имущества, вашего августейшего жилища, вашего стола: и в то же время вы желаете, чтобы мы пользовались собственностью того, что нам принадлежит. Вы не захватываете владения частных лиц, как поступали многие из ваших предшественников. Цезарь видит что-то, что ему не принадлежит: и в итоге государство оказывается больше, чем владения принцепса».
Траян пошел еще дальше. Обремененный множеством загородных домов, дворцов и великолепных садов, которые были захвачены жадностью первых цезарей, он приказал продать часть из них, а другую раздарил, считая, что ничем не владеет так прочно, как тем, что принадлежит его друзьям.
Если из скромности и щедрости он избавлялся от множества зданий, принадлежавших императору, легко понять, что он мало интересовался строительством новых для себя. Траян любил великолепие, но лишь в отношении общественных сооружений. Плиний [24] упоминает о портиках, храмах, возведенных или завершенных по его приказу, о значительном расширении Цирка, в котором он не пожелал иметь отдельной ложи, довольствуясь тем, чтобы сидеть на зрелищах, как простые граждане.
В дальнейшем своем правлении он осуществил еще более грандиозные проекты. Самый знаменитый – новая площадь, которую он построил в Риме и которая носила его имя. Чтобы подготовить место для нее, пришлось срезать холм высотой в сто двадцать восемь футов. Он окружил ее галереями и прекрасными домами, а в центре воздвиг знаменитую колонну, сохранившуюся до наших дней под его именем, предназначенную служить ему гробницей и чья высота, как гласит надпись [25], указывает на уровень, до которого прежде поднималась земля, теперь выровненная. Эта площадь и эта колонна – творения, которые вызвали наибольшее восхищение у императора Констанция, когда он посетил Рим. Он счел их неподражаемыми и отчаялся создать что-либо подобное.
Украшая Рим, Траян не пренебрегал и провинциями. Он основал там несколько колоний, проложил большую дорогу через всю длину империи с востока на запад, сквозь варварские народы, от Понта Эвксинского до Галлии. Он укрепил лагеря и замки на границах и во всех местах, где это было необходимо. В Испании, где он родился, мост через Тахо у Альматары – чудесное сооружение – и большие дороги, которые не смогли полностью разрушить даже века, остаются памятниками его великолепия. Я расскажу в другом месте о порте, который он построил в Чивита-Веккии, и о мосте, возведенном им на Дунае.
Князь, так счастливо правивший миром, был и его отрадой: и общественная благодарность выражалась ему способом столь же простым, сколь искренним. Ему не воздавали божественных почестей. Его статуи не заполняли город: их было немного, и они были из того же металла, что и статуи Брутов и Камиллов, чьи добродетели он так точно воплощал. Его похвалы не гремели в сенате к месту и не к месту. Сенаторы не считали себя обязанными, высказываясь по совершенно посторонним вопросам, неуместно подносить государю свои восторги. Они хвалили его, когда того требовал случай, от души, просто, без напыщенности, без преувеличений. Искренность их похвал избавляла их от пышности, которой лесть прикрывает свою ложь.
Таким поведением они следовали намерениям Траяна, чья скромность отвергала все титулы и почести, выходившие за рамки обычного. «Вы знаете, – говорит ему Плиний [26], – где заключается истинная слава монарха, слава бессмертная, над которой не властны ни пламя, ни течение веков, ни завистливая злоба преемников. Триумфальные арки, статуи, алтари и храмы подвержены разрушению от времени, забвению, небрежению потомков и даже их осуждению. Но душа, возвышающаяся над тщеславными амбициями и умеющая ограничивать гордыню безграничной власти, – вот что обеспечивает почести, которые время не может увязить, а, напротив, придает им новую свежесть и жизнь. Князя, руководствующегося этими принципами, хвалят охотнее именно потому, что в этом нет принуждения». Добавим, что государи по своему положению обречены на славу, которая может быть хорошей или дурной, но которая не может исчезнуть. Поэтому им следует желать не того, чтобы о них помнили вечно, а того, чтобы их память чтили. А этого они достигнут благодеяниями и добродетелью, а не изображениями и статуями.
Траян при жизни никогда не позволял воздвигать себе храмы. Что касается трофеев и триумфальных арок, он не противился такого рода памятникам, когда заслуживал их своими подвигами. Его даже упрекали в том, что он умножал их чрезмерно: и всем известна шутка, в которой его сравнивали с париетарией [27], потому что его имя, как и это растение, прилипало ко всем стенам. Возможно, опьянение высоким положением и военными успехами со временем несколько изменило благородную простоту его первоначальных чувств. Но в начале его правления я не вижу ничего, что мешало бы нам думать вместе с Плинием, что свидетельства общественного почтения, которые привлекала его доброта, были не только истинными, но и, по его вкусу, гораздо выше самых пышных памятников.
Народ дал ему прозвище OPTIMUS, «наилучший»: прозвище новое [28], и чью первую славу высокомерие прежних императоров оставило Траяну. Они стремились накапливать громкие титулы, но пренебрегли этим, который, по суждению беспристрастных ценителей, бесспорно, есть прекраснейший, каким может быть украшен смертный. Траян почувствовал всю его ценность и постоянством доброго правления в течение всего своего царствования показал себя столь достойным его, что сделал его как бы своим собственным. Это имя стало его особым атрибутом, отличительной чертой: и в позднейшие времена, когда новым князьям расточали самые лестные приветствия, им желали быть «счастливее Августа и лучше Траяна»: FELICIOR AUGUSTO, MELIOR TRAJANO.
Вероятно, употребление этого титула для Траяна установилось лишь с течением времени. Можно предположить, что это не было результатом формального решения, но что сначала его дал ему глас народа. Он постепенно укрепился и вошел в употребление в памятниках и документах. Лишь к концу правления этого императора его стали обычно помещать на его монетах.
Помимо этого прочного титула, который любовь народа и сената даровала Траяну, внезапные возгласы одобрения, которые следует считать порывистым выражением не сдерживаемой привязанности, часто наполняли этого доброго принца радостью и венчали его славой. В его присутствии часто восклицали: «Счастливые граждане! Счастливый император! Пусть он всегда проявляет ту же доброту! Пусть всегда слышит из наших уст те же пожелания!» И при таких трогательных словах Траян краснел и проливал слезы радости, ибо чувствовал, что они обращены к нему лично, а не к его высокому положению.
Особенно во время своего третьего консульства он заслужил эти восторженные возгласы, столь сладостные для доброго правителя. Обстоятельства, сопровождавшие принятие этой должности, ее исполнение и сложение полномочий, дали римлянам повод для восхищения и причину для преданности.
Прежде всего, соглашаясь в третий раз стать консулом, он подражал скромности Нервы и разделил эту честь с двумя частными лицами, которым также даровал третье консульство. Он сделал обоих своими коллегами, но продлил свой срок до четырех месяцев, тогда как для других он ограничивался половиной этого срока. Один из них – Фронтин или, что более вероятно, Фронтон, о котором мы уже говорили при Нерве. Другой нам совершенно неизвестен. Но мы знаем, что Траян выбрал их по рекомендации общественного мнения и особого уважения, которым они пользовались в сенате. Они были среди тех, кого сенат назначил комиссарами при Нерве для изыскания способов сокращения государственных расходов. Траян счел своим долгом почтить тех, кого чтил сенат, и в том же порядке, в каком их поставил сенат.
Плиний справедливо усматривает в этом повод для похвалы своему принцу и призывает его всегда следовать тому же принципу. «Судите о нас, – говорит он [29], – по нашей репутации: пусть только она привлекает ваши взоры и внимание. Не прислушивайтесь к тайным доносам и скрытым обвинениям, которые не столько опасны для тех, против кого направлены, сколько для тех, кто им внимает. Надежнее руководствоваться мнением всех, чем мнением одного. В этих тайных и загадочных сообщениях один может обманывать и быть обманутым. Но никто никогда не обманывал всех, и общее мнение никогда никого не обманывало».
Решив принять консульство, Траян не уклонился ни от одной части церемониала, принятого тогда для кандидатов. Народ еще имел некоторое участие в выборах магистратов, хотя бы формальное. Император отправился на Марсово поле и, спокойно стоя посреди собрания, как и другие претенденты, ожидал своего назначения.
К этому великому проявлению скромности Траян тут же добавил еще более примечательное. Как только он был избран, он явился к консулу, председательствовавшему в собрании, чтобы принести ту же присягу, что и частные лица в подобных случаях. Он стоял, а сидящий консул зачитывал формулу присяги, которую император повторял слово в слово. Верный своим принципам, он в тот же день или при вступлении в должность поднялся на ораторскую трибуну и поклялся соблюдать законы. Он поступил так же, сложив полномочия. Снова взойдя на трибуну, так долго презираемую его предшественниками, он поклялся, что не нарушил законов.
Не знаю, был ли хоть один император – до или после Траяна – который подчинился бы всему этому церемониалу. Но из его поведения явствует, как я уже отмечал ранее, что он считал республику все еще существующей, видел себя не господином, но главой и первым магистратом и был убежден, что полнота власти принадлежит не ему, а государству в целом.
Это же выражают и слова его речи, произнесенной в сенате 1 января. Он призвал собрание вернуться к пользованию свободой, заботиться об империи как об общем благе и блюсти общественную пользу. Такие слова были обычны в устах императоров, но от Траяна они сочлись искренними.
Совершенно необычной была формула, в которой он пожелал выразить пожелания, высказанные ему республикой 3 января согласно обычаю, установленному со времен Августа. Он сам добавил к пожеланиям своего здравия и процветания условие: «При условии, что он будет править хорошо и на благо всех дел республики» [30]. Это было крайне популярно и в то же время показывало его уверенность в себе: он желал продления своих дней лишь в зависимости от благополучия республики и не допускал, чтобы за него возносили пожелания, не связанные с пользой тех, кто их высказывал.
Затем настал день назначения магистратов, стоящих ниже консулов, – то есть преторов, эдилов, квесторов и т. д. Ибо так, я полагаю, следует понимать общие выражения Плиния, который, говоря о вещах, хорошо известных его слушателям, не счел нужным выражаться точно и определенно. Это назначение происходило по голосованию сената, и Траян председательствовал как консул. Легко понять, что выборы, проходившие под председательством императора, зависели главным образом и почти исключительно от него. Но Траян объявил кандидатам, что они могут надеяться получить от принца желаемые почести лишь в той мере, в какой они испросят их у сената и получат голоса этого августейшего собрания, к уважению к которому он их призвал.
Выбирая между кандидатами, он многое учитывал знатность их предков. Если оставались еще отпрыски древних родов, которые Цезари так долго стремились уничтожить, он поощрял их, с удовольствием возвышал и, проявляя похвальное бескорыстие, чтил в них преимущество, которого сам не имел. Он также принимал во внимание прежние заслуги: добросовестное исполнение низшей должности было лучшей рекомендацией для повышения. Он взвешивал свидетельства, данные кандидатам людьми чести и добродетели. Он не упускал ничего, что могло помочь ему распознать достоинства и возвысить их, – и все это без использования императорской власти, действуя почти как простой сенатор и подавая пример скорее своим поведением, чем авторитетом. Те, кто получал назначение столь почетным образом, были, конечно, весьма довольны, но Траян умел не оставлять недовольными даже тех, кто не получил должности. Первые удалялись, преисполненные радости [31], вторые – утешенные надеждой.
Но это еще не все. Как только каждый кандидат получал должность, которую испрашивал, Траян поздравлял его с дружеской простотой. Он сходил с курульного кресла, чтобы встретить его и обнять, так что император и кандидат оказывались на одном уровне. И сенат, некогда видевший презрительную надменность Домициана, который едва удостаивал поцелуя руки первых лиц государства, теперь с восхищением наблюдал, как исчезает неравенство между дарующим должность и получающим ее. Сенат не смог сдержать восторга [32]. Со всех сторон зала раздались возгласы: «Тем вы величественнее, тем более достойны нашего уважения!» И ничего не могло быть справедливее. – «Тот, кто достиг вершины величия, – говорит Плиний, – может расти лишь унижаясь добротой. И его достоинство ничуть не страдает. Нет для государя опасности менее страшной, чем опасность унижения».
Траян так мало боялся этой опасности, что в молитве, которой он, по обычаю, начал [33] собрание для выборов, без колебаний поставил себя на третье место: «Я молю богов, – сказал он, – чтобы выборы, которые сейчас состоятся, послужили к вашей пользе, пользе республики и моей». А в заключительных пожеланиях церемонии он добавил слова, столь же исполненные скромности, сколь и выражающие справедливую уверенность в своей добродетели: «Да услышат боги мои молитвы в той мере, в какой я буду продолжать заслуживать ваше уважение» [34].
Сенат ответил на эти восхитительные пожелания возгласами нежности. «Счастливый принц! – восклицали они [35], – не сомневайтесь, что вы навеки будете любимы нами. Верьте нашему свидетельству; верьте тому, что вам дарует ваша собственная добродетель. Как мы сами счастливы! Пусть боги любят нас! Пусть они любят нашего принца, как наш принц любит нас!»
Обычай подобных аккламаций существовал уже давно, как я отмечал в другом месте; но обычно это были пустые слова, не исходившие от сердца и вырванные необходимостью4 обстоятельств; потому и не заботились увековечить их память, и они умирали при рождении. Те, которые искренняя привязанность оказывала Траяну, не заслуживали такого пренебрежения. Сенат постановил, после долгих усилий получив согласие принца, выгравировать их на бронзе, чтобы они пробуждали соперничество у последующих императоров и учили их отличать выражения сердца от лести.
В остальных обязанностях консула Траян всегда оставался неизменным. Ни одну из них он не считал недостойной себя; исполнял все с той же усердностью и точностью, как если бы был лишь консулом. Он председательствовал на заседаниях сената; восходил на трибуну, чтобы вершить правосудие для всех обращавшихся. Он не умалял достоинства никакой магистратуры и оставлял каждой свободное осуществление её прав. Поскольку преторов всегда считали коллегами консулов, Траян-консул называл их своими коллегами, не обращая внимания на статус императора, который возносил его так высоко над ними.
Дело Мария Приска, рассмотренное в январе, позволило Траяну проявить внимание и терпение в исполнении консульских обязанностей. Приск, будучи проконсулом Африки, разграбил провинцию; и он настолько не скрывал этого, что добровольно соглашался на наказание, предусмотренное законом для вымогателей – возврат всего захваченного. Но это был не единственный его преступление: он стал жестоким из алчности и не постеснялся принять деньги от Паргента за осуждение и казнь невинных. Чудовищность этих злодеяний передала дело на рассмотрение сената. Плиний и Тацит выступили защитниками африканцев. Дело обсуждалось три дня подряд, и каждое заседание длилось до вечера. Траян присутствовал при всём, не утомляясь от долготы, не используя свою власть для стеснения – каким бы то ни было образом – свободы исследования и мнений. Его доброта проявилась в том, что когда Плиний, вынужденный говорить пять часов подряд с большим напряжением, рисковал повредить своему хрупкому здоровью, император несколько раз велел предупредить его о необходимости беречь силы. В итоге Приск был приговорён к изгнанию – высшей мере по римским законам; но часть несправедливо награбленного он сохранил [36] и увёз с собой в ссылку. Там, по выражению сатирика, он наслаждался самим небом, гневавшимся на него, пируя и расточая богатства, пока выигравшая процесс провинция оставалась в слезах и разорении.
Кажется, к тому же году следует отнести другое дело того же рода, в котором Плиний вновь выступил защитником провинции, угнетённой проконсулом [37]. Цецилий Классик, африканец по происхождению, обращался с Бетикой так же, как Марий Приск, уроженец Бетики, – с африканцами. Плиний, уже служивший справедливому гневу этой провинции против Бебия Массы, счёл невозможным отказать в помощи в новой нужде. Однако Классик избежал суда сената благодаря смерти – естественной или добровольной. Таким образом, обвинителю оставалось требовать лишь компенсации из его имущества в пользу жителей Бетики, что и было получено. Затем он обрушился на тех, кто стал орудием несправедливостей проконсула. Их было множество, и они оправдывались мнимой необходимостью для провинциалов повиноваться римскому магистрату. Их извинения справедливо сочли неубедительными, и они были приговорены к разным наказаниям в зависимости от степени вины. Провинция включила в обвинение жену и дочь Классика: на жену пали некоторые подозрения, но доказательств не нашлось, и её оправдали. Что до дочери, Плиний, считая её невинной, заявил, что не станет привлекать её и не послужит орудием несправедливого преследования.
Оба дела – против Приска и Классика – были поручены ему по решению сената; и те же приговоры, что осуждали виновных, изобиловали похвалами рвению, таланту и честности защитника.
Плиний стал консулом в том же году, когда выступил защитником в этих двух значительных процессах. Он занимал пост консула в течение сентября и октября, а его коллегой был Тертулл Корнут, о котором он часто упоминает в своих письмах – друг всей его жизни, спутник в опасностях во времена тирании Домициана, уже ранее разделявший с ним обязанности смотрителя государственной казны. Для обоих стало сладостным удовлетворением вновь объединиться в исполнении высшей магистратуры. Каждый чувствовал ответственность как за себя, так и за коллегу; Траян же довершил свое благодеяние похвалами, которыми удостоил их при назначении, а также свидетельством о их любви к добродетели и общественному благу, ставившей их вровень с древними консулами.