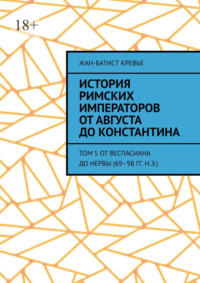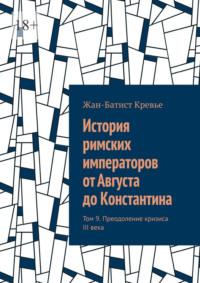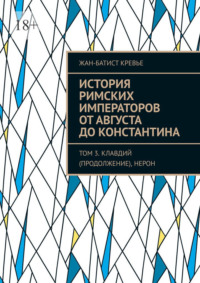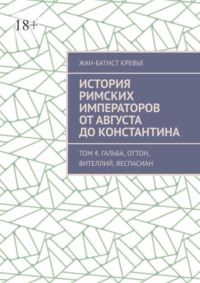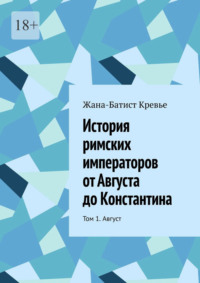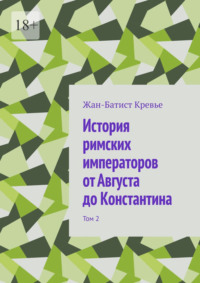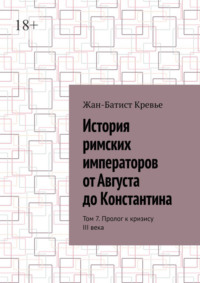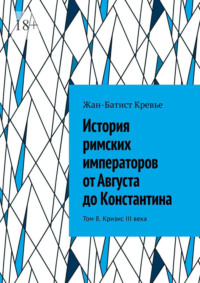Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 6. Период «Пяти добрых императоров»
Именно во время своего консульства Плиний произнес знаменитую панегирическую речь, из которой я почерпнул почти все сказанное мной до сих пор о Траяне. Хотя это хвала, а не исторический памятник, я счел возможным использовать ее с доверием, ибо история, за малыми исключениями, говорит об этом императоре так же, как Плиний.
Порядок расположения его писем позволяет предположить, что примерно в это время произошла трагическая смерть бывшего претора, убитого своими рабами. Его звали Ларгий Македон, сын вольноотпущенника, жестокий и бесчеловечный господин, который, видя в своих рабах [38] отражение положения, в котором жил его отец, вместо того чтобы смягчиться и обращаться с ними мягче, напротив, ожесточался и тем сильнее предавался всяческим зверствам. Рабы отомстили: несколько из них сговорились, напали на него в бане, избили до смерти и оставили лежать на полу как мертвого. Однако в нем еще теплилась жизнь; другие, более верные рабы оказали помощь, он пришел в себя и прожил достаточно, чтобы увидеть казнь своих убийц. В данном случае, судя по всему, никто не помышлял о применении того ужасного закона, который предписывал казнить всех рабов, находившихся под одной крышей с убитым господином; и легко понять, сколь несправедливым было бы это здесь.
Год третьего консульства Траяна стал первой вехой возвышения Адриана, впоследствии унаследовавшего империю. В этом году он женился на Юлии Сабине, внучатой племяннице императора и его ближайшей наследнице.
Множество уз уже связывало его с Траяном. Он родился в Риме, но происходил из Италики – родины этого принцепса. Его дед Марцеллин был первым сенатором в их семье; отец, Элий Адриан Афер, не поднялся выше претуры; однако Афер был двоюродным братом Траяна и, умирая, назначил его опекуном своего десятилетнего сына вместе с Целием Татианом [39], римским всадником. Когда Траян был усыновлен Нервой, Адриан служил трибуном в армии Нижней Мезии и был послан войсками поздравить своего кузена и опекуна с усыновлением, сулившим тому высший ранг. Он прибыл, получил от нового Цезаря должность в армии Верхнего Рейна, а после смерти Нервы первым доставил эту весть Траяну в Нижнюю Германию и приветствовал его как императора. Чтобы стяжать эту заслугу перед ним, ему пришлось преодолеть препятствия, что он и сделал благодаря необычайной активности. Его шурин Сервиан, преследовавший ту же цель, мешал ему, задерживал, даже устроил поломку его повозки в пути: Адриан завершил путь пешком и все же опередил гонца шурина.
Этот рьяный порыв ясно показывает честолюбивые замыслы Адриана, имевшие под собой основания, ибо Траян был бездетен. Однако его расточительность и долги настроили Траяна против него, тем более что тот и без того не питал к нему склонности, вероятно, из-за замеченных в Адриане, наряду с великими достоинствами, зачатков пороков, способных стать опасными. Похвальные черты Адриана мало располагали к нему Траяна. Адриан, одаренный врожденной склонностью к наукам, охватил их все. Он совершенствовался в красноречии на греческом и латыни, изучал философию и право – но такого рода достоинства едва ли могли нравиться малообразованному Траяну. Любовь Адриана к наукам и искусствам влекла его к миру; его правление показывает, что честь расширения империи завоеваниями трогала его менее, чем честь мудрого управления. Траян же любил войну, и блеск трофеев и побед был его страстью. Но более всего легкомыслие, капризная непостоянность Адриана, его завистливый, подозрительный нрав, ревность к чужим заслугам – эти пороки должны были оттолкнуть от него великодушное сердце Траяна. Проницательный Адриан не мог не заметить неблагоприятного расположения императора и обратился к Плотине, супруге Траяна, имевшей на него большое влияние. Он снискал дружбу этой принцессы; ее постоянное покровительство породило у злоязычных подозрения, порочившие добродетель Плотины: ее обвиняли, что благодеяния Адриану внушены безумной и преступной страстью. Дион определенно утверждает это. Как бы то ни было, несомненно, что именно Плотина, вместе с Лицинием Сурой, убедила Траяна против его воли выдать за Адриана свою внучатую племянницу Сабину. Сабина была дочерью Матидии, которая, в свою очередь, происходила от Марцианы, сестры Траяна.
Сенат, восхищенный действиями Траяна в его третье консульство, упросил его принять четвертое. Принцепс уступил настояниям сенаторов и стал консулом в четвертый раз вместе с Аттикулеем Петом.
В том же году он назначил Адриана своим квестором. Поскольку одной из обязанностей императорского квестора было выступать от его имени и зачитывать в сенате речи принцепса, Адриан, исполняя эту должность, вызвал насмешки своим деревенским и провинциальным произношением. В пятнадцать лет он пожелал увидеть родину и семью, отправился в Испанию, где провел несколько лет, успев перенять местный акцент; к тому же до тех пор он уделял больше внимания греческой словесности, нежели латинской. Урок, преподанный упомянутым событием, заставил его исправиться: он осознал необходимость совершенствоваться в латинском красноречии, приложил все усилия и преуспел настолько, что стал лучшим оратором своего времени.
После квестуры он был поставлен во главе составления сенатских протоколов, но вскоре оставил этот пост, чтобы последовать за Траяном на войну против даков.
Известно, что этот народ и его царь Децебал заставили Домициана дрожать, и тот счел себя счастливым, купив мир данью, хотя, будучи столь же тщеславным, сколь и трусливым, притворялся победителем тех, кто диктовал ему условия. Даки, со своей стороны, возгордившись успехом, увеличивали войска и оскорбляли римлян; поэтому разрыв договора следует, вероятно, приписать обоюдной вине Траяна и Децебала. Первый не мог вынести унижения, позорившего величие империи, а второй слишком явно его демонстрировал.
Подробности подвигов Траяна в этой войне малоизвестны, так как кроме отрывочных записок историка Диона [40] иных источников нет. Известно лишь, что кампанию он начал с блистательной победы, уничтожив вражескую армию, но римляне заплатили за это кровью. Многие пали убитыми, еще больше было ранено, и Траян проявил к тем и другим милосердие истинного государя. Поскольку перевязочных средств не хватало для множества раненых, он отдал для этой цели собственную одежду. Погибших он почтил пышными похоронами и повелел ежегодно совершать в их память торжественные жертвоприношения.
Траян развил успех. Разделив армию на три корпуса, он лично командовал одним, а два других поручил мавританскому вельможе Лузию Квиету (о котором еще будет речь) и Максиму. Тесня Децебала от укрепления к укреплению, он захватил несколько замков на высоких горах и наконец достиг столицы Дакии – Сармизегетузы, некогда крупного города, чьи руины ныне видны в трансильванском селении Вархель.
Децебал встревожился уже при первых маневрах Траяна. Будучи искусным полководцем, он понял, что имеет дело не с Домицианом, а с римлянами, вновь обретшими былое превосходство под началом грозного императора, чьей мощи никто в мире не мог противостоять. Поражение в битве подтвердило его худшие опасения, и он запросил мира. Встреча с Траяном была ему отказана; вместо императора переговоры вели Лициний Сура и префект претория Клавдий Ливиан. Децебал, презрев переговоры с простыми чиновниками или не доверяя им, отправил своих придворных. Соглашения не достигли. Но когда даки лишились крепостей, а столица оказалась на грани осады, а сестра царя попала в плен к Максиму, Децебал сдался безоговорочно.
Он принял тяжкие условия: сдать оружие, осадные машины, инженеров, выдать перебежчиков и более не принимать их, разрушить крепости, отказаться от завоеваний, а также считать друзей и врагов Рима своими. После этого ему позволили предстать перед Траяном. Царь пал ниц, бросил оружие в знак поражения, поклялся выполнить условия и – что примечательно – отправить послов в сенат для окончательного утверждения мира. Послы прибыли в Рим лишь с Траяном, оставившим гарнизоны в Сармизегетузе и других ключевых пунктах Дакии перед возвращением в Италию.
Представ перед сенатом, послы повторили унизительный ритуал: бросили оружие, сложили руки в мольбе, ожидая судьбы от победителей, и получили прощение с ратификацией договора.
В честь победы Траян отпраздновал триумф и принял титул «Дакийский». Филострат приводит нелепую басню об этом триумфе, типичную для его безрассудных сочинений [40]. Он пишет, что в колеснице императора рядом был софист Дион Хризостом, к которому Траян, обернувшись, слащаво говорил: «Не понимаю ваших речей, но люблю вас, как себя». Уже сам факт упоминания этой чепухи опровергает ее.
Триумф сопровождался играми и зрелищами. Траян устроил бои гладиаторов, где воинственный принцепс видел отражение войны. Он также вернул пантомимов, без которых римская чернь не могла жить. Хотя под влиянием минутного порыва к чистоте нравов толпа требовала их изгнания, сердце влекло ее назад. Дион добавляет, что сам Траян любил пантомимов. Император, образец в управлении, в личной жизни был распущен: история упрекает его в противоестественных пороках. Именно связь с пантомимом Пиладом, по словам Диона, заставила Траяна восстановить зрелище, недавно им же запрещенное.
Согласно Тильмону, победа над даками относится к четвертому консульству Траяна, а триумф – к тому же или следующему году, когда консулами были Лициний Сур и малоизвестный Суран.
Мир с даками длился два года. Дион не сообщает о Траяне ничего, кроме усердия в управлении и личного разбора судебных споров. Однако письма Плиния [43] дают дополнительные сведения, из коих выберу наиболее любопытные.
В год консульства Суры или в конце предыдущего умер Фронтин – знаменитый сановник, чьи труды актуальны и ныне [41]. Я упоминал его претуру при Веспасиане. Консулом он стал при том же императоре, затем правил Британией, где, по словам Тацита [42], совершил подвиги. Нерва назначил его смотрителем акведуков Рима – пост для избранных. Фронтин обладал ясным умом, добросовестностью, сочетал опыт с ученостью. Этим мы обязаны его трудам, главные из которых – «Стратегемы» и «Записки о римских акведуках». Во вступлении к последнему он пишет: «Получив от императора Нервы должность смотрителя, я счел首要ным изучить предмет своей службы, ибо основа управления – точное знание необходимого. Стыдно и невыносимо, когда начальник руководствуется указаниями подчиненных. Их помощь нужна, но лишь как орудие в руках разума».
Плиний [43] хвалит честность Фронтина, ставя его среди достойнейших мужей Рима. Он унаследовал ему в звании авгура, испросив это у Траяна.
Жречество, такое как авгурат, было вершиной возвышения для первых лиц сената; и Плиний был поздравил друг, особенно подчеркивавший соответствие, которое этот новый пост устанавливал между ним и Цицероном, также бывшим авгуром. Плиний отвечает на этот комплимент с несомненно уместной скромностью, но от этого не менее приятной. «Да будет угодно богам, – говорит он [44], – чтобы, подобно тому как я стал его ровней в жреческом и консульском достоинствах, достигнув их даже в гораздо более молодом возрасте, чем он, я смог бы и в зрелые годы сравняться с возвышенностью его гения! Но знаки отличия, зависящие от воли людей, были дарованы и мне, и многим другим: божественный талант, которым он прославился, слишком трудно достичь; было бы даже самонадеянно надеяться на это – его нужно получить от небес».
Один частный случай, весьма похвальный для молодого человека, заслуживает упоминания здесь. Эгнаций Марцеллин, отправившись в провинцию (которую Плиний не называет) в качестве квестора, взял с собой писца, но тот умер до истечения срока его службы. Молодой квестор, получивший из государственной казны средства для выплаты жалования писцу, посчитал, что эти деньги не должны оставаться у него. Он обратился к императору с вопросом, как ими распорядиться, и был направлен в сенат. Там возник спор, который был рассмотрен и решён по правилам между наследниками писца и управляющими государственной казны. Сенат вынес решение в пользу последних. Но что более всего привлекло внимание в этом деле – это благородство поступка Эгнация, которое было единодушно одобрено.
Дела, которые часто вызывали бурные волнения во времена республики, теперь решались в полном спокойствии при единовластном правлении: примером тому служит вопрос о голосовании посредством баллов. Для сравнения с древними временами можно обратиться к «Истории» Роллена [45]. Вот как этот же вопрос был урегулирован при Плинии, который даёт нам весьма точное описание.
Выборы магистратов, с тех пор как они были предоставлены сенату, проводились устно, и поначалу всё происходило с большим достоинством и благопристойностью. Каждого кандидата вызывали по имени. Вызванный вставал и кратко излагал основания своих притязаний; он отчитывался о всей своей жизни; представлял свидетельства полководцев, под чьим началом служил, а если был квестором – то и высших магистратов; называл влиятельных лиц, которые его поддерживали. Эти лица выступали; серьёзным тоном, без напыщенности, без назойливых просьб, они отмечали добрые качества, которые знали за своим кандидатом, и причины, побуждавшие их поддерживать его рекомендацией. Если кандидат имел какие-либо претензии к сопернику относительно его происхождения или поведения, он излагал их скромно, без оскорблений. Сенат спокойно выслушивал всё, что каждый хотел сказать, и затем делал выбор обдуманно.
Ко временам Плиния этот прекрасный порядок изменился. Собрания сената для выборов подражали или даже превосходили своеволие народных собраний. Никто не умел ни дожидаться своей очереди говорить, ни молчать в нужный момент, ни даже оставаться на месте. Со всех сторон раздавались громкие крики: все просители выходили в центр зала со своими кандидатами, и там образовывались группы, поднимался шум, царила всеобщая неразбериха. Поражённые этими неудобствами, сенаторы единогласно потребовали – то ли в конце третьего консульства Траяна, то ли в начале следующего года – проводить выборы посредством баллов. Успех оправдал это нововведение: достойные лица были избраны, и все радовались столь удачно найденному решению.
Но, как и всё человеческое, это имело две стороны. Плиний сразу же опасался злоупотреблений тайным голосованием. «Я не ручаюсь, – писал он другу [46], – что под покровом молчания вскоре не проскользнёт бесстыдство; ибо где те, кто соблюдает законы честности в тайне так же, как на глазах у общества? Многие боятся мнения о себе, но мало кто заботится о свидетельстве своей совести». То, что он предвидел, случилось. На первых же выборах после этого обнаружилось несколько бюллетеней, заполненных шутками, насмешками и глупостями. «Такова, – говорит Плиний [47], – дерзость, которую внушает дурным умам мысль: „Кто узнает?“» Сенат выразил крайнее негодование по поводу столь непристойной и неуместной игры, но виновные остались неизвестны, и пришлось лишь сокрушаться, что зло сильнее лекарства.
Еще одним злоупотреблением была погоня за должностями. Кандидаты рассылали подарки, устраивали угощения, даже вручали денежные суммы третьим лицам, чтобы те распределили их после успеха среди тех, кто хорошо им послужил. На эти действия поступали жалобы в сенат, который поручил консулу обратиться к императору с просьбой пресечь эти беспорядки своей верховной властью. Тот так и сделал, и своим декретом о подкупах обязал кандидатов вести себя скромнее.
Тем же законом он постановил, что никто не может претендовать на должность, если по меньшей мере треть его имущества не вложена в земельные владения или дома, расположенные в Италии. Он справедливо полагал, что люди, стремящиеся занимать магистратские должности в Риме, не должны считать Италию перевалочным пунктом, где у них нет никакой оседлости.
Незадолго до этого были возобновлены старые постановления, запрещавшие адвокатам принимать от клиентов деньги или подарки. Таково было предписание закона Цинция, принятого в конце Второй Пунической войны. Этот закон был восстановлен в начале правления Нервы. Но алчность прорывала все преграды, и возродившееся злоупотребление побудило в описываемое мною время претора Лициния Непота, человека твердого и энергичного, проявить свое рвение. Плиний в трех своих письмах сообщает о действиях этого претора, но так, что для нас остаются некоторые неясности: впрочем, подробности этого дела сегодня не представляют особого интереса. Я ограничусь лишь замечанием, что в реформу, начатую Непотом, вмешались авторитет сената и принцепса: у Плиния [48] мы находим текст сенатусконсульта, который накладывал обязательства не на адвокатов, а (что кажется мне странным) на тяжущихся – необходимость принесения клятвы по этому вопросу. Тот, кто имел какое-либо дело, должен был поклясться перед допуском к суду, что ничего не дал и не обещал адвокату, которому поручал свою защиту.
Плиний, который не только всегда воздерживался от каких-либо соглашений, но и никогда не принимал от клиентов ни вознаграждений, ни даже простых дружеских подарков, был восхищен, когда его личное правило стало общим законом. Его со всех сторон поздравляли: одни в шутку говорили, что он был провидцем, другие – что новый указ положил конец его мздоимству и корыстным действиям. Таким образом, он наслаждался славой, к которой был чрезмерно чувствителен; что, однако, не умаляет достоинств его благородного поведения. Я уже отмечал, что разница во времени и обычаях смягчила среди нас в этом отношении строгость римских постановлений, но не поколебала принципы человеколюбия и великодушия, на которых они были основаны и которые столь подобают столь почтенной профессии.
В 854 году от основания Рима Траян принял пятое консульство вместе с Максимом, который сам был консулом во второй раз. Этот Максим, по-видимому, тот самый, который подавил мятеж Луция Антонина при Домициане, а затем с честью исполнял важное командование в войне Траяна против Децебала. Год пятого консульства Траяна снова был мирным, и принцепс продолжал завоевывать любовь к своему правлению проявлениями доброты и справедливости. Вот один из примеров, показывающих его рвение и проницательность в разоблачении клеветы и защите невинности, атакованной грязными интригами.
Лустрик Бруттиан, будучи наместником провинции, приблизил к себе некоего Монтана Аттициана как друга и поручал ему различные дела. Но ему пришлось в этом раскаяться. Тот, кому он доверял, оказался негодяем, повинным во всевозможных преступлениях, так что Бруттиан счел своим долгом написать об этом императору. Аттицин, взбешенный и испуганный, сам выступил обвинителем Бруттиана и, проявив чудовищное коварство, сумел тайно завладеть канцелярскими записями наместника, вырвал из них множество листов и предъявил на суде изувеченную книгу как доказательство злоупотреблений обвиняемого. Дело разбиралось перед Траяном, и Плиний был одним из судей. Стороны сами кратко изложили свои доводы по пунктам, и Бруттиан, уверенный в своей невиновности, не только отразил выдвинутые против него обвинения, но и раскрыл все преступления своего обвинителя, представив доказательства. Траян, стремившийся лишь к установлению истины, сразу ухватил суть дела. Он распорядился начать с вынесения приговора обвинителю, который был приговорен к изгнанию. Бруттиан же вышел из процесса с триумфом, с блистательным свидетельством своей честности и безупречного поведения.
Траян считал своим долгом лично вершить правосудие, и даже находясь в своих загородных резиденциях, не позволял себе пренебрегать этой важной государственной обязанностью. Плиний, проведший с ним три дня в Центумцеллах [49], описывает три дела, каждое из которых заняло свой день.
Первый [случай] касался самого знатного гражданина Эфеса, Клавдия Аристона, человека великолепных нравов, который снискал народную любовь без каких-либо преступных амбиций. Роскошь, в которой он жил, вызвала зависть, и один жалкий доносчик попытался его погубить. Аристон был оправдан и отомщен.
На следующий день разбиралось дело о прелюбодеянии. Галитта, жена военного трибуна, собиравшегося добиваться должностей, запятнала свою честь и честь мужа преступной связью с центурионом. Муж пожаловался командующему армией, в которой служил, и тот написал императору. Траян сначала разжаловал центуриона и даже сослал его. Затем предстояло судить жену, но муж, проявив недостойную слабость, не спешил преследовать её. Он даже оставил её у себя после этого скандала, словно удовлетворившись лишь устранением соперника. Его заставили довести начатое дело до конца. Галитта была осуждена, к великому сожалению её обвинителя, и подверглась наказанию по закону Августа против прелюбодеяний. Поскольку это дело само по себе не относилось к тем, которые должны рассматриваться императором, и лишь статус вовлечённых лиц побудил его заняться им, он, вынося приговор, особо отметил это обстоятельство, указав, что речь идёт о военных офицерах, дабы не создавать впечатления, будто он вмешивается в правосудие или присваивает себе все дела.
На третий день обсуждалось давнее дело, в котором был замешан вольноотпущенник императора Евритм. Суть процесса заключалась в подозрении на подложность одного кодекса, и наследники завещателя возбудили иск против Евритма и римского всадника по имени Семпроний Сенецион. Сначала все они выступили истцами, но затем некоторые, словно из уважения к вольноотпущеннику Цезаря, попросили снять обвинения. На это Траян произнёс замечательные слова: «Почему вы отказываетесь? Мой вольноотпущенник – не Поликлет, а я – не Нерон». Однако в день суда явились лишь двое наследников, и они потребовали либо обязать всех заинтересованных лиц присоединиться к их иску, либо позволить им самим отказаться от преследования. Адвокат Семпрония и Евритма возражал, заявляя, что его клиенты остаются под позорящим их подозрением. «Меня это не касается, – живо ответил Траян. – Я сам становлюсь подозрительным, будто покровительствую несправедливости». И, обратившись к судьям, добавил: «Решите, как нам поступить, ибо эти люди, кажется, жалуются, что им не дали свободы добиваться своего права». Было решено, что все наследники должны участвовать в процессе либо предъявить уважительные причины для отказа, чтобы суд мог оценить их обоснованность; в противном случае они подлежали наказанию за клевету. Такова была щепетильность Траяна в отношении своей репутации: он не желал допустить даже малейшего пятна в вопросах справедливости для всех граждан.
Так проходили дни в Центумцеллах. Вечером все собирались на ужин, куда принцепс приглашал знатных особ своего двора. Стол был накрыт скромно, без роскоши. Траян развлекал гостей музыкой и комедиями или же непринуждённая беседа приятно затягивала трапезу далеко за полночь. В последний день император раздал сопровождавшим его в этом небольшом путешествии гостинцы, согласно обычаю, принятому среди друзей.
В Центумцеллах он занимался тогда весьма полезным для общества делом: строил порт, названный его именем и известный ныне как порт Чивитавеккья, где папа держит свои галеры. Траян создал этот порт, возведя два мола, уходящих в море, а на их входе построил островоподобный волнолом, смягчавший силу волн и обеспечивавший спокойствие судов в гавани.
Позднее он также на свои средства построил порт в Анконе на Адриатическом море, желая сделать подходы к Италии удобными со всех сторон. В этом городе до сих пор стоит памятник, воздвигнутый в его честь сенатом и римским народом в знак признательности за это благодеяние. Надпись указывает девятнадцатый год правления Траяна, что соответствует 867 году от основания Рима.
Вскоре после пребывания Плиния в Центумцеллах, согласно Тильмону, он отправился в Понт и Вифинию. Траян назначил его управлять этими двумя провинциями в качестве своего легата с титулом пропретора, наделённого консульской властью. Вифиния была сенатской провинцией и потому обычно управлялась пропроконсулами, избираемыми по жребию. Но, как сам Траян пишет Плинию, там распространились злоупотребления, требовавшие исправления. Незадолго до этого вифинцы обвинили двух своих пропроконсулов, Юлия Басса и Руфа Варена, в вымогательстве. Можно предположить, что по этим причинам Траян решил временно взять провинцию под свой прямой контроль, выбрав Плиния как наиболее способного навести там порядок.
Плиний вступил в управление 17 сентября и оставался там около восемнадцати месяцев. До нас дошли письма, которые он писал за это время Траяну, и ответы императора. Из них видно, что Траян допускал, чтобы его называли «Господином» (Domine), тогда как Август всегда отвергал этот титул. Но обстоятельства изменились, и обычай возобладал.
В переписке между Плинием и Траяном следует обратить внимание, с одной стороны, на верность магистрата, который испрашивает указаний государя по всем сколько-нибудь сомнительным делам; а с другой – на достоинство, справедливость и здравый смысл, которыми проникнуты ответы Траяна, исполненные бесчисленных свидетельств доброты, которую он расточает Плинию как другу. Но ничто не интересует нас так сильно, как знаменитое Письмо Плиния относительно христиан. Хотя оно встречается повсюду, оно составляет слишком существенную часть такого сочинения, как настоящее, чтобы мне можно было его опустить. Я приведу его целиком вместе с ответом Траяна. Плиний пишет императору в следующих выражениях [50]: