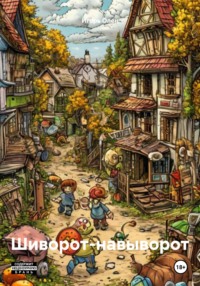Полная версия
Russология. Путь в сумасшествие
– Пап, красиво-прекрасиво! ― Сын прошёл ко мне в облезлой шубке.
– Очень, – отозвался я. – Ты прав. Природа, Тоша, красива.
– Где ручьи, пап?
– Будут. Ветер сменится на южный – потекут.
– Ох! Посмотреть бы!
Высь звенела клином птиц. Летят, дурные… Стыло, снежно, перемрёте!
Мы за завтраком решили: я отправлюсь в поле к «ниве», он пусть ждёт меня в усадьбе, где, мечтал я, Квашнины нам внемлют, видят отпрыска, ведущего наш род в миллениум. Я учинял смотрины; поправлял его, внушал, сев прямо, есть не дёргаясь; плюс я его расспрашивал, чтоб он явил свой ум. Так я давал знать пращурам, что дар его мне не развить по недостатку средств; а я себя отдам, чтоб он был счастлив, чтоб ему везло. Я ныл: на всё готов, о, предки и их духи, лары и пенаты! Где вы, где?! Я их умаливал, всех предков, сплетших из своих тяжёлых судеб тяжкий крест для нас, помочь ему. Я им вручал себя как жертву, жаждал быть испытанным, – забыв, что был испытан… С лёгким шумом через щели потолка из досок нá пол выпал прах с соломой в виде стрелки.
– Как стрела! – прокомментировал сын факт.
Я, вздумав сор убрать (намокший, он немедля станет грязью), выяснил: под прахом схожая, из жилок досок непокрашенного пола, стрелка. Что за стрелка? Знак искать окрест? всмотреться, вслушаться?.. О, Бог даёт мне шанс! – я начал мутный дискурс. Но расслышал трески… Трактор? Трактор кстати. Взяв картуз, я вышагал во двор и стал у лиственниц, прислушался. Злой ветер дул от поля, где осталась «нива», и при этом нёс треск явный. Я пошёл по насту сада ста своими килограммами. Путь – в гору, хворь томила. Долго я шагал и вот что усмотрел: во рву в снегах был трактор МТЗ, что тарахтел и трясся в холостом ходу; подальше – куртка возле «нивы»; карбюратор, руль и лобовик в сторонке.
– Трудно? – молвил я. – Бог в помощь… Как с машиной? Получается?
– Корпеем! – Куртка скручивала провод. – Ключ подай.
Ключ находился у «запаски», снятой, сдвинутой за бампер, и от места, где вор рылся, этот ключ не доставался.
Куртка наконец опомнилась. – Ты кто?
– Я в Квасовке живу. Верней, мой дом там, – отвечал я. – „Нива“-то – моя.
Он хмыкнул: – У меня есть „нивка“; я хотел запчасть!.. Брат, ладно, извиняй. – Он сунул крепкую, короткую немного руку. – Познакомимся… Ты влип. Пункт двадцать… нет, двенадцать правил октября… а года девяносто, вроде, третьего, гласит: воспрещено стоять, где тормозишь движение, въезд-выезд для других. Штраф – тысяча. Прикинь? Брат, шутка; я шутю! Я был гаишник. Пётр Петрович; правильней – Магнатик. Кличут так: Магнатиком.
– Я Павел, – отозвался я, – Михайлович.
Он грузен, животом вперёд, и дюж, широкоплеч. Ворс на огромной голове – короткий, цвета тёмного обжаренного кофе. Ниже – каресть глаз над толщью вислых, в оспинах, бульдожьих щёк. Пухлявый купидоний рот как будто стиснут был щеками, что, включительно, сжимали смуглый и ноздрястый нос. Дородность, явственная брюхом, выпершим под курткой, с толщью ног в ворсистых брюках и в ворсистых же ботинках, наделяли незнакомца обликом шиншиллы или суриката, а не то курганной скифской бабы. Так телесно. Статусно он был из средних классов, бравших более смекалкой, а, допустим, не лопатой – делом низших, и не мощным интеллектом ― свойством высших. Поглядев на ров в снегах, на трактор, я сказал:
– Вчера застрял… Промни путь к Квасовке?
Он пóднял снятый им аккумулятор бедной «нивы». – Без проблем. Я тут хозяин! Путь гребу на ферму; а она в Мансарово. Мне денег нужно; взять под сев солярку. А для этого мне нужно сдать бычков. А ферма – ближе к Квасовке. В Мансарово, где трасса, тратно, брат, прикинь? Тут мне под три кэмэ, там – семь при яминах. Тут три в полях, пять трассой – город Флавск… Путь тут давил вчера, соляра кончилась, я сдал назад… Выходит, ты с асфальта зарулил в тупик?.. – Он, ставя лобовик на место, продолжал бахвалиться: – Тут было поле, но колхозное. Теперь – моё тут поле! Я твоё ли брал? Подумай сам: раз на моей земле – моё! – Он посмеялся. – Сорок га. Кормá сажу! Сколь взяток дал чиновным – всё равно в паях с ментами и с жулярой Зимоходом; он тут главный по району… Я известный, брат! Король, прикинь, мясной и рéкет! Главный рéкет – скот, смекаешь? Первое в делах, брат, что? – делиться; ты со мной, а я с тобой и с третьим… Я смышлёный! Жизнь понюхал не для виду… Будет ровчик! Сделаю, промну! – пообещал он, отходя от «нивы». – Дом твой справа ведь, сосед? Мой двор в Мансарово, на южном берегу и крайний, наискось от твоего. Моя там ферма, сам я флавский… Брат, с тебя гощение. Не то дай миллион. Шутю!.. – Он влез в кабину, хлопнул дверцей.
Трактор затрещал, поехал, разгребая снег. Я покатил во рву. Свобода, а не западня! И выехать, и возвратиться в Квасовку отныне без проблем! Магнатик лишь заставу повалил, въезжая в сад. Сын ждал меня у дома и поглядывал, как нож теснит вал снега к хлеву. Увозимый в гости, я смотрел, как он игрался в снежных кучах.
– Сын, никак? – оскалил гнутые внутрь зубы, точно у акулы, плут «Магнатик». – Подождёт… – Он выехал из сада и сронил нож трактора – грести отсюда путь в Мансарово. – Я чтоб тебе – ты мне чтоб… Выпьем, пошумим? Ты не с Засранска ведь? С Москвы! – сказал он. – Так оно?
Пройдя распадок и спустясь туда, где русло речки Лохна ширилось и был удобный брод, мы взяли вверх, к селу, теперь почти безлюдному, к окраинной усадьбе: коей я дивился и считал красивейшей окрест. Моя усадьба смотрит к югу. Эта, верх по Лохне через пойму, – смотрит к западу и, как моя, – в периметре берёз, черёмух, вязов, скумпий, клёнов, лип да караган, то бишь акаций. Пращур мой, боярин-воевода, дислоцировал здесь крымцев, сто татар; их овцами прославилось Мансарово, от Лохны веяло овечьею мочой, овчарни были всюду. В овцах, по традиции, всяк из мансаровцев экспертом слыл, но больше в спорах, чаще пьяных, мол, «овцу растим!», «могём овцу!». Село Мансарово входило в наши вотчины, а крымцы здесь лишь жили с Мансур-беком, их мирзой. Домишки, в стык друг к другу, без деревьев, шли по склону; ниже, к пойме, шли пристройки: птичники и риги, гумна и овчарни; от жилого ряда отделяла их дорога, жалкая, в колдобинах. Так здесь, на правом берегу, где жили прежде упомянутые крымцы, где я сам стоял с Магнатиком спустя векá – четыре точно. Берег левый, через Лохну, был российским и являл ряд изб, взрываемый покосами. Но главное, что там деревья: клёны, скумпии, сирень, рябины, ивы, ― были всюду подле изб; там, кстати, в пойме, уремá7 особенно густа, что здесь, в безлесьи, редкость. Дальше на российской стороне и выше по течению был холм в развалинах святилища Живоначальной Троицы. Тропинка шла к мансаровским далёким шлакоблокам, сдвинутым в квадрат; там жили влахи, молдаване и чеченцы, также кабардинцы в позднем Сов. Союзе; в «перестройку» все разъехались.
Какой народ так склонен к вышнему, и так охоч до грёзы встроить мифы в жизнь, и так разверст для бездн, как русские? В нас «серость»-де не просто так, а к ви́дению тайн (взять лейбницев, их чистый интеллект, трактующий об умных броских смыслах, получается, что плод мышления такого интеллекта – в низменном мещанском быте, русским тошнотворном); а точнее, для постижения всех-всех вселенских тайн с ревизией идей житьём-бытьём на грани, на закраине, как бы не тут уже в «сём мире», но извне, чтоб волю направлять не к заурядным «дважды два четыре» и к учёным тезам Гегеля и пр. «духовностям», но к сфинксовым великим откровениям.
Мы против западной расчисленной динамики и стазиса востока, чувствуя: не в этом суть, оно зря, попусту; не техникой с традицией вершится жизнь, не Теслой с Буддой; это – к гибели. Жить без машин/карм лучше, истинней. Мы всё изведали: творили Вавилон, взлетели в космос, вызнали вселенский ген и атом пользуем…
НО МЫ УМРЁМ.
Нам, русским, ваше лишне.
Дайте жизнь. Жизнь Вечную.
Слаб разум наш ― сильна инаковость. Мы чýжды всем, поэтому всем кажется, что мы юродствуем. В делах бездейственных, нас трогает лишь то, к чему мы призваны. Мы ждём, издаст ли клич, чтó русских наняло с начал творения и чьи мы духом, нервом, плотью. Мы – бездельны; если дельны, то во вред себе. Нам в смерть ложь действия; дела мертвят. Пусть их работают, чтоб набивать мошну и чваниться; в сём Смысл Вселенский Мировой и все вообще их смыслы! Пусть китайцы, иудеи, англо-саксы, что стремятся жить комфортно, прагматично и этично, холят смыслы. Мы вскрываем, чтó в их смыслах, воплощая их, и видим: ничего в них нет. Нет жизни, лишь мираж… От тягот жить на пике, в пограничном состоянии, то бишь нигде, от пошлости их смыслов и идей мы пьём, дабы избыть тоску.
Два лба тянули створки от ворот со скрипом; Коля с Толей, братья из Мансарово, лохматые, безмолвные, нетрезвые.
– Нажратые? – спросил Магнатик. – Прям с ранья? Дурной народ!
Я глянул в даль.
Здесь, на тенистом в ранний час угоре, снегу больше, воздух стылей, тени – пасмурней, длинней, чем умножалась сумрачность. То здесь. А наш, открытый югу и рассвету, склон с Квасовкой сиял; мой дом там виделся торцом под вальмовою крышей из-за зарослей периметра да блеском стёкол «нивы». Вправо – крыши (дым из труб) соседей, плюс Тенявино, конец его по имени «Слободка»… Сердце ныло; захотелось к тёмному пятну на кучах снега – к сыну. Многое сводилось в сыне: счастье мира, – впало мне… Чтó я в деревне, для чего? А для того, чтоб, в том числе, побыть с ним. Но, в итоге, я молчал вчера, когда мы ехали. И вот мы снова врозь. Зачем сейчас, в наш первый день в глуши, я вновь не с ним, а гость того, кто обирал меня? Я потерял бы «ниву», не успей к ней!
Я – раб хапал?
Уступаю, как всегда?!
Нет, стоп!
Последняя уступка – им, корыстным, к сиклю падким бестиям, ввиду того, что я в усадьбе, нравившейся издавна. Продолжу. Погребá, коровники с овчарнями шли – справа и налево – продолжительной стеной известняков на глине, предваряющей забор, что продолжался до ворот с дощатой покривившейся калиткой. В строй вступал фасад избы из брёвен, на высоком цоколе, с тремя окошками в наличниках. А за избой левее – вновь стена из бутового камня и из глины. Так по фронту. Фланг усадьбы метров тридцать вверх по склону отмечался стенкой бутового камня; выше шёл ранжир деревьев. Сделав шаг, я стал в воротах, так что бок избы с верандой стался слева, за комбайном, здесь ржавевшим, и за плугом. Центр усадьбы занимала площадь грязи. Дальше виден был телятник, ведший в сад. Скот взмыкивал; несло навозом. А Толян/Колян (за сходство-неразлучность) в драных куртках, в драных кедах под штанами, «слушал» шефа:
– Ну вас к фене!! Пей-то пей, но отнеси скоту пожрать сначала, приберись, – вещал он, громоздясь дородством. – Ты, Толян, уволю – пропадёшь.
Тот пах сивухой, объясняясь:
– Понаехали, ёп, к нам, тут всякие, мешаются… Я трактористом был, шабашил – и ненужный стал в их ЗÁО. Председатель там Ревазов; он нерусский. Я родился тут, живу; вон дом. Пусть котются в Чечню свою! – Он, сплюнув, посмотрел на брата. – Где порядок, ёп? Пусть котют! Я б к ним в горы понаехал, покромсали б на куски; там рот, там глаз, вон там мудя́ – приветики. А тут?
Магнатик влез широкой пятернёй в карманы куртки, вынул зажигалку, сигареты, дал курить Толяну и Коляну в тряские от перепоя пальцы. – Херь несёшь. Виновен, что ли, кто, что жрёте спирт?.. Соляру жёг я, трассу рыл зачем? Чтоб скот возить, сдавать его. Вот-вот кредит платить. А что мне взять с телков голодных? Где привес? С хвостов гавно сдавать, Толян? Дурак ты был, дурак и есть!
Тот пыхал дымом и кривился. Брат его, который был моложе, бросил:
– Сделаем. Акей, ёп!
– Хватит врать; работай! – пригрозил Магнатик и позвал меня: – Идём.
По лужам, мешанным мочой, от трактора мы с ним прошли к веранде, полусгнившей и скрипевшей; наклонясь под притолкой, вступили в нутрь с лампёшкой наверху и светом в мутных окнах. Пол некрашен, грязен. Против тыльной безоконной паутинистой стены имелась закопчённая большая печь и длинный, под клеёнкой, стол меж лавок; на бревенчатой стене торца висели полки с крýжками, тарелками, пакетиками круп. Кровати: ржавая стояла под окном, а новая – близ печки. Запах курева, объедков, простыней был кисл.
– Вонища… – Сморщившись, Магнатик дёрнул форточку, достал из-под кровати пыльную бутылку, сдвинул хлам стола на угол; из бутылки влив спирт в кружки, грузно сел. – Ну, Пал Михалыч, значит, выпьем?
Я изрёк: – Здесь фермы не было. И вдруг…
– Вдруг Битюков тут? Фио так моё, брат: Битюков Пэ Пэ. А для людей – Магнатик!
– …хлев на этой вот усадьбе, а она красивая, – закончил я пассаж.
– Брат, мне твою бы! – Так сказав, он, махом влив в себя сто грамм, хрустя солёным огурцом, продолжил: – Лиственок тройку – с детства их видел. Ты там не жил тогда. Кто жил там, знаешь? – а Закваскины! Краса там, брат, по мне… Потом на этой вот усадьбе бабка померла, сын сгинул; дед остался, сам ледащий. Деда свёз я в престарелку; дал и денег… – Он курил и скалился. – Мне, малый, Бог даёт. Сплошь кризисы; кто был богат – тех нет. Я – есть, я выстоял; моё со мной. Ты видел трактор? Мой! Ещё три ― в Флавске. Сеялки также, рефрижератор, скрепер и кран! Бычков ты видел? Я барон мясной, власть, сила… Я жизнь знаю, не дурак! – Он помолчал. – Бычки – на вывод. Мясо я везде беру в районе. Красногорье, Ушаково, Орликово, Локна и Мансарово; потом, считай, Щепотьево, Лачиново, Рахманово, Никольское. Я ежжу в „нивке“ – „нивка“, брат, точь-в-точь твоя, но красная; я ей снимал детальки с „нивы“, брат, твоейной с этой целью… Надо номер, что нарушил пэдэде, снять тоже, Пал Михалыч… Пей! – Он опростал всю кружку, щёки вмиг набрякли, точно свёклины. – Магнатик я! Всех в Флавске знаю, кто богатый! В баню ходим, в рестораны!.. Кем я был? Никем! Мой дом, прикинь, как терем! Есть квартира. Дочке в Туле строю дачу… В мае зéмли распашу под корм. Ваш путь я тоже распашу! Всё тут моё! – Он посмеялся. – Будешь ехать ты не полем, как бывало, а над поймой, да и свалишься с обрыва, Пал Михалыч! Думаешь, что у меня лишь „нивка“? Нет, „фордяк“ есть и „тойота“. „Нивка“ мне – для бездорожья… Этот год я в Крым рвану. Мы с Крыма, то есть предки. Я мансаровский!.. Жизнь – во! Мне сорок, стаж под тридцать пять. И, хоть делá есть, пью. Ты спрашивай, отвечу!
Битюков П. П. (Магнатик), – из Мансарово, из здешних. В детстве кликали «Петрушей». Был хорошим, сильным, добрым, но ленивым. Школу кончил с тройками. Во Флавске стал служить в ГАИ, махал жезлóм; а вскоре выехал в Норильск (год службы шёл на Севере за два как будто бы). В Норильске стал зам. нач. Страна сползала к рвачеству и к воровству, вняв Рóзанову В., философу, в той части, что в России собственность случается из «выпросил», «украл» и «подарил»… Был путч, потом был Ельцин. Воровство пошло повальное. Он начал криминальный промысел: заимствовав бесхозное по случаю авто, сбывал авто. В дальнейшем бизнес свой расширил, так как понял: больше денег – больше чести и престижа. В ходе слома госструктур, в анархии различных, росших, как грибы, «товариществ» с их очень скорой ликвидацией, он прибирал к рукам катки и экскаваторы, бульдозеры и скреперы – солидную, но в те поры ненужную покамест технику; а оформлял всё в собственность приватной фирмы «Доблесть», многое распродавал и вкладывал «нал» в «сникерсы», в спирт «Royal», в «адидасы», в «доширак». Он стоил «триста штук заокеанской зелени»; насели конкуренты; он уволился, уехал с Севера во Флавск. Флавск – пашни на холмах. Но с ликвидацией колхозов их забросили. Брать молоко? Трат много, каверз масса: тара, стерильность, рефрижераторы, большущие объёмы при грошовых выгодах. «Мясцо» – рентабельней. Объехав сёла, обеспечив рынки, он учредил с чинушей Зимоходовым АО «Meat-сбытчина», брал мясо дёшево, сбывал дороже. Приобрёл поля, – опять же с Зимоходовым, – откармливать бычков двух ферм; планировал колбасный, маслобойный цехи и подобное. Прослыл «Магнатиком», поскольку флавские деляги главными поставили себя (магнаты-де). Он их дивил: сам плотничал, сам строил, сам слесарил, трактористил.
– Чем живёшь? – спросил он.
Чем живу? Торговлей, отвечал я. Канд. наук, ряд книг издал; приехал вот к «пенатам» с «ларами».
– Дом твой – в моих полях! – прервал он и оскалил гнутые внутрь зубы. – Брат, в моих! Земля – моя, и лучше мне бы там! Дом продавай: там ферма будет, йоркширам… – Он встал, чтоб от плиты с помятым, в саже, чайником протопать к полке с сахаром и вновь к столу, твердя: – Я кандидатов не встречал ещё. Штраф, помню, взял раз… – Сев, да так, что лавка скрипнула, он порыгал. – По правде, штрафовал судью. Чтоб уважали… Малый, ты прикинь: меня, брат, уважают и Толян с Коляном. К делу их определил. Прикинь, а?
– Выгонишь, – сказал я, – пьяниц.
– Нет, не выгоню. Я им защитник! Отними мой смысл, что нужен, ― всё! Чем жить тогда? А нечем… Прежде жили. Нынче лишь одно ― украсть. Мне лучше, сотне хуже. Я ограбил, обобрал их ради денег для себя; но обобрал не сам, ― системой, брат… ― Он стал нетрезвый. ― Я советским рос, чтоб эти, октябрёнки, пионеры… Смыслы были! Смыслы!
– Водку пьёшь поэтому?
– Прикинь! – Он звякнул в кружку ногтем. – С водкой меньше думаешь. Что толку?.. Как фамилия твоя?
– Кваснин.
– Квас квасовский?.. Вот дед Закваскин жох! Я дом присматривал; он врал, купи, земля его. Тебе он, вроде, дом лишь продал, без земли под домом. Врал, отец его и он за правду гнили в Магадане при советской власти. Мне деревья в спил давал; плати, брехал, пять сотен и пили три лиственки. Весь сад его как будто бы… А звал тебя не как Кваснин, а звал „Рогожкин“ и „Рожанский“, я не помню.
– Дом записан на жену… Спасибо за дорогу, что прорыл. Пойду… – Я стал прощаться.
Он смеялся. – Жди, брат, в гости!
Прочь я шёл вдоль стада во дворе худых бычков… Ворота… пойма… мостик… Дальше, влево, шла тропинка к дому братьев на пригорке. Мне – направо. Я полез через сугробы. Выбравшись к «магнатиковой трассе», повалился. После поднялся в сильной тревоге… А, Закваскин!! Что выходит? Что усадьба вся – его? Моя – изба, не более? Так он сказал?.. Лжёт, лжёт старик, нахрапом лжёт! Но с целью, верно, действовать от налганных им прав. Он, в силу этих выдуманных прав, мог вырубить вообще всю флору близ моей избы, мог сжечь саму избу. Уеду – он займёт мой сад, ракалия?!
Сын притыкал пузатой снежной бабе ноздри и расспрашивал:
– Снег стает? Скоро, пап? К нам деда Коля был, с клюкой, хотел воров бить и ругался. Думал, что я вор… Когда тепло? Ручьи когда? Ты обещал!
Я обещал, но, видно, зря; тянул, то силясь, то слабея, ветер с севера, а солнце плавило слежавшийся снег поверху, на пользу только насту.
– Порыбачим? – предложил я. – Коль ручьёв нет, порыбачим. Ты согласен?
Он завёлся: ох, где удочки? наживка? ох, а черви ведь под снегом! как достанем их?.. Мы с ним «рыбачили», а также и «охотились» частенько. Раз спустились, помню, в пойму; долго крались за кустами; он ко мне тревожно приникал шепча: вдруг утки? хватит ли патронов с пулями? вдруг будут цапли? выстрел громок ли? а рысь придёт? а волки? а медведи?.. Стоп, – твердил я, – дичь разгоним. Он смолкал. Мы с ним садились. Шелест трав и всплеск на речке нагнетали безмятежность. Предвечерие вгоняло в сон… вот он зевал, не вздрагивал, коль вскрякивал пролётный селезень… Низ поймы красился закатом… Я смотрел на древнюю ракиту, важную мне памятью; встав, видел дом вверху, где ожидала Ника… В сумерках плелись домой – без уток, лис и рыбы. Не стреляли: ценен был волшебный ритуал.
Вот – леска. Леску я привёз.
А за удилищем пришлось идти в строй флоры, опоясывавшей сад. Там, повторяю, липа, клён, калина, дуб, орешник, бересклет, вяз и берёза, сливы, вишни, яблони, сирень и пр. – рай зайцам; круглый кал их и погрызы были всюду. Но, что хуже, в этот год наст так высок, что зайцы драли кроны. Я застыл близ дерзких пиршеств (клочья меха, к радости, являли мне, что филин либо волк, а в том числе лиса смиряли грызунов). Сугробы протоптав, я срезал клён, прямой и юный. Кстати, несмотря на красоту, клён – древо сорное, роняет семя густо; семя травят, только попусту, клён экспансирует стремительно, вот-вот захватит мир.
Клён под удилище хорош, и, сев потом в избе, я наблюдал, как делают снасть ручки сына, схожие с квашнинскими, которые подходят для сохи и сеч, но и для флейт. Он хорошо играл; дар матери, хорошей пианистки. Нужно заниматься обстоятельно; дар чахнет без вседневных упражнений.
Поплавком нам стала пробка от бутылки; ржавый болтик стал грузи́лом.
– Черви! – горевал сын. – Где наживка? Из-под снега как достанем?
– Не достанем; слепим их.
Я сделал тесто, и, пока оно вспухало, освидетельствовал снасть. Сын ликовал. Я видел, что «рыбалка» в полном, так сказать, разгаре. Приготовленное тесто покромсали.
– Тесто, пап, как червяки, вкуснющее, отличное! Поймаем всех-всех рыб! – твердил он.
Лохна (речка) – мелкая, но прыткая, однако и студёная; в ней водится лишь мелочь: вьюн, уклейка, раки, окунь да плотвица. Щуки в редкость; асы шлялись, помню, тщетно вдоль течения, салаги-новички – тем паче.
Выйдя за скрытую снегом калитку к нижней, над поймой, узкой дороге, ведшей в Мансарово и Флавск через Тенявино, мы встретили юнцов: шли мимо, скалясь…
Мы сверглись в пойму. После проплешин высохшей почвы в травных зачёсах на крутояре – встали сугробы. Я подминал их; сын же брёл следом. Нас провожали взглядом юнцы. Дом тоже провожал нас взглядом окон… Скольких нас, сходящих в пойму, провожал он? Был когда-то воевода, гордый доблестный боярин (пойма заполнялась Лохной в четверть); был помолог, автор нескольких «эпистол», средний дворянин (у Лохны, что мелела, он растил ракиту); был мой прадед однодворец (Лохна, сжавшись, отступила от ракиты); был мой дед из царских офицеров. Вот здесь ― я, чмо, лузер, нищеброд, с зауженной до собственных моих экономических и социальных etc. мер Лохной. Будет здесь когда-нибудь мой сын; он вырастет, а Лохна обмелеет до ручья… Пройдя к косе, я встал на отмель; здесь отец, как он рассказывал, шёл лавою (настил на брёвнах) в Квасовку… На том, на правом, берегу, за лугом и левее – край Тенявино из сирых молчаливых изб вдоль склона (ведь село, имеется ввиду Тенявино, от Лохны по обоим берегам).
Рыбачили. Наш поплавок трясло течением, бежавшим в снежном ложе с льдистой вычурной каймой. Я перекидывал снасть часто, но впустую: ловля рыбная текущих Квашниных, сравнить с аксаковской.
– Где рыба? – хныкал сын.
Прошли туда, где быстрина ввергалась в заводь; поплавок наш в ней не прыгал, а стоял на месте.
Сын спросил вздохнув: – Мы здесь. Она в Москве. Ну, мама. Почему?
– Так вышло.
– Пап, а знаешь? – Он смотрел в волну, недвижный. – Ты не денежный?
– Нет.
– Умный, про язык писал две книги и – нет денег? Мне учиться флейте нужно, чтоб быть бедным? Вы сказали: продавать там надо что-то, будут деньги.
– Брáтину, сосуд старинный; пять веков сосуду… В Квасовке, Тоша, прежде чертог был. Там жил твой пращур, славный боярин. Вещь, что бабушка и ты хотели бы продать, – его. Наш род, характер, честь и слава, орифламма…
– Пап, а мне бы бронтозавра на моторе. В „Детском мире“ продаётся. Он до пояса мне. Включишь – ходит и рычит и раскрывает пасть… Клюёт!!
Наш поплавок исчез в воде; я потянул его вверх, крýгом, вбок и книзу, резко дёрнул… Вздыбилась ветка, капая влагой, – и леска лопнула. Сын плакал. Апокáлипсисом стал топляк, пожравший наш крючок… От Лохны шли в расстройстве; я давил сугробы, так топча путь, кой, провидел, пригодится… Наст истёк в сухие травы крутояра, выжженного стылым солнцем. Я полез в карман за спичками.
– Мне дай, пап! Дай их!!
Он чиркнул спичкой. Высушен югом, яр вспыхнул с треском; флора чернела. Сын с визгом бегал, всё комментировал, вертел свой белозубый лик… Мне люб вид трав в огне с тех пор, как на Востоке видел я пожарища, что меркли подле вод. Я, всматриваясь в гладь со скачущим в ней пламенем, гадал: чтó стал огонь? зачем смирился подле влаги? Видел же я там – себя. Я понял: отражение даёт возможность выделить себя из мира, обособиться. Я понял: если пал хирел у вод – то, значит, отражаться, рефлексировать опасно, даже, может быть, весьма. Отсюда мой вопрос: субъект-объектности быть не должно? Познание как отсвет бытия в рефлексии есть смерть? Незнание, выходит, живоносно?.. Здесь ежегодно пал мчал поймой, жар несло к разлогам, в пустоши, к домам. Раз вспыхнул мой старинный сад; стволы преклонных лет и то ожгло, а дом чуть не сгорел. Сейчас я сберегал дом, делая пожог.
Яр потухал дымя. Мы с сыном двинулись с «Планеты Палов» в март Земли; наш каждый шаг взрывался пеплом до границ снегов.
Юнцы, что встретились перед рыбалкой (кто ещё?), украли наш рюкзак с продуктами и, из цветмета, примус с чайником… Есть надо? Надо. Снова пустившись к нижней дороге, я на ней свернул налево, прошагал полсотни метров. Там была изба другая – в два окна, без цоколя, с прогнившей крышей, без веранды, но, при этом, с белым, каменным, отполированным крыльцом. Навстречу, двери настежь, выбрел дед, квадратный и в папахе пирожком; в стык брови; мрачен, насуплен; плюс в безрукавке типа фуфайки, в фетровых бурках, что ниже брючин серого цвета.