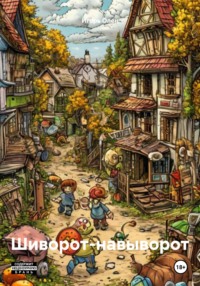Полная версия
Russология. Путь в сумасшествие
– Прибыл, Рогожский?.. Иль Рожанский, точно не помню? – начал он громко, даже чрезмерно, словно бы ждал меня.
Отец, наведавшись сюда, когда я приобрёл избу, и вспомнив в этом ближнем к нам соседе бухгалтера старинных дней, с тех пор здесь избегал быть, в «капище предков и их лемуров» (то есть злых духов).
– Стук… Хозяйка, видимо? – спросил я о шумах за дверью.
– Ишь, хозяйка… Где хозяйка? Кто хозяйка? Нет хозяйки и не будет. Дура в Туле, в онкологии, – бурчал он, став в проёме, супясь. Он ни разу не впускал меня к себе. – За грех лежит… Иль сдохла?.. Пусть бы сдохла! Продала дом, – я страдал тогда на зоне, – и втолкалась, блядь, сюда, в херовый этот дом, где мучусь.
– Списывались, помню, ― возражал я.
– Хрен вам с мёдом в селезёнку! Пишет вот кто! – тряс он бланком. – Мне! Закваскину!! Проникся? Николаю персонально Фёдорычу! Бланком! С министерства! „Буду сын“…! – Он кашлянул. – Есть дочь в Орле. Дочь что? Дочь баба; где-то, тварь, блядует, проститутка-шалашовка… Сын есть сын: он мал был, сын, я сел за правду… Жить мешали, коммуньё… Я знал: их скинут, всех идейных! Знал я это с Маленкова, начал бизнес с ГээСэМ. Фартило, наварил я… Слили, падлы, сел… Вот суки! Жизнь сломали!.. Дом я прóдал из-за дуры. Ныла-выла: сыну деньги, дочке деньги, я больная, ты на зоне; он, талдычит, тот Рожанский, он даст тысяч, купит дом наш; деньги будут – мы найдём, где жить, как выйдешь; пол-села, мол, изб пустых, в любой селись, хоть в той, хоть в этой; а москвич, мол, хочет в Квасовке и в этом самом доме; он серьёзный. Мол, Рогожский Пал Михалыч даст нам деньги, тыщи три даст. Вот же сука!.. Ты разумный, – он скривился. – Три дал… Знал, Горбач угнёт рубль, так ведь?.. Глянь, Рожанский! – Он представил фото: брови в стык, белёсы; взор нетрезвый; гимнастёрка при погонах с лычкой младшего сержанта; челюсть как у архантропа. – Глянь! Орёл!!
– Отец?
– Он самый! Дом твой – наш был, дом дворянский. Дом забрали. Гад Квашнин забрал, пьянь-голь, в бок маузер, давай! Храм рушил, убивал, гад; комиссарил… Мы, Закваскины, – дворяне… – Он, икнув, прошёл в дом, выпил, став спиной ко мне, из кружки и вернулся – врать про сына, что «по зонам да по зонам, а герой в итоге». (Говорили, раз стащил тот сын мопед и сел за кражи – в лад с отцом, сидевшим при Хрущёве, а потом при Брежневе).
Дом в Квасовке записан был на Нику, на жену мою, чтоб я имел свободу в здешних мыслимых коллизиях, какой лишился бы, зовись Квашнин. Ведь в этом случае я возбудил бы токи чувств: симпатий или антипатий здешних жителей, – чем и вовлекся бы в итоге в отношения; а как чужой «Рогожский» – я в сторонке, наособь. Я слушал пьяного соседа ради некаких возможных новых сведений о предках, но с брезгливостью к облыжным выдумкам, ведь ложь – их суть.
– Закваскины, с дворян мы, – врал Закваскин. – Гад Квашнин тут комиссарил!.. Батя мой был кавалер. Георгия Святого!! Квашнины – те были крепостные. Наши также были мельницы, колбасные, завод кирпичный, сёла… Что молчишь? Знай раньше, при советах-коммуняках, то донёс бы враз? в ГэБэ? – Он зло толкнул меня. – Знал бар ты в жизни? Знал? Не знал… Сын едет! Понял, нет? В хибаре встречу, не в отцовом доме. Продала тебе Степановна наш дом потомственный! Дочь, ныла, требует, болезнь, скулила… Дура! Был бухгалтер – иждивенила, ходила фрёй. Вдруг – хер; второй отсидкой фáрты кончились: шиш с маслом, жили с ней подворьем. Пенсия – рубли. Хоть сдохни, а не жизнь! – Он посморкался. – Батю бы!.. Он внука не видал. Загнулся. Он в гулаг, по Солженицыну, попал, сдох в хворях и не дóжил, что любимый внук его министр. Сын, глянь, гербы шлёт! Понял? – Он тряс бланком. – Малый, внял?
Бланк был действительно казённый, с реквизитами Госдумы.
– Правит, стало быть, Россией! – возгласил дед, супясь. – Думал, в тюрьмах. Ан, во власти… Что, приехал? Значит, здравствуйте. Зашёл надысь к тебе; там сын твой в снег играет, лепит крепость. Раз приехал, слава богу! Зиму дом стерёг, ворьё гнал! Как иначе? Порастащат… Хошь не хошь, плати за стражу. Мало ли забот? Хоть лиственки снесли бы, запросто. Кто спас? Закваскин дом и сад твой спас. Плати и помни.
– Мне сказали.
– Врёт Магнатик. – Дед насупился. – Трепач Магнатик твой, спроси ты хоть кого… Вон, Гришку спрашивай хоть Заговея… Дай полста.
Стеречь избу я не обязывал: ходили воры и грабители ночами, это первое, а во-вторых, уж если бы пришли – что немощный и старый сторож? изобьют, а то прикончат; в-третьих, сам Закваскин вороват. Дав плуту пятьдесят рублей, я зашагал прочь, слушая, что он теперь съестного купит, «нажил» караульной службой «грош».
– Ну, ты бывай в дому, что я сберёг, сосед!
– Юнцы прошли, – я вспомнил. – Не встречались?
Он нёс ересь.
Я не слушал, проткнут болью, чувствуя, как все тревоги схлынули и я впал в сферу истин. Мысли гасли, обрывались; я желал лишь одного: избегнуть тьмы, наползшей сверху, снизу, сбоку, пусть в глаза блистало солнце. Сгорбленность ли, чернота глазниц, стон боли – парень с вещмешком, что шёл в Мансарово, в испуге отшатнулся от меня. Тропой, которая осталась от надпойменной, засыпанной сугробами дороги, я направился в разлог (за ним Тенявино), к последнему жилищу Квасовки при белом полированном, – я взял за цель его, – крыльцом. Такое же и у Закваскина.
Здесь, за плетнём, был двор из чёрной, подмороженной грязищи, что копытилась обычно мерином, коровой, овцами; им помогали куры, гуси и индюшки. Крытая обломком шифера, копна окарауливала хлев, кирпично-каменный, с разверзнутыми створками и, к ним вплотную, розвальнями с сеном да с телегой, но без колеса… Он взялся шаркая, таща корыто. Познакомились мы с ним ряд лет назад здесь, в Квасовке. Косили как-то утром под-над садом; я пошёл туда; косарь сказал, он – квасовский, «сквозь дом» живёт, звать Заговеевым Григорием; конфузясь, попросил «дать водки или что спиртного, коль нет водки». Из спиртного был лосьон, я дал ему лосьону; он ушёл и не косил три дня. Мы сблизились. То было в древности, давно.
Он подошёл, отёр о фартук пальцы, поздоровался, сам невысок, острижен, худ и в валенках: он их носил и летом: «прискорбел ногами».
– Что ж ты шаток? – произнёс он.
Я упал.
Под тополем в телеге у копны придя в себя, я спрашивал про Бобика, про пса.
– Сдох Бобик… – Шлёпнув на висок мне снега, Заговеев сел вблизи, взял папиросы, чиркнул спичками. – Окрепнешь… Пугивает смерть, косая!.. И со мной: вдруг брякнусь на косьбе ли, дома! Дак придёшь в себя, встаёшь. Ты молод… Рано, друг Михайлович! Моя хоть померла до срока, дело женское. Рожала, изработалась. И немец, быв тут месяц, бил девчонку. Отлежалась, отошла-а, – тянул он, – Марья-то. Потом ещё трудилась – звеньевой в колхозе. Ну, а как же?
– Побираюсь, – вставил я. – Обворовали. Прибыл с Тошей в ночь. Сегодня мы рыбачили; юнцы прошли. Спросил Закваскина; он их не видел; сына ждёт; и деньги взял, что дом стерёг. Внушал мне про дворянство. Род – дворянский-де Закваскиных.
– Закваскин мастер врать! Он был партийный раньше, и бухгалтер был. Был с ним второй, нач. склада, – но не тут, а в Флавске, – Оголоев. Расхищали! На собраниях, – я тракторист был, – в крик кричат за нашу власть, за партию, за коммунизм – и тащат. Их поймали, в шейсят первом ли, втором. Его сперва – дак всё свалил на кореша. Тот кореш получил лет десять, наш – четыре или пять. А и потом крал, вор Закваскин… – Старый помолчал дымя. – Стал мак садить. Мы шутим: будешь кушать вместо каши мак? Он нам и врёт: скучал по цвету в Магадане. Был бардак, век брежневский. Торчки пошли. Ещё пёс брал кишмал у выжиг и сбывал. Сын тоже был жульё.
– Дед – кавалер Георгия?.. – Спросив, я вздрогнул; снег попал под куртку и студил. – Квашнин их мучил?
Собеседник отшвырнул окурок. – Кавалер иль нет ― не знаю. Не с дворян он. Есть Агарины, те с Флавска. А дед Федька, кто Закваскина папаша, – был пропойца. Как Советы наступили, выдал справных; знал про всех, где что; тягал, вор… Сторожил, врёт? Сторож… Как уедешь, он тут барин и хозяин… В барах-то Квашнин был. Дак помещик натуральный! Жил давно, растил сады, где кладбище. Их посейчас зовут Квашнинскими. И – Квасовка. А не „Заквасовка“, хоть тут Закваскины… Дворяны?.. Брешет!! Приходил ко мне с депешей, этой самой, с телеграммой, мол, повалим лес Рогожского; часть на дрова, а то продать, а часть на доски предназначить; сына не на чем, мол, встретить, пол гнилой. Я – нет. Он с Флавска высвистал Серёню и Виталю, ходят в трениках, спорсмены; он им вроде как пахан. Медь тащат, технику. Воруют. Я стращал им: сдам в милицию. Они мне – Бобика, потом – избу спалим; бензин в стог – нате… Правильно мне скарб занёс на прошлом годе. Он к тебе, пёс, хаживал. Сдурел с гербами на депеше! Врёт запоем: время наше; сын в министрах, будем с сыном бизнис делать, разживёмся… Дым я видел твой, Михайлович, вчера над домом. Побоялся; как не ты, а ихний сброд? – Он помолчал. – Куда мне с ими справиться? Как запретишь, раз сверху тащат?.. Воровская власть! – Он смолк, взял пачку закурить и хмыкнул: – Вон шагают, раздолбаи…
Вдоль плетня те самые юнцы в немытых «адидасах» и в ветровках (модный гопницкий «прикид») шли, скалились, в руках по сумке.
– Были у Закваскина, у пахана; там прятались… Михайлович, дак, значит, ты поймай!
Я понял, что не догоню двадцатилетнюю шпану.
– Пускай… Я, кстати, не Рогожский. Кто? Квашнин. Я правнук местных бар, тех садоводов. А участок на жену оформлен, на Рогожскую. Вот так, Григорий свет-Иванович.
Он покивал. Я стал ему своим по связям Квашниных, здесь живших, с близкими Закваскиных и Заговеевых и пр. окрест.
– Дом неспроста купил, чай? Тянет родина?.. Коль не Рогожский… то, Михайлович Квашнин, ну, здравствуйте! – Он подал руку, чтобы мою пожать – по-новому, особо. После он сидел-курил, взгляд в землю, приручая сказанное мной, но обронил вдруг: – Что молчал, Квашнин?
Молчал?.. Так легче с жизнью… Да не с жизнью, нет, а с данностью; но, может, и не с данностью, а как её: быт? сущее? реальность? явь?.. Давно уже я разделил Жизнь с Внешним, что вокруг. Я вник: последнее – не первое; они различное: здесь власть, порядок, в воздух чепчики, законы, иерархия и «дважды два четыре», хоть умри, – там прихоть, пакость, дурь, безóбразность, а дважды два – суп с клёцками, а то аэростат. Но где Жизнь застит Внешнее – как бы реальное, чтó в них единое и как туда и вспять, из Жизни в Данность (в явь, в реальность, в быт) ходить; чтó истинней – тут сложности. Как просто быть безличным, думая: ничто вовне, я где-то там в Гиперборее исполин; здесь пусть «Кваснин» – я в истине «Квашнин» заподлинный; во Внешнем пшик – я гений в Сущности, в неложной Сокровенности. Как просто быть безличным, коль не знать, где Внешнее, где Жизнь и чтó действительней. Означась, я постиг, что впредь мне здесь нельзя быть некаким Рогожским. Быть нужно – Квашниным, чтоб новому осваивать здесь новое. Я чувствовал: вот-вот во мне взовьётся подноготная, вопя истошно… Встав из старой чиненной телеги, где лежал, я лишь спросил:
– Что с комиссаром?
Заговеев тоже встал, в изодранном халате, в фартуке, чтоб меж затяжками досказывать: – Он сдал твоих, Закваскин. Я малой был, помню, он драл глотку, контру обнаружил, Квашниных, мол… Вас, тоись, знали! Мельницу знали вашу на Лохне; дед твой учил тут в школе; дак и сады – Квашнинские по имени, Михайлович, а не какие-то… Не знали мы единственно, что вы те древние.
Заняв еды, я ушагал. Отужинали с сыном.
Смерклось; воцарилась синева.
Я сделал важное. В хлеву хранились ветхие, от прадедов, салазки. Спрятав карабин, мы двинулись дорогой по-над поймой… В окнах ближнего соседа свет: факт найденного сына, «думца» и «министра», что, не праздник? Праздник, ясно… Близ меня брёл мой нелепый сын… Что он наследует? «Усадьбу», что, де-юре, только дом с землёй под домом? Плюс двухкомнатку в Москве не в центре? Плюс мой брат, на коего уйдёт вся прибыль от продажи старой, в городе Кадольск, жилплощади, чтобы лечить его? Наследство, в общем, дрянь… Есть, правда, брáтина как ценность, хоть и невеликая. Вдруг сын продаст её – Закваскину, «министру», «дворянину», «думцу», наконец?
Шли настом. Санки стряхивали ржавчину, скрипели… Канул третий двор с копной и стогом сена – заговеевский… Разлог… Тенявино… За поймой, справа, открывались в россыпь избы, нежилые. Да и рядом, то бишь слева по-над пойменной дороги, ― тоже избы без людей… Ночь ширилась, но попусту: из-за луны над Флавском тьма бессилела… У речки, в ивняках, над снегом – мельница. Там мой отец когда-то выискал тот сундучок, наш «patrimonium»… Был слышен плеск по перекатам… Каркнул ворон… Мёртвое крыло села вдруг сопряглось с жилым крылом, с туманными при лампах окнами, с дымящими вверх трубами и с брехом псов… От церкви в виде остова без крыши и дверей, мы двинулись по склону вверх. Я влёк салазки; сын спешил за мной… Руины… Школа – нынче остов (нет детей)… Вон свиноферма, вся в руинах… Маленький сельмаг, где я брал лампочки и крупы при советской власти, сгинул, обратился в прах… Водонапорка накренилась, скоро упадёт… Склон этот звался «Сад», «Сад Квашниных», «Квашнинский Сад», «Тенявский сад», «Сады»…
Вот роща: ивы, клёны и т. д. Кресты в сугробах… Кладбищу, уткнутому в поля, лет, верно, триста либо под пятьсот, а то и больше; часть распахана в тридцатых… Где старинный барин и помолог, «испытатель яблок» восемнадцатого века, друг Балóтова, мой прадед? Неизвестно. Где иные наши предки? Камень с их гробниц был снят в двадцатых, после революции, – на статуи вождей трудящихся крестьян и пролетариев… Пробившись в угол (там, возможно, под землёю пращуры) и сняв картуз, я стал под ветер. И стоял.
– Пап, мёрзну! – охал сын.
Я сделал, что хотел: он был здесь и, возможно, повторит маршрут своим сынам.
Назад он шёл по насту меж могил и крикнул, что наткнулся на «дорожку» к обелиску, где с фото вперился в ничто тип с грубой челюстью над обновлённым краской текстом:
Фёдор Закваскин
был дворянином и предколхоза
был в МГБ сержантом
1890 – 1959
помним навечно
Значит, Закваскин ладит культ предков? Ишь!..
Флавск слева вдалеке мерцал спорадами огней, а близкое Тенявино помигивало окнами. Но Квасовке тьма ширилась, огней там не было… Мой сын, везом в салазках по-над поймой, вдумчиво молчал, взирая то на речку вниз, то в лунность неба, то на мрачность опустелых ветхих изб. И я молчал, дабы не сбить ход сказочных в нём грёз.
Так моего отца на санках схожей ночью здесь в прошлом вёз мой дед. Так и меня, дитё, в приморских Унашах вёз мой отец. Так я везу сегодня сына… Мало ли: не подарив ни важных смыслов, ни богатств, ни красоты, ни славы, – прокатить ребёнка в погнутых салазках в глубине страны? Что я ему оставлю? Ничего. Лишь тягло жизни, магию холодной этой ночи и любовь.
Тенявино… конец его… Спуск от безлюдных изб в разлог в снегах… подъём вверх к Квасовке… двор Заговеева под слабым фонарём… второй фонарь – закваскинский… Мой дом – без фонаря. Левей, за поймой, отдалённо, – двор Магнатика с синюшными огнями… Сняв картуз, застыв, я слушал плески вод на Лохне, треск пухнущих весной стволов деревьев… Капнуло с берёзы над дорогой.
– Завтра жди капель, – изрёк я.
– И с ручьями, пап?
– Всенепременнейше.
– А к речке мы сойдём? Там поохотимся, как раньше?.. Крепость снежную построим?
V
Ночь моя – труд, труд мысли. В звёздных монистах кралась луна; стыл сад под лунным серебром. Шуршали мыши, ошалев от печки, гревшей подпол… Вновь с шумом ссы́пался прах с потолка: не стрелка ли опять?.. Март кончился; пошёл апрель… Я жаждал тёплых вешних гроз, и возбуждался стих про «воды», что-де «весной шумят»… При всём при том, ни в новый день, ни в день, когда уехали, весны не прибыло, как, впрочем, «вод весной»; под ночь мороз, а днём плюс пять, и к солнцу жизнь рождалась стылой. Завязи, мошки – весь их начальный ход погиб… Считают, русский климат формирует русскость? Нет, природой правит русскость. Шварц писал, что Жизнь, как есть она, способна внутренней интенцией и волей строить свой режим. В природе зло отсутствует; напротив, человек растлил вселенную (мысль Дун Чжуншý)… Я был в бессоннице, которая пряла холст мыслей неустанно, будто бы не хворой плоти – мыслям предстояла латка…
Утром стёкла были я́сны – знак сходства Цельсия вовне избы и в ней. Срок печь топить… Сын спал. Вот-вот уедем – я же с ним почти что не был. Я вскричал:
– Ручьи текут!
Он выбежал. Вернулся скорбный.
– Тоша, день шуток. С Первоапрелем!
Он, одевшись, сообщил: – Пап, та стрела из пыли вроде вновь там, хоть ты вымел.
– Здорово! – я поддержал. – Ты шутишь хорошо.
Он вёл, влезая в свитер: – Не шучу я.
Выпавший ночью, прах лёг и вправду в том самом месте на половице; ну, а под прахом был из прожилок дерева пола ясный узор, вид стрелки повторяющий.
– Пойти и лоб разбить? – смеялся сын, шагнув к стене по вектору, указанному стрелкой.
Можно выйти, я подумал, обогнуть дом… там газончик, дальше клумба, где жена лелеет розы… после – взгорок как фундамент древних сгинувших хором. (Мой предок, тот А. Е., в «эпистоле» писал: «…дом в Квасовке – из тех, что встарь, при Алексее боголюбце при Тишайшем, строились, чертог c подклетями; его Квашнин-боярин, предок мой, воздвигнул в Квасовке близ шляха, что Муравский шлях, кой с Крыма вёл к Москве и им ходили в Ханство Крымское… Агарин нас стеснял… при межевании отторг Тенявино по дол, звать Волчий, кой, божился плут, рубеж меж нас спокон. Квашнинский сад – отъял. Одна отрада мне, что рядом, в Квасовке, мной сажен малый сад…». Вот чем был взгорок с сорняками: корнем «чертога»). Дальше ― периметр, кайма кустов с деревьями; за ними ― выпас, что, сходя в разлог, вползал потом на сходный с ним, соседний по-над поймой выступ, на мансаровский. А дальше, за Мансарово, был строй прилохненских и прочих сёл, вплоть до Белёва.
– Пап, и что?
– Бог шутит с этой стрелкой. Завтрак?
– Снилось, ух!..
Он рассказал про сны, являвшие смесь ясельных, детсадовских и прочих тем. При этом вилкой действовал, как ложкой, ёрзал, изгибался, выпрямлялся, тычась в миску; подпирал вдруг лоб и щёку, будто дремлет. Я следил за ним. Мой сын в моей судьбе как свет.
В апрельском, – семь часов уже с полуночи апрельском! – пока ещё в заснеженном саду, бредя под солнцем, мы встречали лёжки зайцев, тропы их и кал из съеденных и переваренных желудками всё тех зайцев почек, веток яблонь, лент из содранной коры. Я разъярился.
– Ну, косые… Бессердечные! Злобные твари!!
Я, взяв лопату, стал окапывать стволы, бурча под нос проклятия. Кромсая наст в куски, я их отшвыривал и, хоть вспотел, изъял слой снега вплоть до трав… Вот низ, объеденный до снегопадов. Я обвязывал под зиму молодняк, не думая, что тронут флору зрелую, с корой на штамбе грубой. Бедствие пришло: всё искалечено. Сад гиб… Рок наш представился мне глумом – оттого, что, труся сильных, повелительных, Бог гонит маетных, злосчастных, вроде нас. Сломав обет, что Он, мол, с «сирыми убогими», Бог тешится?.. О, столько мук на род людской… Бог, слышишь?
Ветер креп. Я мёрз. А сын игрался в снег, смеялся… «Будьте как дети», – Бог предложил, тая, что Он презрел взрослеющих как изгарь детства… Знал Адам, что изгнан не за грех, но просто перестал быть малым, коему положен рай? И вправду, детство – рай. А взрослость – угасание…
Злость к зайцам жгла меня.
– Тош, слушай. Сложим крепость и убьём их. Всех, – решил я. – Всех.
– Их, пап?
– Их, зайцев.
– Из ружья?
– Да. Именно.
Я намечал засидку.
Вал из снега, сбитого магнатиковым трактором у хлева, стал цоколем для снежной как бы башни. Крышею стал толь; вход занавесили дерюгами; обрезки досок стали полом, плед поверх. (Я знал: пусть целью гнева констатированы зайцы, сокровенно он был Господу, мой гнев). Пакет с едой… и чурбачок – сидеть… Сын стаскивал предметы: палки – «лучевые бластеры и дроны», камни – «мины и гранаты», ржавый, в дырках, бак – «нейтронная сверхбóмбина», стаканы – «пить в бою». Уйдя в дом, я прилёг. Он бегал. Я угадывал, что он в восторге от имевшего быть мифа; он утаскивал чай в банке, гвóздики, подушки, трубки, миски и пружинки. Даже перец. Взяв фонарь, он объявил: «Пойду, пап, в крепость», – и пропал… Вернулся.
– Ох, озяб. Мне к печке бы…
Я поместил его под одеяло, сунул в печь дрова.
Сын начал: – Крепость с виду домик, но из снега. Он игрушечный?
– Реальный.
– Раз без печки – то поддельный.
– Тош, реальный, – убеждал я.
Через минуту печка гудела, и наши куртки яростно сохли.
Стукнули в окна; к нам Заговеев. В дом он не стал входить: конь фыркал у калитки. Гость был с кнутом в руке, бровь вкось, а чёлка сбилась.
– В Локне брал камень, – начал он с ходу. – С мельниц квашнинских, что недалече, камни не выбить. А в этой Локне в брошенных избах камни на глине, брать их легко… Дак выпил… Что Закваскин врёт? – разволновался гость негаданно. – Врёт не косить вокруг тебя, Михайлович! Он сам косить, врёт, будет и внаймы сдаст, чтоб по бизнису, для прибыли! Рогожскому, – тебе, – врёт, не давал лужки, лишь дом давал; сад тоже, мол, его… Дак я косил лужки! Мои – конь с овцами, коровка, куры, гуси; мне кормить их. Животина! – Он, подпитый, возбуждённый, обронил кнут, поднял кнут. – Что брешет? Сходит в город, выбьет нужные бумаги; врёт, лужки ему за битву с прежней властью дали бы, а с сыном вовсе. Сын из Думы, врёт.
– А прежде он косил там?
– Он косил… – Взмахнув кнутом, гость им же почесал в затылке. – Он косил… Сто лет назад косил, при императоре горохове! Пришёл с тюрьмы, сдавал внаём Кравцу и Васину да Гавшину… Михайлович! Глянь, близ меня – разлог в буграх! Там битва Курская косьба! Ты дом купил, он стих: обычай тут, коль дом твой – то усадьба тоже, стало быть, твоя. Ты не косил – я и косил их. Счас озлился; сын приедет, надо денег… Тут вопрос, есть сын, спросить?! – Гость высморкался в снег. – Из Думы сын? А из тюрьмы!
– Не обсуждали мы лужки, ― изрёк я. ― Никогда не обсуждали. Он солгал, Иванович.
– Дак врёт! – Гость, дав, прощаясь, руку, захромал прочь, бросив: – На лужках трава обильная!
– Ты, – вёл я вслед, – оформи их. Не то отпишут их Закваскиным.
– С того, что сын его Николка шишка? Выкрал он бумаг с гербами пыль пускать; а сам с тюрьмы – к папаше сразу, подкормиться. Но с лужками… Нет, Михайлович. Мне га дан, больше га не выбить. Коль, допустим, как Магнатик, фирма-бизнис, – получил бы. Мне не нужно. Мне – покос, все бизнисы. – Старик со стриженой, – но с чёлкой, – головы снял шапку. – Сплошь прихватизуют, глянь! Всё им, верхам! Сто га им? – на, пожалуйста! Нам, бедным, – фиг. Мансарово безлюдное, мрут сёлы; фермы рушатся, бурьян… Как надо? Вниз дай землю, эти га! Строй снизу, так ведь, вроде?
Мерин на нижней, что по-над поймой, узкой дороге фыркнул. Тень шла за строем голых акаций. Вскоре Закваскин, ― в серой фуфайке, в бурках, в папахе, ― лез по сугробам через калитку.
– Мерина бросил? Ехай! – начал бурчать он, тыча в соседа толстой клюкой. – Исчезни. Так как Рожанский тут не дурында из Сиволапска. Он из столицы и не балда дурь слушать. Он есть учёный кандидат.
– Да?! „Бляцкая наука“, что „бесштанная“? Твои слова?! Михайлович! В глаз плюнь ворюге – он скажет „дождик“… Конь мешает… Сын твой едет?! в лемузине? Пёхом чешет!! – Вынув «Беломор», старик поддразнивал: – Ишь, „кандидат“… Озлясь, что продал дом тебе, он мне в промать тебя, Михайлович…
– Рот схлопни, пьянь! Жрёт политуру, брешет, – вёл Закваскин. – Днями ездит, ищет выпить. Первый врун у нас. Курлыпа!.. Заговей, уйди-ка!
Тот, зажегши папиросу с пятой спички, стал курить и кашлять, а прокашлявшись, сказал: – Ты про лужки! Что врал мне? Говори!
– Пьянь, дурень деревенский! Ни бум-бум! – толкнул его Закваскин. – Кончил пять классов без фигогака. Помню, в колхоз вступал, подписывался крестиком. Знал девок щупать! Кабы тут не я, хрен взяли бы!.. Я мамку пожалел твою, беспутный… Ходь отсюда! Толк у нас.
Тот вытер чёлку кулаком. – Ты про лужки нам, про лужки, а не колхоз!
Скрыв взгляд под бровью, новый гость бурчал: – Балýй, пьянь… Цыц! А твой москвич в курсáх, как дом купил. Степановны был дом по документам, чтоб сберечь его. Я бился с властью. Знали – конфисковывать…
– Суть!
– Нишкни! – гаркнул дед. – Цыц, не базлань! Я был на зоне, дура пишет: дом продать, чтоб деньги сыну выслать. Сдали суки; сел Колюха. Сел он – так как и поскольку, вдаль смотря, изничтожал сов. строй. Кто лучше? Кто, как ты, водяру жрал, поля пахал? На, выкуси!! – Закваскин Заговееву ткнул фигу. – Были те, кто вдаль смотрел: сначала солженицыны, а после сын мой был. Тут бабе и взбрело, где родила с меня героя, будущего думца, дом продать. Ну, понял? Ей плевать, кто здесь родился! Я тогда, под всей андроповской проклятой строгостью, давай, пишу… Но про лужки слов не было, про сад слов не было. Там – что Закваскина эН дарит дом с три сотки этой… вроде бы Рогожской. Было? Было. Как юрист сказал, чтоб, мол, по дарственной; а там написано, что дом с пристройками на трёх лишь сотках. Вот тут как… – Закваскин вынул из кармана документ и тряс им. – Про лужки помянуто? Нет, не помянуто. Про сотки – есть оно. А значит сад твой – мой законно. Осенью… – и он сморкнул нос в тряпку, – измерял. Сто соток, все мои без трёх; на них твой дом. По чести – мой домок. Такой вот поворот.