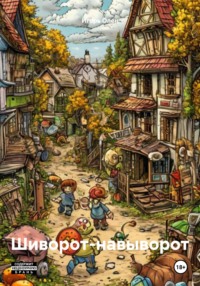Полная версия
Russология. Путь в сумасшествие
– Не знаю.
А ведь мог сказать… Но я был где-то в неприсутствии. Я был зерном, какое вряд ли прорастёт. Мои стандарты, идеалы, ценности и веры рушились – дать место новым, лучшим кредо? Нет. Я гнил, гнил внутренне. При всём при том, взялось наитие, что так, без смыслов, – истинней. Мысль, пусть текла, – не в логике шаблонных общих схем, а фоном: дымкой на небе, перьями в речке, вьюгой вдоль поля… Я – ближе всех к спасению, пришло на ум. Я ближе всех к спасению, а не отец, кой, пав в коллапсах, подчинил рубль принципам! Я близ спасения, недужный, выбитый из социальных схем и всё же сущий, явственный! Я бы сказал: отец, дышу, коль дышится, и еду в Квасовку. Он бы спросил: за чей счёт дышишь, сын, и едешь в Квасовку? Я бы ответил: спонсор – Бог… Он не спросил. Я отошёл к альбому.
Квашнины… Мой прадед (на дагерротипе) прибыл в Квасовку (внук бар тех мест) иметь там лавку, дом, слесарню, сыроварню с мельницами. Сын, он мнил, им посланный учиться, восстановит род… Вот дед (вид франта в чёрной форме), Александр, а Еремеевич по отчеству; он, кончив курс, отправился в Сибирь достраивать Транссиб; впоследствии попал на бойню первой мировой как инженер-поручик; видел императора-царя, кой спрашивал, из «тех» ли он старинных Квашниных, и рад был, что из «тех», бояр… Вот фото после Октября. Лет восемь капитан и «выкормыш кулачества» ходил в ЧК на выверки, шабашничал, кормил сестёр и мать. Открылось, что он встретился с царём, «с Кровавым Николаем», был на фронте награждён медалями. Дед, хоть сбежал, осесть не смог нигде; вернулся в Квасовку с отцом моим, с женой (мне бабушкой), с газетной вырезкой из «Зорь Туркмении», где лгали, что «таившийся в норе предательств и диверсий белый офицер, холуй, сатрап царя», «мстил красному развитию», мешал «строительству туркменской нови»; «саботировал работы», «вёл к восстанию»; «срок вырвать зло рабоче-пролетарским и дехканским кулаком». Дед был учителем. НЭП кончился, пошёл гон внутренних: «попов, дворян и кулаков-эксплуататоров». Приехали; тот день отец мой помнит грубостью уполномоченных. «Палач», «сатрап царя», «наймит», твердил народный суд, быв «монархистом в флавском округе», «вредил», «активно саботировал», «содействовал возврату прошлого» и «лил на мельницу всемирной контры яд содействия». Дед отбыл в Тулу под конвоем и – пропал. Отец мой, мать его и бабушка сослались… Я закрыл альбом.
– Сын, – вёл отец. – Знай, рок на нас! Знай, лучше жить не выйдет, не получится. Прими судьбу и – amor fati… Клава, думаешь, что брáтина – сей патримоний наш – даст избавление, рубли и доллары, и будем счастливы? Нет. Зло в роду у нас. Беда – что ты со мной; не в брáтине беда… Рок, фатум!.. Клава, будь твой муж не я – ты стала бы счастливой. Не твоей была бы участь с инвалидом и с другими Квашниными. Извини.
– Я счастлива! – сердилась мать.
Отец задрал вверх плоское, в скобе волос, лицо с квашнинским носом.
– Сын! – изрёк он. – Сын! Ты заболел и подтвердил догадки: не случаен рок наш. Знай! Тут ни при чём затеи Ельцина, Октябрь, Пётр, гегели, идеи с „-измами“. Сын! Что-то в нас в самих, в характерах; мы невпопадные, нам никогда не быть, где надо… Ты цитировал нам Квашнина? Он даровит, наш предок, правильно. Но вот его друг в славе. Знают про Балóтова, как он назвал себя, иначе Бóлотова, все. Наш предок – втуне, хоть Балóтова не хуже… Рок на нас! А если мы из древних русских – стало быть, и русские, сын, прокляты.
Мать вышла заварить нам чай; я возразил: мол, папа, ты неправ.
– Прав! – утверждал он. – Прав… Рок, фатум! Делай я карьеру, – случай был, – до генерала, вышло бы несчастье. Мы изгои, отщепенцы человеческого рода. „Образ жизни“, сын, нам чужд; не жизнь чужда, а „образ“ жизни. Рамки, – то, чем жизнь стесняют, – то нам чуждо, инородно и губительно. В чём прочим счастье – нам беда. Мне бы – в полковники. Отцу – в Америку. А прадеду, какой Петра корил, пристало бы хвалить Петра. Мы отщепенцы, белые вороны, парии; наш род как бы обочь. Мы неприкаянны, отвержены. Мы неуместные. Мы, Квашнины, мир судим, судим, судим… Так живём, как будто знаем истину, и оттого ничто вокруг нам не… – он заикался, – не в пример… Евангелье? Там о любви, незлобии. Но мир – иной!.. Как жить, скажи, чтобы и Богу льстить, и всем? Бог – „не от мира“, так написано. Душой в раю досель, мы судим мир от райского и райским зрением. Да ведь судить нельзя! Адам и Ева изгнаны за суд эдема человеческим добром. Христос пришёл – вновь научал мир „не судить“… Но, главное, учить-то Он учил – ан сгинул. Что Ему? А я погиб: внял Троице – и вот теперь во мне всё взорвано, надломлено. Надлом тот в Роде, сын…
Явилась мать. Он смолк. Пил чай, уйдя в себя. Он видел в Троице причину бед. А Троица – в словах… Он указал, где враг? В словах и, шире, в логосе?
Я встал включить TV.
Крах Югославии; пожары… НАТО наставляла, кто здесь главный, кто неглавный; а недавний исполин, страж мира в виде нищенской РФ, грозил ослабшим кулаком… Дебаты политического шоу: муж с крупным торсом прямо на ступнях, пять лет имевший власть, но не достигший ничего, взывал к быдлоиду (пока что к «уважаемому избирателю»): «наладим жизнь! такого не было, но повторим!»; второй, вождь тех, кто мнил вернуть Октябрь, настаивал, суровя брови: «гибнем! нужно что-то делать, граждане-товарищи!»; муж третий, опус имиджмейкерства, бонтонный и декорумный, внушал «либерализм» и гарантировал, что лишь при нём как главном, исключительно при нём, «нас примут в еврокнессет, в НАТО, в PIF, в ГУАМ, в шенгены, в Куршевель»; из красноярских далей грозный вождь басил: готов на царство, «раз-два смирно! лёг-отжался!»; истеричный злой треполог, гнутый тильдой от вранья, всех оскорблял и заклинал ему «слить власть», иначе «крышка, наверняк».
Лёг я под полночь, но не спал. Бессонница.
Не сплю я с Рождества, с него я не живу по-прежнему… Что чувствовал Господь, быв вечно (до Личного, выходит, Рождества, как сам я до хвороб?) и изменивший вдруг Себя впадением в «сей мир», как я был изменён болезнью? Он входил – я уходил. Бог нарождался мир судить – а я судил его недугом вырождения. Мы родились день в день: Бог в зло – я вон из зла (раз вон из зла – что, в истину?). И в сём миру, где жил полвека, где хирею и гнию, я, как дитя, не разумею ничего почти, напрасен весь мой опыт; тем не менее я должен быть кормильцем, гражданином, мужем, братом, сыном, прочее; плюс должен оставаться Квасниным (нет, Квашниным, поправлюсь), для того чтоб кончить с роком, что завис над родом… Тяжко. Ведь старинного, былого, до-рождественской поры меня не выполоть немедля новому, безвестному, кем стал… нет, становлюсь… Я впал в лай псов за окнами и в промельки на потолке от фар автомобилей во дворе, в крик пьяни за одной стеной и в шум игр сына с аутистом-дядей за другой стеной… Брат счастлив, даже мучась; он не знает мук своих. И счастлив мой нелепый сын Антон, беспечный, добрый. Жаль, со мной, бессильным снискивать и оттого напрасным с социальной точки зрения, он кончит школу, не поступит в ВУЗ, отслужит, женится, начнёт работать, добывать свой грош, балýясь пивом; станет фаном бокса и футбола (либо геймером); обвыкнет ссорится с женой да забаловывать детей; начнёт стареть – фатально, скучно, пошло, неминуемо… Мне жаль его. Но что поделать: бизнесу я тошен, и при мне не заведут про бизнес разговоров, – отвращаю. Только раз нашло: я стал активен, деловит, пронырлив – обходителен при том, как ангел; двигал фуры, полные товара, доллары, людей… Всё рухнуло, я стал, кем был: мечтателем, клюющим хлеб по крохам… Чувствую, не буду спать, как я не спал три месяца. Я не усну в Московии, корыстной, склонной к алчности, к попранью слабого. А я ослаб, увы.
Но отчего?
Мне вспомнилось.
Отец, – из рода древнего, что старее Романовых, – родился в Петропавловске, куда уехал от гонений дед. Вернулись в Квасовку. НЭП кончился; над входом церкви с выбитыми стёклами в селе Тенявино вис текст на красном кумаче: «КТО НЕ В КОЛХОЗЕ – ВРАГ!»… Спустя два года, дед задержан был за старый грех («сатрап», «хвицеришка», «наймит» и «контра»), и за новый грех: письмо отправил в Колхозцентр с тем мнением, что, «по суждению крестьян, кулак в селе повыбит; под теперешним же кулаком по сути – труженик…» Дед сгинул. Квашниных свезли на станцию ж/д как ссыльных, поселили в Казахстане, в Кустанайской области, в убогой Кугачёвке, подле ямы с ивами. Мать умерла; отец жил с бабушкой в лачуге из самана под трухлявой крышей. В школе убеждали, чтоб он раскаялся в родстве с «врагом» и в связях со своим отцом «антисоветчиком»; он искренне, с ребячьим пылом вёл, что плюнул бы в «предателя» и что явился бы к тов. Сталину и, как Морозов Павлик, выдал бы отца… да нет совсем! и не отца отныне, а изменника советского народа и буржуя. «Он холуй!» – кричал отец. «Советски мыслишь, Миша! Парень, ты цени, – внушали, – Родину и Сталина, народного вождя. Ты, сын врага, учись; потом иди на службу в ЭрКаКА. Люби народ, страну эСэСэСэР!»
Так в Кугачёвке жил отец.
В войну страдали: ели отруби, солому, что ни попадя; пшеницу, рожь и скот везли на фронт. Учились же в районном центре вёрст за шесть; ходил туда отец почти что каждый день и в дождь и в снег. Учебники им выдавали поначалу, но прекратили от нищания. Писали на газетах (языки – в цвет грифеля карандаша). При школе на столбе был репродуктор, уверявший: «враг будет изгнан и разбит!», «за Родину! за Сталина!», «фашистам смерть!», «броня крепка и танки наши быстры!», «народ един с Вождём и с партией большевиков», «артиллеристы, Сталин дал приказ!», «все люди мира верят в нас»… Подростком, он влюбился в дочь директора, стихи кропал; той нравилось, что ей «вруть вирши», – гыкала. Ну, а директор: «Мiшка, хочеш дывчину? Ни! Не потрібно!.. Галь! На шо он, сын вражины нáшої влади? Прагнеш, дурка, с Мiшкой жыты та дітяточек плодыты? В Колыму сошлють!.. Ти, хлопець рiдный, к Галю не захаживай. А будеш ось героєм – хаживай. Ти зрозумiв?». Он понял.
В сорок пятом школу кончил; бабушка распродала что можно, и на собранные деньги он поехал поступать. Но тщетно. Одноклассник же прошёл (казах). Декан сказал: «Отець твой не хотель Совецки власт. И ты власт против, æринé. Ми, с твой Куджá-товариш, Миш, с который ты приехаль в Алматы, – национальный кадр ковать. Йэ, Миш! Ты нам казах дай в Казахстан. Казах!». На поезд, на обратный путь, он заработал. Как? В саду у местного начальника наделал кирпичей из глины, выполнил заказ; там рядом с крошечным рос больший дом, там были яблоки и персики; две женщины возились с шустрым мальчиком; «Мындá кел, Нурсултан! Кхандай жакхсы балá!» – звал мальчика глава семьи, под вечер приходя домой.
Обратно поездом он прибыл в Кустанай. Потом пешком ― в райцентр и в Кугачёвку с ветхими, из глины и соломы, избами, что грудились близ лужи… Как-то, под вечер, бабушка, молвив: «Всё в руце Бога», – после добавив, что, мол, стара и он не мал, «коль школа кончена, большой», дала письмо. Он взвыл: письмо пусть выкинет! письмо предателя! ему плевать! тот, кто с царём, – никто ему! Решила бабушка, чтоб не читал; но суть открыла: в Тульской области, в Тенявино, близ мельницы, от мельничных восточных стен пять метров в тальник и в черёмуху и в бузину, там, под камнями, сундучок, мол…
Вскоре повестка: пятого марта сбор в ноль-ноль девять в военкомате. Бабушка умерла под утро. Выказав чуткость, власти сказали, что он не враг с сих пор и равен им, ведь «сын не отвечает за отца, так учит Сталин». Военкому он поведал, хочет в «офицерское училище». Сказалась, видимо, победа с культом воина, стыд за «отца, врага народа», «Галю», кинофильмы про войну. Он выбрал лётное, безумно грезя Чкаловым с Покрышкиным, и сдал экзамены на «пять»… Письмá не тронул, хоть и думал, чтó «предательском» письме написано. Мать, кстати, он помнил ясно, а отца – смутно, точно в тумане: едет в салазках где-то под звёздами, ловит с ласковой тенью рыбу. Помнился не сам отец, но смутные эмоции… Он шёл в училище не как «Квашнин», а как «Кваснин», сменив нарочно «ш» на «с». Курсантом спал на чистейших простынях; впервые мылся мылом не скупясь; впервые надевал кальсоны, майку, сапоги. Он чтил порядки, добрые к его сиротству и к остальным трудящимся. У нас всё лучшее, наш «дух из стали», как у Сталина; наш путь – «маяк для всех». У нас в друзьях «Румыния, Болгария, Германия и Польша и другие страны»; нынче и китайцы строят коммунизм «под знаменем идей тов. Сталина и Ленина». Отец ходил близ бюстов, кажущих Вождя, молился им. Ас в алгебре и в физике, добавочно брал творчеством: готовил агитацию, художества; придумал пьесу «Путь Китая», где Ван Ли, бестрепетный комбат, бьёт гоминьдановцев, вступает в партию и терпит пытки с думами о Сталине и Ленине. Спектакль прошёл блистательно; в награду дали отпуск.
В Кугачёвке он сходил к могилам матери и бабушки, потом сходил к ровесникам. Он сходил к могилам и к ровесникам. Он чувствовал, что нравится им в форме, стройный, рослый, офицер (почти). Письмá, при всём при том, не взял. Став лейтенантом, он, отличник, мог попроситься под Москву, где Вождь, – и вдруг комиссии близ Бюста в кумаче сказал, что будет там, «где нужен». Где?.. Конечно на Камчатке!.. Часть в снегах… В Хабаровске он встретил девушку (я появился)… Смерть Вождя и Бога; сотряслась вселенная… Он съездил в Кугачёвку, что хирела, взял письмо и вздумал посетить «Тенявино, что в Тульской области»; сев в поезд, прочитал.
«Весна холодная, но жар от печки согревает помещение. Грядут фатальные последствия, сын, с теми, что скопились. Пропаду, как знать, поэтому пишу. Я, твой отец, – из бывших офицеров, капитан. За речь с царём, что есть в газетах (год шестнадцатый, январь), сов. власть меня не любит пристально; хоть я и так ей „контра“, „недобиток“, „враг народа“, „нечисть и наймит царизма“, „антисоветчик“, „гад“. На деле власть лишь средство, инструмент. Нас гонит и преследует судьба – весь род наш. Младше нас Романовы. Мы жили, сын, в Кремле, мы числились одной из первых и древнейших именитейших фамилий; разоряясь, породнились с торгашами; жили в Квасовке, что близ Тенявино, – в нём быть тебе, чтоб в месте, что открою (не дойдёт письмо – где скажут мать и бабушка), у Лохны у реки, где мельница, от стен взять в заросли (там бузина да тальник да черёмуха), потом взять в ямину, где известковый пласт, в каком найти схрон с вещью, важной Квашнинам. Там – корень наш; мы этим корнем связаны как с русскостью, так с истиной. Вот что для нас та вещь – реликвия, наш патримониум.
Рок губит нас. В нас много русскости. Вся русскость в нас, чем чýжды миру.
Русскость, наверно, есть форма жизни…
Михаил! В Тенявино, за Садом, был погост; но церкви след простыл; звалась она как храм Пантелеи́мона (Пантелеймона); кладбище давно уж общее, для всех, а не как встарь дворянское. В версте от мельницы, что наша, вверх по Лохне, есть сельцо, звать Квасовка, где я пишу, где обитали Квашнины, где были встарь дворцы боярские, конюшни, избы для дворовых, погреба, церквушка за стеной в два роста из известняка, поскольку время сложное, тревожное: набеги крымчаков. Окрест всё было наше на сто вёрст. Здесь воеводил в древности Квашнин, наш предок. Вотчин след простыл; Закваскины, плод барских шалостей, живут и по сей день. Меня оговорил и сдал Закваскин, Федька-пьянь, из активистов-горлопанов.
К нам в окно ветвь яблонь…»
Чтение отца бесило: пишет про «бояр», про всякие «дворцы», про «русскость»? – вместо заверений, что случайно, против воли, кем-то подло, зло обманут, стал вредить сов. власти?!.. Кто такой Квашнин, «изменник» и «сатрап», чтоб так писать ему?! Вот именно!.. Нет! Пусть бы, «контра», каялся!.. Так думая, отец хотел то, спрыгнув с поезда, вернуться к службе, то планировал, схрон отыскав, отдать его чекистам, то решал, забыв про схрон, сходить в Тенявино да в Квасовку и на могилы предков, коль остались. Внутренне в той Квасовке он жаждал встретить прошлое: сверкающую речку, где, близ смутной тени, он рыбачил, и созвездия, что видел с санок маленьким. На родину поехать можно, это нравственно, партийно, по-советскому.
Москва, Казанский, пересадка… час в запасе… «Курская», метро; вот станция «пл. Революции»… Кремль, Красная святая площадь – ЦЕНТР ПРОГРЕССА и ВСЕГО-ВСЕГО-ВСЕГО, что есть ВЕЛИКОГО!.. Отец разволновался, и патруль его остановил, а внук бояр твердил про некий грех. Попавши в Мавзолей с Вождями, он смотрел на Сталина, при коем рос, учился. Близ, рукой подать, за стенами Кремля, воображал он, держат «руль страны» тов. Маленков и тов. Хрущёв, «титаны воли», «исполины мысли», «кормщики стремлений в коммунизм», «честь партии», «вожди и авангард земли»… Что жили здесь когда-то Квашнины, не думал. Прошлое исчезло, а отдельное: меч Невского, духовность Сорского и гений Пушкина, – преддверие той истины, что подарил Октябрь семнадцатого года.
Поезд во Флавске остановился перед рассветом, и сквозь туман отец шагал на юг, затем шёл к западу, по склону в пашнях… Книзу полз маршрут, потом свернул к мосту и к руслу в тальниках. Кругом – село, изб сто, из кирпича и камня, кровли разные: железные, из шифера, из черепицы, а порой из дранки и соломы… Солнце брызнуло, туман качнулся. Воздух, полный духом трав и скотными миазмами с дымами печек, зыбился. Плелись косцы… Проехала телега… Стадо двигалось поодаль и мычало, отбиваясь от мошки́ мотанием хвостов… Отец брёл тропкой, что с моста нырнула в тальник… вымок и испачкал свой мундир; вдобавок донимали комары… Вот мельница в развалинах; писк птичек… У плотины, древней, шумной, в тине жёрнов… Известняк – в кустах, в черёмуховых зарослях… Он сдвинул камни…
Сундучок!
Взломав его, взяв вещи, плоскость с шаром в ветоши, пропитанной смолой, отец втолкал их в сумку. Отдышавшись, начал мониторить из кустов домá вблизи. Один, в пять окон (прочие все пó три по фасаду), был, кажется, кулацкий при царизме. В мусоре копались куры, блеяла коза на привязи; от дерева до дерева протянута верёвка, а на ней обноски… вон – мужик с мальцом, вслед женщина… Прекрасен строй, низвергший выжиг, осчастлививший бездольных бедняков!.. Так мысля, он шёл по тропке…
Разом, внезапно небо и вётлы, редкие избы выше над поймой стали знакомы! Здесь, вспомнил он, отец катал его в салазках, и вон то окно светилось… Вид являл конец Тенявино и Квасовку – за речкой, на яру, который балками (разлогами) отбит был от тенявинского яра, а левей ― от дальнего другого, за покосом, яра вновь с селом. По лаве перейдя за русло, кручей, – молодость! – отец поднялся к Квасовке. Изба – из тёмно-красных кирпичей; хлев – каменный, как сени; а за ними трио лиственниц… Он стал столбом. В окошке юркнуло, дверь приоткрылась, вышел тип в конторской справе: брюки, галстук при рубашке. Вслед – старик, бровастый, пьяный, с челюстью от питекантропа. Тип вопросил: «Вы с органов? Зря потрудились. По повесточке я сам пришёл бы…» Различив знак рода войск (знак ВВС), он смолк.
«Слышь, малый! – выкрикнул старик. – Пульну с ружжá! Я конник был Будённого!»
«Простите, ― каялся отец. – Гулял-ходил, забрёл. Хороший дом. Старинный. Засмотрелся».
Тип сверкнул из-под белёсой брови глазом. «Я представлюсь. Николай. По отчеству же Фёдорыч. Бухгалтер я… Наш дом хорош? Давно сложили, прошлый век. Отец сказал бы вам, да выпивший, на отдыхе, герой войны; болеет… Он колхоз тут строил. Старожилы, коренные мы… – Тип тронул галстук. – Мы Закваскины; а там – ещё семья. Три дома, средний дом не занят. Место ладное, да как оно? Нам к клубу тоже хочется, и к школе, к магазину, к городу поближе. Здесь – отшиб, далёко; в город пять-шесть вёрст… Закваскиным – недоля. Кулаком травимы, немцем биты, – а живём. Простой народ, рабочий: я с отцом, сын, дочь, супруга… После службы я сюда работать. И живём… – Тип застил пьяную седую старикову голову. – Мы в Квасовке живём в два дома; тут их три, один плохой. Мы взяли дом побольше, он пустует. Жил в нём мироед, белогвардеец… Я малой был, всё не помню… Расстреляли! – хмыкнул тип. – Враз раскулачили! Скажу вам, что деревня, – эти избы, – древность. Старше Флавска».
«Что толкуешь?! – вырвался старик, ярясь. – Да баре жили в Квасовке! Мы – были их, Закваскины! Квашнин был барином, пил кровь народную!»
«Погодь, бать; не мешай! – тип перебил и вопросил: ― Знать, хóдите? Испачкались?.. Не поймой шли? – Он вынул гребень, причесался не спеша, по-городскому. – Насмотришься с бухгалтерских высот. Мы бдительность имеем. Я, к тому же, коммунист… Как имя ваше, гражданин? Вы просто? Или вы по делу к нам какому-то, а, гражданин?»
Тот, попрощавшись, удалился вместе с «патримонием» дорогой по-над поймой. Возле остова от церкви с выбитыми стёклами и без крестов на куполе, он пересёк мост и пошёл по склону в близкий, в трёх верстах к востоку, Флавск, поняв, что не уступит вещь из сундучка, какой бы ни была, чекистам. Он был рад, что побывал в местах, где жили предки.
III
Он содеял подвиг: выправил союз времён. С тех пор, однако, он ослаб психически.
Я слушал радио, трещавшее, что Эльцин не допустит «вбросов в темы», близкие Ичкерии (начало новых войн за первой); что, мол, правительство Умелова «крепит прогресс» и что дефолта «нет»… Из оппозиции солидный тов. Наганов резал правду: «продали страну», они спасут, как раньше, «мать-отчизну»… Далее – рейтинг «русских магнатов»: Че. Тупиковский, Ды. Эврихватов, На. Всехобсеров, Бе. Вороватых (также Хуйвáмс, Хват, Спёрмант, Слямзин-Пронырин, Схапало-Стырин)… Песенка-шлягер: «би-дýби-дýби, дýби-би-дýби»… И информация, что москвичи живут за счёт гуманной доброй фирмы, ― сдав этой фирме часть жилплощади; что фирма платит москвичам преклонных лет большие суммы; фирма ждёт вас!
(…слушаю, «Дар старости»… Что, Пётр Иваныч?.. Вам контрактик? денег с плазмой? Что у вас?.. Одни живёте? Как?! в трёхкомнатной?.. Где-где? на Гоголя?.. Ваш возраст?.. Кайф, почтенный! Братаны… нет, я приеду, чтоб контракт: вы, типа, право нам; «Дар старости» вам даст «Самсунг» с баблом в придачу, тысяч пять, бакс к баксу в стопку; денег столько, что хоть завтра дуй в Лас-Вегас… Я завидую! Мы пашем, а клиент… Мы честные… Ништяк, сказал!.. Бухтёж кончайте там! Вам денег мало? стоимость жилплощади сто штук у. е., а мы – «Самсунг» всего?.. Вы, может, не подохнете сто лет… «Грабители»?! Бля, шёл бы ты… Всё, кончили! Ишь, старый жулик! Мне, бля, виллу сдать и с «лексуса» на «ВАЗ»? А в отпуск в Крым, не в Турцию? Братве что, хер сосать? Вот душный пидор!.. Слушаю… Да, «Хер…», я извиняюсь, мы «Дар старости»! Мы фирма честная!..
……Attention! «Интермед плюс вы» поможет вам!.. Мы из чего? Наш организм из кремния!.. Недуги? Грипп, ковиды, язва, климакс, истерия, камни в печени? – в вас мало кремния! Беременность, розáцеа, дисфагия, деменция, вульвиты, уремия, вирусы и нервы? – мало кремния! Дурная кожа, ногти, кости? – мало кремния! Мы все – из кремния! Поможем! «Интермед плюс вы» продаст вам кремний, нужный организму! «Силициум», пять долларов – пять грамм! Attention! русский кремний не излечит, он плохой. Израильский – излечит! «Интермед плюс вы»! Звоните! Пять позиций есть, друзья!..
…топ-менеджер… участвовал в аферах. Чиновником входил в компании… вёл экспорт нефти, газа, цинка. Есть данные, что он имел контрольные пакеты фирм, телеканалов, СМИ, «Трансаэро»…
…министр убит…)
Как только рассвело, я, встав, отправился за «нивой», не спеша и с удовольствием. Зло утром спит, расслаблено; пьянь отбуянила; легчает немощным, больным; малютки-груднички, мешавшие родительскому сну, утихли. Серь домов, лёд в лужах, рвань пакетов, сор, окурки, лом качелей, мутность окон, дохлый пёс – мир утром смазан… От стоянки я свернул в сияющий рассвет. Луч брызнул в глаз, я воспарил в фантазиях. Зло сгинуло, как будто не было, как будто мне шестнадцать лет и все вокруг поют, все счастливы, беспечны, жизнерадостны… Блеск ехать, вероятно, юному по городу, где жил с рождения, где знаешь многое и многих! узнают тебя; общаетесь: «Ну, как дела, старик?»… Нигде я не был долго. В Магадане появился; год спустя – Хабаровск; первый класс был в энской части под Находкой, в Золотой Долине (Унаши); четвёртый класс – в иной в/ч; восьмой класс – Уссурийск; ВУЗ – Владик, Хайшэньвэй, Владивосток. Москва затем и – Квасовка, окрестность, кут, где обитал мой род.
Больному брату мать давала пищу; тот укатывал, справляясь левой ручкой (из-за малости), но появлялся, с кашлем и с больным румянцем, требуя «щирбет».
– Снедь в сумке, ― уточнила мать. ― Всё предусмотрено? Вдруг вы сломаетесь? Вдруг вы приедете – нет стёкол, выбиты? Вдруг обострение? Как быть?
– Сто вдруг, – изрёк я. – Но, на деле, если машина выйдет из строя – не доберёмся; значит, пропустим всякие стёкла. Если же стёкла – мы добрали́сь… Тош, едем?
Сын кивнул, листая книжку (Чехов).
На отце глубокий след бессонницы: не спал, наверно, после слов о роке Квашниных. Иссохший, с сединой, свисавшей прямо, он казался скорбной жертвой…
В комнате брата громко, истошно, пропагандонно по телевизору вещали о войне в Чечне, близ Крыма, в Палестине и в других местах… Опять война; и НАТО… Нет, не в НАТО суть, – в Чечне, скорей… Да и не в ней; нет вовсе. Не Чечню бомбят, – меня… Не случаем я слышу! То – бегущему вослед рок воет: не сбежишь, раб! стой!! попался?!!.. Вмиг всплыла тревога.