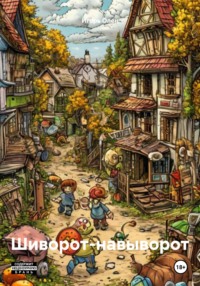Полная версия
Russология. Путь в сумасшествие

Игорь Олен
Russология. Путь в сумасшествие
И Аврам был очень обогащён овцами, и рогатым скотом… и верблюдами, и рабами… и серебром, и золотом вполне.
Книга Книг
Жить хотят в деньги, а умирать – в Боге.
Пословица
I Малый
В 1999-ом я, урождённый Кваснин П. М., не прижившийся в триколорной РФ подвид, назём вот-вот, занемог, не вставал до конца февраля, но и в марте был плох и каялся: жилы высохли, а язык впал в гортань мою!.. Был я зрелым избыточно, чтоб надеяться на ветшавшую плоть и случай, щедрые к юности, и рассчитывать на детей, – их и не было у меня, чад взрослых. Был только маленький сын… Когда-то был и второй ― давно. К тому же не было денег; я относился к малоимущим, что, как в России, так и повсюду, плохо.
Близился час финала. В смутной тоске по давним, милым мне фактам, вздумал я в место, связанное с судьбой как личной, так и с фамильной. Это при том, что жить казалось бессмысленным; смысл пропал мироздания, даже в чем-то и Бога, – в чем-то, sic!, ведь сулится нам рай за гробом. Вот что устроилось, хоть я верую и обвык так считать как минимум. Я сбегáл, точней, в безысходности. И иные заботы выплыли, нýдя ехать без промедлений.
Дни шли на оттепель, мнил я. Выезд спланирован был на пятницу, двадцать пятого (за неделю до Вербного воскр.) числа, наутро. Ехали в дом ограбленный, – а верней, в разграбляемый, расхищаемый и поныне, коль в существующий вообще.
Есть форма слова «разграбляемый»? Есть. Нынче есть. Век новый – вещи новые ему в пандáн. Пригнать знак к жизни – акт допустимый, даже логичный, и не сравнимый с порчей нации, что быть имеет и ускорилась. Лингвист по складу и профессии, я книжник; мир для меня жив словом. В прочем я слаб. Единственно, чем бьюсь со злом, – словесные роптания… Во тьме ещё, когда два дворника с ленцой мели наш двор, кромсая лёд немногих луж подошвами, я снёс вниз вещи из квартиры, вбил их в «ниву» с прочим скарбом для деревни, – в кою ехал, кроме прочего, избыть тоску да сына вывезти в место, важное, кстати, нашему роду.
Мы покатили. Я покидал Москву, где жил, работал и потерялся в мгле 90-х.
К слову, о роке (не музыкальном, а о бытийной мифологеме). В рок я не верю; правда, свидетели рока есть. Мой род – свидетель. Он был известен в царствиях Рюриков и Романовых, Годуновых и Самозванцев. Я, хоть «Кваснин» по буквам, кровью Квашнин исконный и разъяснить бы мог, отчего субституция буквы» «с» случилась. Род сохранил шарм женщин, статность мужчин, предания, письма. Также сберёг он брáтину (жбан, ёмкость, чару для пиршеств). В мае-апреле в тыща четыреста тридцать третьем, после разгрома ратей Москвы близ Клязьмы и в пору бегства князя Московского Вас. Вас. Тёмного1, дальний пращур мой, смерд, мужик, защищал государя-юношу вилами и от ран скончался. Подвиг отметили и искали близких героя: «Сыщется муже, буди ми стольник, жено – дати ей милость. Знатность обрящут!» – требовал Тёмный. Слабый воитель, после вдобавок и ослеплённый, он одолел врагов: как? был мудрым? дипломатичным? доброжелательным? Бог весть. (Но и державинский предок, некий Багрим-мурза (Абрагим) Ордынский съехал в Москву при Тёмном). И очень скоро этот мой пращур, в шапке-горлатке и в красных «хóзах», топал в кремлёвских княжьих хоромах ладно присловью: из грязи в князи. Но поначалу он с местной знатью был не на равных как парвеню и выскочка; лишь браком с урождённой Квашниной восполнил он позднее худородность. (Вновь нет ошибки: пращур, сын смердов, назван ввиду костромской Квашнинки, где обретался).
Здесь вопрос – Квашниных столбовых, с какими мы породнились волею судеб, но – ветви врозь пошли: ветвь новая, наша, то возносилась, то повергалась; ветвь древняя вылилась в Квашниных-Самариных. Проще: что важно для костромских, крестьянских – мало что значит для Квашниных старинных с их пятьюстами (может, и больше) лет родовитости, плюс с легендой выхода предков из «византийцев», «франков», «варягов», «рюриков», «саксов», «готов», «вандалов» либо «Литовии», так до Древнего Рима гракхов, помпеев и цинциннатов), – не из Квашнинки ведь. Чтя генетику, родовую и кровную, я выискивал информацию и о тех Квашниных, боярах.
Пишет Макарий, историограф: «…з киевских именитых бысть Родион Несторович з сын в подданствие московския». Свод шестнадцатого столетия: «Зван был Нестор Рябец Смоленский…» Это исток Квашниных (старинных). В 1337 году, в битве, кажется, с тверичанами (при И. Дм. Калитé), Родион Квашнин дезертира «длань свои уби, да и главу вел. князю везе на пике, да и прорекше: „Мой государе! Ворога персть есмь“». На Куликовом доблестном поле Дм. И. Донского после ранений вынесли люди И. Р. Квашни, «отважнага воеводы». Плюс первый русский, а не заёмный митрополит – Квашнин был.
Вот, вкратце, старшие Квашнины, масштаб тузов Московских царствий, так и Империи: важных думских бояр, дворецких, чашников, ловчих, стольников, стряпчих; далее – герольдмейстеров, воевод, епископов и сенатских, тайных советников, губернаторов Квашниных – предтеч нас, младших, крестьянских, из захолустной некой Квашнинки. Скажем, при Грозном стольник Квашнин, из древних, ездил в Рим с миссией; а другой, опричник, гнал их, дабы мы, младшие, возросли в боярство. Сын его позже, при Годунове, стал думным дьяком, позже окольничим, и дерзал в реформах. Он с Годуновым в лету и канул. Всплыли с Лжедмитрием, с коим многие (взять Романовых, например) окрепли, мы же ослабли. При Алексее выбились в Думу, были послами (в Крым, в Христианию, в Оттоманскую Порту) и воеводами (в Новград-Северске наш Квашнин был ранен), правили Мценском и пограничьем. Это – предания из разряда, как в разговоре кто-нибудь выскажет, что при Грозном предок был тем-то, мол, а при Павле – этим. Метаморфозы были у младших; старшие – в славе.
В целом без разницы: урождённый Квашнин был, сельский либо их помесь. Тонкости лишни и здесь не значат. Старшие всем берут, кроме (в чём и пикантность) важной детали: их патримониумы2 утеряны, между прошлым и новым – мифы, ссылки на хроники и подобное. А у нас – вещь. Брáтина, злато-сéребро с текстом: «День иже створи бог, взрадуем, взвеселимся в он, яко бог поизбавит ны враг наш и обратити под стоп нам, главы их змиевые ссекуша»… Я вспоминаю хладные формы в пáтине с мыслью: пусть в этом мире алчность и хамство, пошлость и чванство, бедность и муки, фальшь и разбои – я же вне времени и пространств при корне, что есть традиция, честь, русскость, якорь, опора и упование… При Петре во «птенцах гнезда» пребывал лишь один Квашнин; остальным не пришлись неметчина париков, чин пьянства, войн и дебошей. «Каюсь нижайше и во печалех, – так, по легенде, наш Квашнин укорял царя, – хоть мы, аки скот в хлеве, грязны и тёмны, компас не ведам, но, государь мой, в немцы не хощем; днесь лишь разбойникам честь, убивцам; войски да флоты многи не надобны; с царством русским не сладим, столь непомерным. Попусту войны, ежели русскость чахнет и сякнет. Твой парадиз для избранных, а вкруг голь одна. Что от русских от нас отвергся, Пётра Лексеич, царь-амператор? Мы их Европ не хуже, Русь Пресвятая…»
Zur folge hatte, то есть в итоге, кто был в Якутск отправлен, кто пал под пыткой либо в чинах отстал, а не то сослан бедствовать с умалением из столичного – во дворянство тульское, новгородское и калужское; унижались и в однодворцы. Некую даму нашего рода взял в жёны Квасов, купчик из Бронниц, где-то при Павле, ради престижа. В век Александра линия Квасовых-Квашниных блеснула первогильдейством, в век Николая, поиздержавшись, сгинула в писарях, адвокатах, дьяконах, свахах и офицерах низкого ранга.
Нам не везло, признать. Но мне льстит ценз рода, доблести предков и столбовое наше боярство.
Я уезжал на «ниве». Сзади, средь скарба, был пятилетний, длинный и тонкий, в мать, светлый мальчик.
– Едем с тобою – как внук Багрова ехал однажды к деду в деревню, – проговорил я. – Правда, тот мальчик ехал в карете.
– Пап, расскажи мне!
Так, повествуя о днях Аксакова, о селе Багрово и Куролесове, повернул я к Центру.
В Х. переулке подле «тойоты» остановившись, выбрел я с сыном к старому дому в стиле барокко, дальше – ко входу с крупной табличкой, чёрное в золоте: «1-ый Пряный завод Г. Маркина». Здание, клерки (девушки в чёрном, юноши в галстучках с золотистыми бейджами) – этим всем здесь владел мой друг. Нас встретили: «Оу, здравствуйте! Мы так рады вам! Welcome!» Но, невзирая на этикет, я знал, чтó точно будущий вон тот Гейтс, имевший в тридцать лет «бентли» и побывавший как на Багамах, так и в Лемурии, либо та мисс Гламур с улыбкой хищной гиены и с силиконом где только можно – чтó они думают, во глубинах их душ, про «ниву» в ржавленных пятнах и про меня в ботинках мутного цвета, в ношеной куртке, плохо побритого и худого, с некреативным в целом обличьем (в драных носках, возможно), плюс с сыном в шубке, траченной молью.
В стильной приёмной Аня-ресепшн встала с улыбкой, чтобы открыть нам дверь.
В пространстве чёрного цвета сквозь жалюзи́ бил свет. Прозрачный стенд выставлял сбор специй: разные перцы, стружка корицы, россыпи чили, рыжий шафран, ваниль, изысканный кардамон, гвоздика (мýчкой и в рыльцах), светлый имбирь, большие ядра муската, тысячелистник, тмин, лавр, аир, котовник, мята, солодка, стевия и бадьян, монарда, фенхель с анисом… Благоухало. Стол из эбена был с монитором чёрного цвета, с фото, с мобильным, с парой журналов, плюс органайзер и документы. В кресле был некто с сивою чёлкой и в мешковатом, как бы на вырост, стильном костюме. Он улыбался сетью морщин. С опущенной вниз, но при этом чуть вбок, руки с сигаретой плыл редкий дым.
Се «Марка», он же Георгий Маркин, мой одноклассник. Мы с ним с Приморья. Там, век назад, мы плавали с ним на льдинах ранней весной, «охотились» с топором на тигров, крали детали для «космолётов» из технопарка воинской части. Там под ноябрьским солнечным ветром мы с ним стояли возле парадных стройных расчётов вместе с отцами. Я был романтик, плачущий от сверкания труб оркестра. Он был прагматик, знавший структуру, полный состав полка, остальную конкретику. Мы с ним рыбу ловили, ради примера, я ― чтобы съесть её, он ― продать. В итоге он разбогател; я был должник его.
Взглянув на столб напольных, чёрных, с боем, с гирями из золота, часов в углу, он бросил:
– Выпьем?
– Нет, прости. Мы едем. В Квасовку, в деревню.
– Вот как?.. Тоша! ― Он кивнул на сласти в вазе, горку «трю́фелей». ― Испробуй!.. Чем обязан?
Я, сев в кресло (сын, с конфетой, сел поодаль, на диванчик), возразил:
– Не ты обязан. Я обязан. Я.
Он взял коньяк, взял рюмку, выпил, затянулся сигаретой. Он подумал, я про кедр? Давным-давно мы с Маркой «шишковали», шли тайгой; вдруг ― треск; ствол, рухнув, вжал нас в землю, не убив, по счастью или по случайности; он палкой вырыл яму подо мной; я спасся… Может, вспомнил он «Челюскин», где когда-то мы подвыпили и пьянь (торгфлот) пошла на нас, верней, на мой приметный рост, что выставлял меня, как голиафа, возбуждая пыл давидов); на подвздошье шрам той драки; Марка нож отбил…
– Я помню всё… – Сказав, я помолчал. – Здесь деньги, Марка, деньги; в них вопрос. Большие деньги. Для меня, естественно, – я уточнил, беседуя с маркизом пряностей, с недюжинным финансовым посредником.
Однажды, в девяностых – в третий год реформ – он прибыл. Вдруг зашёл в НИИ, в отдел: «под мухой», в мешковатом клифте, в модной шляпе, с сигаретой в пальцах, «новый русский». «В гости, Квас, к тебе», шутил он; рассказал про «Владик» (наш Владивосток), где жил тогда (где я закончил универ, филфак), где власть, прохвосты и преступность разбирали государственную собственность; флот, рыба, лес – всё яростно хватали и дербанили. Он вздумал встроиться, не смог; был в розыске – «авторитетом» местного разлива и «ментами». Разводил песцов, «наехали»; он «сдул» в другой район, где был на складе карбамид, – ничей, сказали. Марка вызнал, что китайцы в поисках амидных удобрений (карбамида). Наша часть, иначе гарнизон, где жил я с Маркой, был под боком; офицеры за «колёса» (Марка каждому дал «ВАЗ»), за выпивку, за «шмотки» и за «дружбу» помогли. Приличный куш был сорван… Позже Марка создал трест (торговля), пирамиду, схожую с московской «МММ», сбывал металлы: алюминий, медь, титан со списанной аэродромной техники и прочий лом; сбежал в Малайзию, потом во Францию… Он много рассказал тогда (хоть я его не спрашивал; в то время я пил горькую из-за одной трагедии). Я, помнится, тогда взял перец сдобрить рыбу; он придумал, что не спирт, не «шмотки», не «писишки» – специи он выберет щитом афер своих и промыслом. В цеха двух лизинговых фабрик ввезя станки, купив сырьё, под брендом: «1-ый Пряный завод Г. Маркина», – он выдал фирменные пачки и пакетики; открыл по Подмосковью склáды, на востоке, юге, севере. Я, изгнан из НИИ безденежьем, ненужностью лингвистики (плюс и бедой моей, поэтому с трудом мог мыслить адекватно, общепринято), стал дилером при Марке: брал его товар и продавал с наценкой. Брал товар я и в других местах.
Съев третий или пятый «трюфель», выбранный из вазы, сын фантики стал впихивать в карман, косясь на сивого худого «дядю Гошу».
– Долг мой – под тридцать тысяч. Но у. е., – вздохнул я (при инфляции, в торговле и вообще в коммерции употребляют преимущественно доллары, «у. е.», «условные», иначе, «единицы», чёрт их побрал бы). – Где-то тридцать. Может, больше.
– Квас, проверим… Аня, Макса позовите-ка.
Пришедший Макс, сказав, что долг мой «тридцать тысяч, четыреста два доллара, пять центов на сей час», поправил чёрный галстучек и вышел.
Марка хмыкнул.
– Обещаю, долг верну… Но не сейчас. Мотаюсь. Тщетно. Прибыль малая, ― признался я.
Он глянул на часы.
– Жду венгров… Если поразмыслить, твой процент, Квас, должен быть с полсотню или выше, чтоб кормиться. В мире кризис, конкуренция; век перекупщиков иссяк, почти иссяк; ты лишний. Год назад ты мог работать с пользой, с выгодой. Теперь и я в поту. А у тебя сын, Ника. Так? – Он затянулся сигаретой. – Что же делать?.. Предположим… Я беру тебя, хоть завтра, переводчиком. Согласен? – Он глотнул коньяк: – Бестактно? Ты на жалованье без того, раз должен.
– Нет, – отверг я. – Болен, это первое… А главное, утратится свобода… Нет. Я от у. е. устал!! – воскликнул я. – От всех условных штук устал, от всех абстрактных и вещественных! И не хотел бы впутать в дружбу рубль. У нас с тобой так много общего в недавнем прошлом, чистого! Рубль дружбу портит… Долг отдам. Но позже.
– Ника как? – спросил он.
Я б налгал, что с Никой хорошо: уравновешенна, спокойна и бодра (смолчав, что я болел и что она тянула фирму; плюс, я б добавил, мне очень страшно; чувство коллапса рода людского, так, не иначе). Марка полгода был за границей и не знал всего… Я б смог налгать. Но помешали. В кабинет вошёл качок при галстуке и в красном пиджаке, заметивший, что хочет, «слышь, перетереть, в натуре, без свидетелей». Ресепшн-Аня прыгала за ним беспомощно. Он, выгнав Аню, дверь закрыл.
– Мы тайн не держим, – молвил Марка. – Говорите при свидетелях.
Гость, развалившись в кресле, ухмыльнулся.
Марка щурился, неясно отчего.
Гость видом был борец. – Наш босс, – развязно он повёл, – к вам с уважухой. Он слыхал про вас, когда вы на востоке делали бизнес. После слиняли, кинув братву. Нехорошо, не по понятиям. Но он нашёл вас. Он из Думы, всех найдёт. Босс, типа, может… Приглашаем вас в партнёры… Хаза тут у вас отпадная… – Гость щерился. – Мы помогаем, сыск-охрана; ну, спортсмены там, спецы. Мы лучше. Ваших тронул – сразу в сопли, хнычут, плачут и кудахчут, слышите? Мы вам нужны; босс так считает. Вас, типа, ищут важные люди вроде Корейца. Вы же при деле, остепенились; также семья притом, чтоб вам скакать туда-сюда… Наш босс в авторитете. Цены перетрём, тут без проблем. Ведь Николаю Николаичу – свой каждый, кто под ним… – Гость вынул трубку, склочно зазвонившую, спросил: – Гвоздь, ты?.. Базлает, нах?.. Не хочет?.. Вскоре буду; не пыли… – И, спрятав трубку, он продолжил: – Кипиш на фирме или на вас вам надо? Вряд ли вам надо. Сёдня прихлопнули, прям в чёрном „мерсе“, крупную падлу, ну, с „Оптимбанка“. Фраер ба-альшой был! Очень большой был, но залупаться стал не по делу.
Марка смеялся. – Сколь замечательный субъект ваш босс! Однако, вы припёрлись и хамите. Ну вас к чёрту. Убирайтесь.
– Захотите – наши черти к вам приедут. Ваш заводик, склáды, офис… Это запросто… Не цените вы нас! – Гость, хмыкая, поднялся. – Буром мы не прём, не думай. Николай-то Николаич мог восток качнуть, Корейца, но он знает, как и что… – Гость дал визитку. – Вы звоните нам, в натуре. – Он кивнул и подмигнул. – Рад был, короче, поболтать. До скорого… – И гость пошёл к дверям, как гризли.
Тут и я встал. Хоть мы с Маркой врозь с июня (хворь моя, его разъезды), но сегодня я здесь с целью одолжиться, и не более. Однако, то ли так ослаб, что стал стыдлив, не мог просить, лишь бросил: – Мерзость, Марка.
Он кивнул.
– Кореец? Связь с Востоком? Что ты делал на Востоке?
– Делал деньги, крупные, заметь. Я прирождённый спекулянт… Кореец? Мы общались. Я делился с ним, но мало.
– Плохо, – встал я. – Будь внимателен. К тому же ты семейный.
Марка спрятал свой коньяк и объяснил: – Мои на Мальте. Как приедут, обеспечу безопасность… Жить, – вздохнул он, – я не так хотел. Вращаю деньги, акции; завод открыл. Столп рынка, в „Форбсе“ упомянут… – Он махнул рукой, в которой, меж прямых двух пальцев, сеял дым вечный маркинский «Кэмел». После заметил: – Всё уже было. В смысле, имелось то, что есть нынче. Рóтшильды, Морган ― им в смену мы пришли: Кац, Факсельберг и я, богатый Гэ эМ Маркин… Революция – не случай, не экспромт с нехватки хлеба, как считают либералы.
Появилась Аня. – Гости. Ференц Хóрти. Придержать? Позвать их?
Марка бросил: – Венгры, Квас, с контрактом. Будь пока… Позвоню.
Шли люди, разные венгры. Ярость напала, я зашагал к ним. Что, я неряшливый? Но я здесь на своей земле! – возбудились мысли. Я здесь, в России, странной, блаженной, нам воспретившей культы маммоны! Вспомнилось, что есть русские, кто клянут заморщину, но заимствуют чуждый быт, точно тот не последствие чуждых принципов, точно внешне быть кем-то не означает, что ты внутри как он. Но что я из себя являю, пусть аутсайдер, – с тем русскость чистая с правом гордо здесь нынче шествовать. Чудилось, когда шёл на них, респектабельных и ухоженных, словно русского выше нет, словно я несусветно, непревзойдённо прав! Пусть Фиджи, «бентли», пентхаус не про таких, как я, но под ними – моя земля! пращур мой здесь владел! – я мыслил в жажде явить им смутное и неясное самому себе, но громадное и несметное, вдохновенное до восторга, это ужо вам!!! Венгры трухнули и отшатнулись. Я, возбуждённый, вышел из холла, шумно вдохнул – и выдохся, как лопнувший воздушный шар. Здесь, в центре, на Хилкóвом, чвикали птички, пáрили кучи грязного снега, лёд в лужах плавился… Как гулко, с отзвуком и с эхом, хлопнула дверь «нивы»! Гул и томная блаженность-оглушённость быть имеют лишь в Москве весной в старинных улочках… К кофейне в стороне из минивэна выгрузили вина, сласти, булочки.
– Ешь пресный хлеб! – изрёк я, упредив хнык сына что-нибудь купить: средств не было на снедь, тем более к поездке; топлива – на сто км. Всего, жаль, не было, помимо тяги, и не тяги, а стремления… и не стремления – а жажды ехать словно в тайну, нужную ребёнку, бывшему со мной, жене моей и мне… и миру. Здесь я, что же, ради денег? Нет. Я съездил к Марке перед тем, что всё изменит; всё-всё в мире, вот что впало мне.
А одолжусь у Шмыгова, с кем знаюсь со студенчества. Он, некогда, упившийся, лежал в постели и читал мне Диккенса, дабы я вник в «судьбину принца Уэльского», каким он, дескать, был (вставлялось, кроме этого, что он, – «damn! fuckамать, плебеи!» – он не «Шмыгов», «bloody hell!», а «Шереметев», то бишь наш-таки «старинный дворянин», из русских). Пить он пил, но знал, что хочет; был активен, предприимчив. Мы расстались. Встретились снова. Он тёрся в МИДе на Смоленской, нёс при встречах о себе, великом, открывал мне тайны партократов из Кремля. Я, романтичный, брезгал трёпом, но сказал ему, что в жёлтой прессе он бесспорно преуспел бы: быдло любит грязь. Вдруг он пропал, бог весть куда. Случился крах Союза… Вновь возник он в девяностых, представителем от шведской фирмы. Мы ходили с ним по барам, сплошь английским; он их сыскивал повсюду и за пивом говорил мне о Европе, о своей теперешней работе, о правительстве, где взятками он всех имел-де. Пил он крепко, делаясь то жалким, то заносчивым. Был Шмыгов длинен, сухощав; грудь впалая; плюс чернь волос (парик), но с серебристостью; фарфоровые зубы; нечто кунье в облике, в повадках. Женщин я при нём не видел, в разговорах он касался их нечасто. Я к нему поехал.
– Чувствуют, пап, взрослые? – спросил меня мой сын.
И я опомнился. Здесь ― кровь моя, душа; о ней забыли. Ради сына я и ехал, кроме прочего, но поместил его средь скарба и забыл.
– Что, Тоша?
– Дети чувствуют. А взрослые?
– Иначе чувствуют, – изрёк я и умолк. Ответа я не знал. Столь прожито, тьма опыта, а вот не знал.
– Особо, – начал я домысливать, свернув к бульварам, – чувствуют. Не остро… Чувствуют мельче, как бы условно; даже сам Моцарт либо сам Пушкин. Чувствуют постно и через мысли, словно в тумане. Вроде как спят всю жизнь.
– Да?.. Есть хочу, пап. Булочку.
Я стал у здания, где, в белом интерьере, Шмыгов, активный, модный очками, вскрикивал в трубку пафосным тоном; лента из факса висло ждала его. Подальше кашлял служащий, другой мурыжил принтер. Тощенький юнец был подле Шмыгова: в ворсистой дорогой фланели с воротом, в дерби, с кáстомной серьгой, желтоволос и прыщеват. Взяв сотовый, хозяин познакомил нас. «Калерий», – так назвался некто, – глянул, словно рыба, парой блёклых óкул. Вряд ли он осознавал меня и вряд ли чувствовал, что я живой.
– Busy!! ― Выкрикнув, Шмыгов пóднял трубку от факса, чтобы вопить в неё с кипучим пылом, как до этого вопил в мобильный.
Я прошёл вдоль стеллажей с товаром: сенсоры, кнопки, лампы, диоды, счётчики, клеммы, блоки, плафоны, вырезы утеплённых полов etc. Швеция, страна… Она, как мы, плод севера, но – Europe с порывом к вещности… О, горе нам с пространной территорией, пленящей нас! Взираем в даль, ждём бедствий, поспешаем, где ни затронут непостижный, да и не наш совсем приход. Яримся, хаем злыдней, пыжимся, считаем мир больным, – увы, мы сами при смерти.
– Конец! – и Шмыгов снял очки с сухого куньего лица. – Болтал с одним, внушал ему, дружи́те с нами, ценим искренних друзей; „Москва“ ваш банк? и мы там! славно! Он: берём товары у французоу, но готоу смотреть наш ценник, так как хоть „Москва“-банк есть, конечно, но разумней – „Промвест-банкинг“, реквизит назвал… Дела-с, my dear герр Кваснин, сэр! Кризис нравов, сэр. О, времена, o, mores… Аномия и упадок! – Он взял «ронсон», прикурил. Не связанный родством, имевший счёт в Брюсселе (чем прихвастывал), он все невзгоды херил смехом. – Расскажу, сэр… Парни, чай нам! – бросил он под дым от сигареты. – Шмыгов, знаешь, не растяпа, опыт есть. Как раньше было? К нам в Россию от французов и от турок всякая лектрофигня плыла, чтоб, значит, евро-стиль, – кивнул он на стеллаж. – Но! турок выперли с халтурой. Что же сделал мудрый Шмыгов? Выпер и французского „Лиграна“! Где он? Где-нибудь, но не в Москве, где Феликс Шмыгов смёл его для швеццкой мамы, for the sake of сделать бонус… Чай? – спросил он, рухнув в кресло. – Блеск чаёк!.. Сэр, знай: от сделок каплет крупный бонус, приз в валюте. Чувствуя, что я великий rogue, я – в Швецию, начальству, вру: уйду, мол, к немцам в славный „Симминс“. В то же время шлю контрактик в пару лямов. С кем контрактик? А с хоз. службами КремЛЯ, сэр! Прежний их торг. представитель лям им слал в сто лет ни разу. Я им – тридцать. Дали бонус. Я же в „Симминсе“, сэр, не БЫЛ! – стал он взлаивать. – Я ТОТ ещё! Мне палец в рот не КЛАСТЬ! – И он стряхнул с тончайшей сигареты пепел. – Я звонил вам раз, и Ника… Fuck, забыл, чёрт! – подскочил он. – Встреча скоро! Где, damn, ордер?!
– Феликс, дай, – прервал я, – триста.
Взяв бумажник из вараньей редкой кожи («тыща баксоу!»), он хехекнул. – Триста? Please, сэр… Как я шведов?.. В „Bishop’s finger“, сэр? Сегоднячко, в честь нас? Английский бар, magnificent! С Калерием.
– Нет, – встал я, пряча деньги. – С сыном еду.
– Сколько сыну?
Спрос досужий, как обычно. «Пятый», – я ответил в сотый раз. Он спрашивал, как «dear, вообще дела», пальцуя номер абонента и вставляя, что «нужда звонить immediately», плюс нежничал с юнцом, с Калерием… Я вышел. Всюду лишний, я отторг «сей мир» отъездом.
После в «Хлебном» я взял сдобу. Кто бранил бы вред муки с рыхлителем, отдушкой, эмульгатором, с добавкой сахара и испечённой в маргаринах, что при выпечке меняются в индолы и скатолы. Я купил её и отдал сыну. Что поделать? Мы давно в грехах, тем паче в первородном. В vitium в том самом originis.