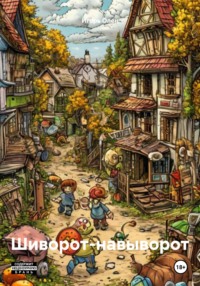Полная версия
Russология. Путь в сумасшествие
Ехали. Я сообщил, как встряли в пробку: – Сдоба вредная, поверь мне.
– Почему?
– Запомни: много лет уже помимо хмелевых в заводе термофильные, сын, дрожжи; микрофлоре организма страшный вред. В кишечнике микробиота, а она…
– Ты деньги, пап, достал?
Я глянул в зеркало: сын набивал рот сдобой.
– Интересно?
– Не! – трещал он. – Про кишечник, про биоту и про дрожжи мне совсем не интересно. Лучше – деньги. Все про дрожжи мало говорят, пап, много говорят про деньги. Я недавно спорил с бабушкой, что монстрик стóит – как её вся пенсия! Вы с мамой тоже лишь про них, не про бактерии. Вы разговаривали, слышал, ты займёшь тех денег, чтоб поехать нам в деревню. Деньги, пап, нужней.
Я слушал и скорбел, что мне не быть, как Авраам из Библии, богатым, важным, именитым господином, стержнем рода и устоем, VIP-персоной, патриархом. Се во-первых. Я – шваль, шушера, прыщ, лавочник, червяк; слаб и себя кормить, не то что сына и других. Да, школу кончил с блеском, в ВУЗе оставляем был на кафедре, в НИИ чуть доктором не стал… Всё ухнуло к чертям. Кулёма, бездарь, неумеха… В-третьих, в-пятых, а, по ходу, и в двухсотых – мне, наверно, скоро швах, раз вижу жизнь, как вещь вовне, как будто с жизнью расстаюсь.
– Купюры есть, – изрёк я перед МКАД. – Немного, правда: триста, Тоша.
– Столько стоит динозаврик!.. Что поделать, надо ехать… Дети в садиках, я езжу. Это плохо! – лицемерил сын, вздыхая.
МКАД тогда была опасной: узкой, в рытвинах. Несущийся мошенничать, грабастать, воровать и жулить, люд толокся в нудных пробках, изводился, сквернословил, свирепел, ожесточался. Помню, вспыхнул бензовоз; я проскочил его до взрыва. Либо вдруг спускала шина – и в грязи, а то под ливнем, приходилось заменять её. Порой мочились в баночку, ведь выйти некуда. Да, МКАД была опасной, неприязненной.
Вдруг пробил час и велено: «Я, Бог, решил обрушить мир, сгубить людей», – но мы не слышали?
Прощай, Москва, вертвь мерзостей! монстр пагубный, стяжательный! зло, окольцованное МКАД!..
Нас ждал Кадольск, трудящийся город некогда в прошлом. В этой промзоне разных заводов, впавших в коллапсы и ставших складом импортной дряни, жили отец мой, мать и мой брат (недужный); жили почти что с самой отставки отца со службы. Мы к ним поехали – заночевать, а утром трогаться: их дом нам по пути.
Вот скоростная. «Нива» прянула, как угорелая, устав от жёванных и дёрганно-ходульных ритмов пробочной, заезженной столицы. Трасса… то есть магистраль («М-2») пока не манит пляжников – на всех парах дуть в Сочи (в Гагры или в Крым), – и дачников, а также прочих авто-ездоков. В отсутствии подобных конкурентов, «Нива» обгоняла: фуры, большегрузы, рефрижераторы, водил-«подснежников». Я выжимал «газ», чувствуя, как чуток и отзывчив старый транспорт. На спидометре сто пять, нам вдосталь… Ехали мы, ехали, но вдруг означились рывки, мощь спала; не на пятой, а на первой скорости я сполз к обочине, стал, вылез, разглядел знак съезда в г. Кадольск (здесь первый съезд из трёх), открыл капот – немедля вслед за тем, как прогремел автобус. Стихло. Слышались порою шелест трав, торчащих над сугробами, треск двух сорок и скрип стволов в лесу… Я осмотрел жгуты к свечам и приступил к контактам… Чёрный, с тюнингом, «шевроль» подъехал; низилось стекло под сип:
– Слышь, малый, как проехать в Чапово?
Так ляпнул стриженый, дебелый, при рубашке с галстуком, нетрезвый апоплектик, сорока лет с виду, с мутными свиными глазками. Он был без шеи, голос сиплый… «Малый»? – пусть. На трассе ценят не бонтон, а помощь действием: к примеру, объяснить маршрут, взять на буксир и одолжить домкрат, бинт, топливо. Тот апоплектик, может, славный, лишь невежлив; и по имени я «Малый» (на латинском «Павел» – «Малый»). Я сказал: ваш съезд чуть дальше, третий съезд, где указатель на Луховню, далее – в Кадольск и в Чапово.
Тип дал приказ шофёру: обнаружилось, что тот был гостем Марки, представителем какого-то влиятельного «босса». Джип рванул вперёд, явив свой знак: шесть, шесть плюс шесть, – знак зверя, говорят. Джип – в Чапово, где маркины цеха? Договорились? Вдруг спросивший, ― при рубашке с галстуком и с мутными свиными глазками, бесшеий апоплектик, – «Николай» почтенный «Николаич», думец? Им пугал, я вспомнил, Марку гость-качок, теперешний шофёр. Ишь, «малый…» Унизительно. Я не старик, отверг я, но отнюдь не «мал». Он так – по глупости, по навыку персон на джипах числить всех на «ВАЗах» сором. Кстати, в тех местах, куда мы едем, в правиле звать «малый», некая традиция. Я сам там к «малому» едва за год привык, сначала заподозрив цель уничижения. Тот апоплектик, может, с Тульской области, куда мы движемся, хоть джип московский…
Тронулись дальше. Мне было жарко, как и всегда в прогретой печкой «ниве», едущей к солнцу. От атмосферы, яркой, слепящей, я успокоился, как будто выступил из сброшенных кож в новую, из червяка, допустим, в хризалиду, – выступил да и унёсся в горние звёзд «хоры», так сказать…
В бок въелась боль, повлёкшая тьму разума. Я, впавши в панику со слабостью – симптомом нездоровья, – тормознул. Всё расплывалось, вздыбив мглу, где плакал Авраам, производитель веры, вскрикивали догмы, гнил детский образ. Я терзался, думая: зачем я жил, раз то, что ждёт, ужасно: страх, холод, тлен и смерть? Я жажду в рай, раскаяться в его садах; я жажду истины, чтоб смыть грехи! Но… я ведь не убил, так почему же мне помстился детский труп? С чего? Зачем?
– Пап! – брякнул сын. – Ты плачешь?
– Тош, вздыхаю. Душно.
Мы поехали.
Вновь «нива» смолкла. Отвалив капот, как в первый раз, я протестировал бензоподачу, свечи, провода, контакты; снова сел за руль, когда тот самый джип (шесть, шесть и шесть), «шевроль», наплыл и апоплектик просипел:
– Бля, отверзохать, чмырь!..
И джип умчал в пыли.
Я припустил за ним… Я, ни живой ни мёртвый, ослабелый; главное, взыскующий свет истины, стал злиться и жалеть, что я не в «ламборгини» либо в «мазерати», дабы, настигнув, вбить в джип пулю. Хам!! Он оскорбил меня?! За что?! За то, что заплутал?!
Но вдруг квашнинство, впавшее в мой мозг наверное с рождения, и попранный мой чахнущий апломб поникли. Тормознув, я съел таблетку и, поехав, щёлкнул радио, там хит: «Беременны мы, Машка, временно…» Пошлость, вульгарность.
В музыке – сущность истинной Жизни. Разве словá – речь Бога? Звуки, что старше всех словосмыслов, – вот Говор Бога, Божий Язык, Речь Бога; да и сам Бог там! То обстоятельство, что сброд поганит музыку, чтоб изливать свой внутренний, «богатый», дескать, мир, – по сути же дерьмо своих потреб на пользу пошлым целям, – это страшно. Я в предчувствии, что, коль и в музыке взбить муть, – нам смерть. Пусть сгинут дискурсы, науки, веры – музыкой спасём себя. Уж лучше визг пилы на лесопилке с треском трактора, чем попсотня. Эдемский змий в словах налгал, а вот в попсе нам лгут про жизнь, и лгут, чем лгать нельзя, – подлогом жизни. Именно! Мы без того не слышим и не видим жизнь. Мы слепы к ней. Жизнь впредь чужда нам в той ужасной степени, что нам нельзя общаться с ней. Жизнь впредь нам в пагубу; мы входим к ней в броне; мы ей враги – иноприродные. Мы жрём наркотики, чтоб избыть её. Так, наркоманом был и Авраам, задумавший жить частной и особенной моралью и умом. Он не дурман искал, но Бога личного как анестетик, щит от жизни девственной, иначе же естественной. Бог стал его ментальной одержимостью. Бог отозвался. «Обозначусь!» – порешил Бог и сошёл: не к кесарям, не к магам, не к учёным, не к пророкам, не к героям, – к скотоводу! «Знай! Ты вождь народов!» – рек Господь. И отпрыск Фарры восторгался, что, отринув мир, всё бросив, – кроме сиклей и рабов, – он не исчез, но жив содействием не урского, допустим, бога, не фиванского, не финикийского, а Бога личного.
Здесь о моей судьбе: зачем мне домыслы: Бог и Аврам, жизнь, истина и прочее? Где Бог и что? Мне для чего Бог? И Аврам ― к чему? Кто он реально, а не в Библии, тот Авраам-Аврам? Зачинщик – кто? А вдруг не Бог внушил Аврама – но Аврам внушил нам Бога? Может, Бога не было? Вдруг пресловутый «Бог» есть фикция и аврамическая ложь?
У дома (мы приехали в Кадольск) я, сына высадив, направил «ниву» на стоянку. После шёл пешком. Мне нравилась прогулка с той стоянки по аллее (липа и боярышник) за удовольствие, что я иду не в собственный унылый быт в Москве, а в гости, в дом к родителям, где горе, но и память детства. Заболев, я им звонил; мать думала к нам приезжать; я не позволил. Нынче март, боль отступила, хоть печёт. Я рад зайти к ним, пусть транзитом. Мимоходом взял я груши в плёнке воска, ролл с E-кодами, иначе с консервантами, сыр с химией… О, Боже! Я набит токсинами, отравлен смыслами! Мне бы сойти с трасс мира к тропам рая. Бог, призри меня!
БОГ, ГДЕ ТЫ? ГДЕ?!!
Во мне вдруг затрясло плоть с психикой. Я побежал; груз с купленным, болтаясь, бил мне в бок. Сдержав себя, чтоб не рассыпаться, я заскочил в салон под вывескою «…иго…Че…» (текст выцвел). «КнигоЧей», солиднейший, я помню, супермаркет прессы, канцтоваров, книг до ельцилюции. Я в прошлом был здесь частым покупателем; здесь продавался и мой опус «Логос вокализмов…» и так далее. Был я, наверно, «книжный червь», «мудрила», «бóтан». Я учился много, всюду, – как итог, стал эклектичным в мыслях, в чувствах; неустойчив, словно башня в Варанаси или в Пи́зе; стал наполнен кучей дискурсов, понятий, толков, смыслов, принципов. Так было, впрочем, в древности, давно… Теперь же «КнигоЧей» иной; он трансформирован по моде. На столе – блок видео, там – выставка из пылесосов, телевизоров, плюс ряд высоких иностранных холодильников, стиралок. Книжки – лишь в углу; блеск титулов и красок: Тэх Квандистиков «В натуре костолом», «Ва-банкинг»; Ева Эросова «Хочешь Ксюшу-Плюшу, а?»; Крах Куннилингам «Резчик бритвами»; плюс «Жизнь одной блядвы из Коптево» большого романиста О. Кхуеллова; плюс «Тропы к мёртвым» Мракобесикова У. – всё вырывалось из страниц с фото-коллажами ПМ, корыстных рук над «баксами» и стрингов, спущенных до пят.
– Вам чтиво круче? Вот, советую: бандиты, террористы, кровь, шалманы, проститутки, баксы, „майбах“ и Канары, женский труп, весь голый… Нет? А это: туз в правительстве, как начал, что украл, убил кого, досье и компроматы… Нет? Вы склонны к правде? натуральненький сюжет и образность под философию? Вот книжечка… Да, труп. Но, заостряю, кровь вторична, случай жизненный: с Чечни, – после кошмарных войн, естественно, – приходит Он, герой, бой с мафией; конфликты, кровь-любовь; Она, нечаянно, сестрица главаря. Герой сдул в Лондон либо в Бонн, а у Неё – фертильность… Не пойдёт? Есть милый покет-бýк, чувствительный, слезливый дамский текст – с фривольными, замечу, сценками: „Энн чувствовала член его в своей…“, гм-гм… Вам тошно? Ладно. Политический наезд на власть при Сталине, на высших; тайны, подковёрная борьба, интриги… Алигьери? Здесь таких не ведают. Здесь город простенький: кроссворд, порнушка, детектив. Здесь, уважаемый, Кадольск, не Рим, не Вена с Мéльбурном; здесь город силы и братков; здесь любят китч, увы! Он был – он так и есть, великий, ясно, русский… Карандашик?.. Рубль тринадцать… Благодарствую!
…Я минул дом, второй дом, третий дом с зарешечёнными по низу окнами (чтоб не залезли ночью). Справа был загаженный, в кустарниках, пустырь вплоть до соседних зданий. Всё это означало «кризис», «слом неэффективного», «перезагрузка», век «новаций-инноваций», «креативный тренд»… По мне же: кризис в том, что чуда «лилий» из Евангелий (что не прядут, не пашут, но, однако, сыты) сдвинуты на свалку. Алчут – рубль (сикль, доллар).
II
Вот подъезд с объедками, бутылками, окурками и прочим… В детстве, в пытливом «Техника – юным», я, помню, вычитал: мы станем некогда биологическим гибридом: мозг/кишечник. Неувязка. Полагаю: мозг исчезнет. Будет лишь кишечник; мозг умрёт, ненадобный.
Здесь лифта не было, и я всходил с сердцебиением и с потемнением в глазах, твердя: – Кваснин Пэ Эм, Квашнин то бишь, жил-был полсотни жалких лет всего… А Ноев сын, почтенный Сим, жил-был шестьсот лет… Ной – под тысячу… Адам жил-был чуть больше девяти веков, известно. Жил – и умер странной „смертью“, библия, стишок семнадцать, главка два; он скушал с дерева познанья зла/добра…
– Павлуша?.. Наконец!
Мать, статная, сходила. Обогнав её, мой сын ко мне сбежал, взял сумку и скакнул к квартире.
– Список завершён? – Мать улыбнулась. – Жившего всех дольше не забыл?
– Мафусаил, Енóхов сын, потомок Сифа. Жил девятьсот и шестьдесят и девять лет. Так в библии. Я прав?
Прихожая. Вбок, слева, вход на кухню; рядом – в бóльшую из комнат. А фронтально, чуть правей, – вход в коридорчик с дверцами (в санузел, в ванную) и с дверью большей, предварявшей помещение для брата; рядышком был «кабинет», уж так его зовут; там я гостил и там писал когда-то о гепидском и герульском, древних молвях. Встретите мои работы – ведайте: вас ждут хоть скрытые на первый взгляд, зато подробные, упорные и в русле странных грёз, наррации с дебатами с собою, с миром, с Богом, – с Коим я в пре с детства и достиг вех крайних.
К слову замечу, запросто в храме яро креститься, веря не в Бога, а лишь в себя, всезнайку. Запросто также, жуля в политике и ловча в экономике, спрятав тайный свой интерес, витийствовать, что служишь, дескать, «людям» – лучше, пафосней, «народу», кой, де-факто, вроде тука в персональный твой розарий. Проще, воя: «Я умру, служа России!», – знать, что ты умрёшь, конечно, но с удобствами в приватном лондоне (не в общей мгле), устроенном лукавой плутней.
Я иной, плод древних пéрмей3, Фив, даосов, трынь-травы и аргонавтов. Я уверен: Богу чхать на нас, на всех. Бог против нас антропоморфных, что внедряют мир поддельный, мир условный, мир корысти. Бог «условное» разрушит ― и останется пустыня, где Он ждёт нас…
Я с порога ванну. Я встревожен – потому влез в ванну, чтоб стрекали пузырьки от воздуха из крана для того, чтоб мне расслабиться. Цепь от затычки я тянул ступнёй, чтоб вырвать, будь опасность. Я боялся. Я плохой в воде, бессилю, паникую и иду ко дну. Раз, в речке, оробев, я стал барахтаться, вдобавок схвачен был ножными корчами, но всё-таки доплыл и лёг, твердя, что всё в порядке. Было мне под двадцать, помнится, и я был с девушкой, с моею Никой, – вот вся «девушка».
Феминностью, иначе Женщиной, я поглощён. В ней, как и в музыке, я почитаю суть – великую, неравную лишь средству половых контактов. Женщина – Das Ewig-Weibliche4. В ней – подступ к Истине. Не тот либидный пыл, кой воспевал поэт! Не знаю, чтó в ней точно, в Женщине, – но я ответ найду; ведь мы из женщин отделяемся, чтоб позже с ними слиться в целое… Я топ и в Чёрном (в море, ясно): раз заплыл вдаль, оглянулся – берег запропал; я – в панику, рос ужас; я взмолился: «Боже, Боже!» Взялся кéкур, мой спаситель…
Вынув пробку, я следил, как воды смылись; ванна быстро обмелела, словно жизнь моя. Во мне текла деструкция, сраженье Божьего с природным; быть пошло крушение телесности. Меж мной и небом вбились глумы, что не звёзды там, над нами, нет, но мы находимся в сквозящей гнилью, фосфоресцирующей трупности; что меж женой и мной не «брачны тайны», фигурально, но всего лишь, в повзрослевших, в нас «оформились женилки»; плюс «Мадонна» Рафаэля мнится мне давно лишь проблядью, держащей развращённого мальца, не более. Что знал «культурного», «святого», «идеального» из, мол, «сокровищ» общества и, мол, «всемирных» ценностей, пошло вразнос. Подумалось: а может, мне не стоило чтить «смыслы», «ценности» и «идеалы» с «перлами культуры»? Был бы я просто цербер-охранник «где-нить» на складе, спал бы с газетой, зырил бы в тéлек, знал анекдоты – чем не «ништячно»? Смуты в душе моей в этом случае не было и я был бы здоров. Рыгал бы, сытно наевшись, слыл бы весёлым, врал бы побаски, ел мясо с перцем, был бы отвязным фаном хоккея; вывел бы в люди сына и дочку; мирно скончавшись, был бы закопан в землю друзьями, кои, в поминки, пили бы в третий день, в девятый, ну, и, конечно, в сороковины… и я вознёсся бы в эдем, наверное… Увы! Я с миром в контрах, сходно с Богом. Крайний смысл ищу… Зачем? Слаб верою, я слаб во всём. Ни Богу раб, ни чёрту спешник. Пыль несомая, никчёмность, непригодная добру и злу. Ничтожество. Нуль. Вакуум. Промежность. Бога хоть страшусь, но думая, что в Боге – фейк, обман, и, в сумме, хам и шкурник выйдет правым.
Сын на бумаге чиркал ракеты, взрывы, окопы, танки, пехоту, спутники, мины и вертолёты плюс прочую военную тематику. Родители сидели в кухне. Я, присев к ним, ел и врал внахлёст, что бодр, здоров и еду в те места, где внук их пусть и был, но малым, чтоб внушить ему, зачем и почему наш родовой фамильный дом – под неким дальним Флавском в Квасовке , что близ села Тенявино, на Тульщине. Отец внимал мне, руки положив на трость, а трость упёрта в пол; отцовы волосы как в створ вбирали плоское, отменно длинноносое и с ровным ртом над бородой лицо. Он росл, как я, но слаб; в нём мало воли.
– Хворый едешь, – произнёс он. – Не один, а с малым… Март, снег, холод. Вдруг застрянешь? Павел, ты плохой ходок в болезни. Надо всё учесть, сын, каждую случайность. Вдруг Григорий, что лошадник, болен; он старик, как я. Второй сосед – корыстен, странноват и тоже стар.
Мать стиснула его плечо ладонью: хватит, мол, скулить и хныкать! доходяга, если храбр – сильней качков!.. Весь ум её, пожалуй, в темпераменте; и он же суть её. Я, глядя на причёску, на изящный макияж, на пышный, пусть старинный, в синь, халат её, на полные задора взоры, сомневался в возрасте родной мне этой женщины, в её истолковании.
– Зря, – изрекла она, убрав с плеч мужа пальцы, – не позволил к вам приехать. Я охотно помогла бы Нике с Тошей; и тебя бы полечила. Ну, и как вы?
– От неё привет, от Ники, ― произнёс я.
Мать спросила: – Заболел? И чем, вопрос? Диагноз знаешь? Скрининг делал?
Я ответил: – Немощь плоти? Нет, не плоть страдает. Нечто большее. Хворь – следствие. Ключ – глубже, в психике. Не верю я, что мир разумен. А точнее: он разумен – но, простите, для кого, чьим разумом? Зачем всё больно, хоть для нас? А вдруг без разума, то бишь без слов и смыслов и идей, в бессмысленном молчании, мир стал бы лучше, легче, истинней?
Отец поёрзал. – Сын, пустое… „Лучше, легче“… Мир – как был стоит, других не будет. Если вспомнить, сколь пророков сочиняли утопизмы и проекты лучшей жизни… Что мудрить – коль путь в таблетке, чтоб, Па… Павел, подлечиться? – заикался он, что делал от волнения всегда. – Всё разум; он даёт смысл жизни. Критицизм бессмыслен.
Я пофыркал: ищут смыслы, а бессмысленность бракуют. Смыслов нужно?.. Смыслы, смыслы… Суть не в этом… Ел я с думой, став на место дряхлого отца, как больно видеть, что хиреет постепенно и второй твой сын, звать Павлом, – то есть я за Родионом; как судьба крушит его, сломав сперва тебя. Не споря, я, окончив ужин, сел близ Тоши, чтоб просматривать рисунки.
– Как дела? Ходил к дядь Роде? – начал я, отметив и признав, что нарисованный трансформер давит троллей и Годзиллу.
Сын косился. – С дядей скучно… Пап, сыграем в эти… в шахматы?
Но я не мог играть. Тошнило. Я сел в ванной – посидеть, чтоб хворь ослабла.
Выйдя, я открыл дверь рядом. Близ кровати, в оборот, в коляске для больных, у телевизора, был он, мой брат, метр с кепкой, кривобокий и слюнявый, в россыпи флажков, где многие – с захватанными древками, с улыбчивым и «добрым» фасом Ленина. Мой брат смотрел на маленький экран TV. Раз, сорок лет назад, мать с ним пришла, я закричал от страха. Розовый романтик, кто жалел берёзку, что «одна в степи», чад Диккенса, бессменно сирых, съеденных котом мышей, – я закричал, не чувствуя в нём меры и эстетики. Что он живой, что в этом суть, я не смекнул. Эстетика и мера, впрочем, в нём была. Особая эстетика и мера. Но и жизнь была, особенная, райская. В том эта жизнь была, что он, уродец, дышит, любит травы, лето, ливни, солнце, ветер, грязь, вонь, слюни, зной, мороз и праздники, и рыб в реке; он любит, чтобы тешились, шутили (впрочем, плакали, мочились, ныли, куксились, смеялись, обнимались и драли́сь друг с другом); любит «доброе», как говорят, и «злое», – всё, короче, кроме боли, и её, как знать, в одно кладёт с блаженством. Я смирился с ним.
– Родь, здравствуй.
– Ёлка где? – Он спрашивал с одышкой. – Ёлку!!
– Позже принесу. Ты что смотрел?
– Вьетнам! А у вьетнамцев автоматы. На парраде рроты прряма!! Я вот вырасту… ать-два!
– Пойдём на кухню, – оборвал я.
Он сгрёб шарики с флажками.
– Демонстрация! – потом он завопил. – Быстрей! Нам нужен флаг… Возьми тот шарик с жёлтой буквой!.. Поскорей! Вон те дай папе с мамой. Брежнев говорил! Сказал, ты знаешь, что? – Брат из коляски, тужась, гаркнул: – Здравствуйте, советский человек! Во благо всех трудящихся! Май, праздник! Налицо рост производства, экстенсивность, интенсивность! Миру мир! Народам слава! БАМ! Октябрь! Труд, коммунизм! Гагарин полетел! Наш человек всем людям брат, товарищ! Экономика должна быть экономной! Всем учиться! Строить Байконур, Магнитку, Братск и ГЭС! Фидель! Сияет ленинизм! Марксизм! Мы с партией! Под знаменем вперёд!!
Я угодил на митинг эры Брежнева; был праздник; похотный юнец, я жаждал радостей, любви; лип ко студенткам и пристал к одной… вот площадь, на трибунах власти края… у бордюра я узрел родителей и Родю на коляске, к празднику приехавших из гарнизона, из в/ч. Для них приезд и ожидание был подвиг: три часа ждать в толпах… Наш отряд их проходил, и брат меня позвал; он был в трёх метрах, – я его проигнорировал, чтоб не мараться родственностью с монстром перед девушкой.
Здесь, тридцать лет спустя, я каюсь:
– Я вас видел там, в то время; но был болен… – Думаю, он вряд ли понимал меня; открыться же мне было нужно: мне – для себя открыться. – Чувствовал и видел я тогда, брат, мало. Я не так любил, не то любил. Ты звал, я помню, – я же, слушая, не слышал; видя, я не видел.
– Видел, – он признал. – Ты видел нас. Вас было двое, ты с девчонкой.
Я кивнул.
Помедлив, он спросил: – Там Тоша? Он плохой.
Я наблюдал ребёнка с крупным не по возрасту лицом. – Да, Родик. Там Антон. Антон мой сын и твой племянник. Ты с племянником дружил.
Брат закричал: – Сын хочет шарики? Флажки отнимет?! Прогони его!!
Я вник, что, кроме порченных вдрызг органов, во мне, – в эмоциях и в мыслях, – крах. Вот-вот всё кончится – во мне и в мире: буду врозь с ним, с лживым миром.
В зале сын следил мультфильмы по TV с дивана. Мать сидела с красочным журналом (с «Vogue»-ом). В кресле был отец, державший трость. Я сел близ.
– Утром отправляетесь?
– Да, утром.
– Соберу вас; кашу, фрукты; одеяла с простынями… ― Мать умолкла.
Оптимистке, ей общаться почему-то несподручно? Почему?..
Я посмотрел на люстру, на сервант, шкаф с книгами годов Гагарина и на диван под драной замшевой обивкой (ободрали кошки). Глянул и на стол поодаль, крашенный, облезлый. Прикативший на коляске Родион воскликнул:
– Демонстрация!
– Где?
– Тош! Я покажу!
Тот, встав, отправился за дядей.
Мой отец помедлил и поведал, гладя трость:
– Я тридцать лет служил. Трудился, только бы не в грязь лицом. А стал в грязи́ при нынешних, сын, реформаторах. Был, помнится, майор, нач. склада, жуликоватый: масло сворует, гречку, сыр, кофе… Был и полковник. Мы – на учениях, а он свиней растит… Вот ельцинство! Я так не мог. Не я один: нас много тех, кто рубль презрел как косность, кто подтрунивал над жлобством, кто народного не воровал, жил принципом, высоким принципом.
– Ты ведь Кваснин, – язвила мать. – Равнять себя с холопами? Там рубль в чести; твоя честь в пленумах, в инструкциях, в боярском корне. Честен, нравственен, идеен.
– Я служил не в силу долга. Совестью! Я был за равенство, за общую всем собственность с главенством принципов над дéньгами… Ты что? Коришь меня? Напрасно! Род людской ошибся в сотый раз и в тысячный! Весь род людской, я, ты, коммуны, революции – зачем, раз вновь рубль главный? Спесь нашла? Корысть оправдывать? Ты что, наш век винишь?
– А с брáтиной, – листала мать журнал, – ты чист? И не трясёшься ли над ней? А может быть, она твоя та „гречка“ и твои те „поросята“ в личном плане? Высший принцип – наша бедность? Внук оборван. О другом смолчу. Нас ждёт не чёрный день, а год бед, пропасть!.. Ты про „совесть“? Мы, бояре, благородны, а к тому же мы партийны? У вельможных Квашниных дворян сто ртов на службе было?.. Миша, хватит! Где боярство и дворяне? Где Дзержинский, Сталин, Брежнев? Все усопли, перемёрли, Господи прости!
– Их меньше, – вспомнил я из тех эпистол, что хранили мы вдобавок к брáтине. Я знал их наизусть. – Написано, что „у Матвея Квашнина при Грозном сорок пять дворян бысть“, – выдал я.
– Нам продавать пора, – вела мать, – брáтину. Хоть малость эта чашка стоит всей старинностью да златом-сéребром?
– Мнил, в старости смогу… – изрёк отец. – Но, впрочем, ладно. Старость – чушь. Я про другое… – Редкие прямые длинные отцовы волосы, высокий лоб в морщинах подошли бы старцу-схимонаху, пифии, пророку, вещему. – Я почитал наш строй; гордясь им, верил: я член общества, о коем сложат миф… Да, были, ложь, гулаг! Как с этим в нынешней стране? В ней политзэков нет? И разве лучше власть, что тянет собственность в карман? А лучше ль СМИ с носами пó ветру? А лучше ль нравственность? Народ улучшился? Всяк с калькулятором, за грош убьёт… Как было? Кто заботился о пище, кроме падких до колбас? По шмоткам кто страдал, кроме франтих да щёголей? Был шанс, возможность мыслить. „Мыслить – значит быть“, твердил Декарт… Ты мыслишь, сын, торгуя? Что ты мыслишь? Ничего. Чечня одна… – Он смолк на миг и вновь продолжил: – Мир во зле, и нет надежд. Мир отрицать пора. Здесь большевизма мало. Коренной, гигантский слом бы: гуннов, викингов, орду в сознание ввести; Русь коренную!.. Недоделали. В итоге – пир вещизма, будь он проклят… Стань я молод, я б не знал, как жить… Вам брáтину? Берите. Я, выходит, не умел жить… Клава, думаешь, что всё, что в брáтине и что она являет, призрак? Русскость, праведность, долг, вера – призрак? Правят, значит, не идеи, не мораль, не идеалы, не духовность, не устои, ― сикль библейский, евро, доллар, йена правят? Так? Я, Павел, прав?