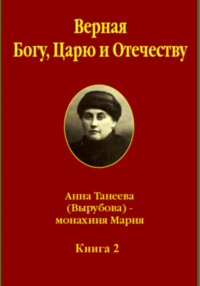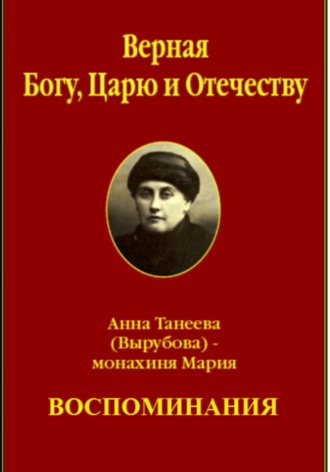
Полная версия
Верная Богу, Царю и Отечеству. ВОСПОМИНАНИЯ
И по мере того, как с прошлого, одна за другою, ниспадают завесы, рушатся с ними и те злые вымыслы и сказки, на которых выросла, в злобе зачатая русская революция. Как будто встав от тяжелого сна, русские люди протирают глаза и начинают понимать, что они потеряли.
И все выше, и выше поднимается над притихшей толпой чистый образ Царственных страдальцев за грехи всея России. Их кровь, Их страдания и смерть тяжким укором ложатся на совесть всех нас, не сумевших Их оберечь и защитить и с Ними защитить и Россию.
Покорные воле Предвечного, с Евангельской кротостью, несли Они поругание, храня в душе непоколебимую верность России, любовь к народу, и веру в его возрождение. Они давно простили всех тех, кто клеветал на Них и кто Их предал, но мы не имеемъ права этого делать. Мы обязаны всех призвать к ответу и всех виновных пригвоздить к столбу позора. Ибо нельзя извлечь из прошлого благотворных уроков для грядущих поколений, пока это прошлое не исчерпано до дна.
____________________
Несколько времени назад, в Берлине, издательством «Слово» опубликован первый том собрания писем Императрицы Александры Федоровны к Государю за время войны. Письма эти известны давно, так как были напечатаны в американских газетах еще в 1919 году, а извлечения из них – в английских и французских изданиях. Содержание их, в общем, настолько интимно, в такой мере проникнуто нежностью двух существ, трогательно любивших друг друга, что, казалось, простая порядочность должна была удержать всякого русского человека для использования их полного текста для целей книгопродавческой наживы. Эта элементарная порядочность тем более была обязательна, что перевод писем на русский язык (подлинник писан по-английски) – по различию языков и свойственных им оборотов – искажает и даже опошливает внутренний смысл многих из выражений любящего чувства, в них встречающихся; к тому же большая часть их текста не имеет исторического значения и может быть интересна лишь для праздного любопытства людей, охочих подсматривать и подслушивать чужие, задушевные тайны.
Свято чтя память Того, кто хранил эти письма, как сокровище души своей, и отдал их в руки убийц только с жизнью, мы не считали возможным касаться этих драгоценных документов. Но теперь, когда похищенные у погибшего Императора, залитые Его кровью, письма эти стали достоянием русского книжного рынка, мы поставлены в необходимость на них ссылаться, полагая, что в создавшихся условиях это не может почитаться неуважением к памяти почивших. Мы дадим отчет о письмах, как только издание их будет закончено.
В настоящей же книге «Русской Летописи» мы даем ключ к пониманию некоторых сторон этих писем, – а именно воспоминания Анны Александровны Вырубовой, рожденной Танеевой.
Говорить много о их значении не приходится; оно само собой очевидно. Из всех посторонних Царской Семье лиц, А.А. Танеева* [*после развода она вновь носит свою девичью фамилию – прим. оригинала] ближе всех стояла к Ней в течение последних двенадцати лет, и лучше многих Ее знала. Она была все это время как бы посредницей между Императрицей Александрой Федоровной и внешним миром. Она знала почти все, что знала Императрица: и людей, и дела, и мысли. Она пережила с Царской Семьей и счастливые дни величия, и первые, наиболее горькие минуты унижения. Она не прерывала сношений с Нею до самого почти конца, находя способы поддерживать переписку в невероятно трудных для того условиях. За свою близость к Царской Семье она подверглась тяжким гонениям и со стороны Временного Правительства, и со стороны большевиков. И клевета ее не щадила. Имя её до сих пор в глазах известной части русского общества остается как бы воплощением чего-то предосудительного, каких-то интриг, каких-то темных тайн Двора.
Мы не имеем в виду ни оправдывать, ни опорачивать А.А. Танееву, и не берем на себя ответственности за правильность изложенных ею фактов и впечатлений. Напомним, однако, что действия её были предметом самого тщательного расследования, производившегося людьми, глубоко против нее предубежденными, и что расследование это направлялось Временным Правительством, для которого обнаружение в среде, близкой к Царской Семье, преступлений или хотя бы того, что принято называть скандалом, было жизненной потребностью, так как в предполагаемой «преступности» старого режима было всё оправдание смуты. И вот это расследование, вывернув наизнанку самые интимные подробности жизни и подвергнув эту женщину страшной нравственной пытке, не говоря о физических страданиях, ничего за ней не открыло и кончило тем, что признало её ни в чём не виновной. Мало того, В. М. Руднев – следователь, производивший разыскание об источниках «безответственных» влияний при Дворе, проводником коих почиталась А. А. Танеева, – дал ей в своих воспоминаниях (см. «Русская Летопись», книга 2-я) характеристику, совершенно обратную той, какую рисовала досужая молва. Он определяет ее, как женщину глубоко религиозную, полную доброты и «чисто христианского всепрощения», как «самую чистую и искреннюю поклонницу Распутина, которого до последних дней его жизни она считала святым человеком, бессребреником и чудотворцем». «Все её объяснения на допросах, – говорит следователь, – при проверке их на основании подлинных документов всегда находили себе полное подтверждение и дышали правдой и искренностью».
Не касаясь этой оценки по существу, нельзя не отметить, что факты, следователем установленные, сняли, во всяком случае, с А. А.Танеевой те обвинения нравственного порядка, которые возводила на нее молва.
Не все, быть может, найдут в воспоминаниях А. А. Танеевой то, чего от них ожидают. И действительно, во многом эти воспоминания слишком сжаты, во многом излишне подробны. Возможно, что в них есть кое-что недосказанного, вернее, неточно воспринятого и расцененного автором, например, степень влияния Распутина на образ мыслей Императрицы Александры Федоровны, доверявшей, к прискорбию, его прозорливости и пониманию людей. Нет в них достаточно подробных сведений и о содержании бесед с ним, и о тех советах, которые он иногда подавал по практическим вопросам жизни, и это тем более жаль, что его советы, если судить по письмам Императрицы, имели вовсе не тот характер, который им приписывали. Нет подробностей и о многих из лиц, которые через А. А. Танееву пытались проникнуть в круг внимания Императрицы и заручиться Её поддержкой. И вообще роль этого окружения кажется в воспоминаниях недостаточно выясненной.
Не следует, впрочем, забывать, что воспоминания – не исследование, и к ним нельзя предъявлять требований полноты впечатления, да и действительная жизнь всегда проще фантазии. Дело критики указать пробелы, если они есть, и мы имеем основание ожидать, что в этом случае автор не преминет восполнить их тем, что у него в памяти сохранилось. Искренность воспоминаний А. А. Танеевой тому порукой.
Однако и самый строгий критик должен будет признать, что воспоминания эти являются документом большого исторического значения, и что знакомство с ними обязательно для каждого, кто хочет дать себе ясный отчет в событиях, предшествовавших смуте.
Впервые из источника, осведомленность которого стоит вне всяких сомнений, мы узнаем о настроениях, господствовавших в среде Царской Семьи, и получаем ключ к пониманию взглядов Императрицы Александры Федоровны, нашедших себе выражение в Её переписке с Государем. Впервые мы получаем и точные сведения об отношениях Государя и Его Семьи ко многим событиям политической и общественной жизни и о внутренних переживаниях Их в трудные минуты объявления войны, принятия Государем верховного командования, и в первые недели революции.
Воспоминания А. А. Танеевой наводят на мысль, что одной из главных, если даже не главной причиной вражды против Императрицы Александры Федоровны, которая сложилась в известных слоях общества, а оттуда, приукрашенная молвой и сплетней, перешла в массы, был чисто внешний факт – замкнутость Её жизни, обусловленная, в значительной степени, болезнью Наследника, и вызывавшая безрассудную ревность со стороны тех, кто считал себя в праве близко стоять к Царской Семье. Мы видим, как росло это настроение, вызывая все большее и большее углубление в себя Императрицы, искавшей успокоения в религиозном подъеме, и стремившейся, в формах простой, народной веры, найти разрешение мучительным противоречиям жизни. Мы видим также, какое чистое, любящее и преданное России сердце билось в той, которую считали надменной, холодной и даже чуждой России Царицей. И, если это впечатление так упорно держалось, то, спрашивается, не лежит ли вина, прежде всего, на тех, которые не сумели или не захотели ближе и проще подойти к Ней, понять и охранить от клеветы и сплетни Её тоскующую душу?
Мы видим из воспоминаний А. А. Танеевой ярче, чем из всех других источников, весь ужас измены, окружившей Царский Дом, мы видим, как в минуту беды отпадали от Государя и Его Семьи, один за другим, все те, кто, казалось, обязан был первым сложить голову на Их защиту; как тщетно ожидали Императрица и Великие Княжны того флигель-адъютанта, которого считали ближайшим своим другом; как отказался прибыть в Царское Село по зову Государя Его духовник; как приближенные и близкие слуги, за исключением нескольких верных, поспешили покинуть Их при первых же признаках развала… и много другого, тяжелого и позорного узнаем мы из этих воспоминаний.
________________________________
Но есть в воспоминаниях А. А. Танеевой и особая черта, выделяющая их из других впечатлений первых времен смуты. Наряду с тяжелыми картинами развала, предательства и измены, как много чистых и светлых явлений ею отмечено. Среди бесконечного, казалось бы, озверения сбитого с пути народа, сколько прорывается чуткого сострадания и ласки, сколько геройского самоотвержения, сколько привязанности к старому, гонимому прошлому. Все эти трогательные люди, укрывающие от преследований несчастную, затравленную женщину, или пытающиеся оградить ее от остервенелых солдат и матросов, все эти раненые, помнящие добро и ласку, – в них оправдание России, в них её светлое будущее! Старое, доброе, хорошее погибло или примолкло, придавленное обвалившейся на него громадой злобы и зверских страстей, но Она жива – эта бесконечно трогательная душа православной сердобольной России. Под грубой корой предрассудков, под грязью и гноем, хлынувшими из трещин истории, – продолжает жить нежное и сострадательное сердце народа. Оно лучшая порука в том, что не все потеряно и погибло, что настанет день, когда из праха, из развалин и грязи встанет Россия, очистит себя покаянием, стряхнет с души своей инородное иго, и вновь явит изумленному миру беззаветную преданность исконным своим идеалам.
И погибший Праведник-Царь станет тогда первой святыней России.
ВОСПОМИНАНИЯ

А. А. Танеева (Вырубова)
СТРАНИЦЫ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
Посвящается возлюбленной Государыне Императрице Александре Феодоровне

«Аще и пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси». (Псалом 22)
«Укоряемы – благословляйте, гонимы – терпите, хулимы – утешайтесь, злословимы – радуйтесь». (Слова Св. Серафима Саровского) – вот наш путь с тобою». (Из письма Императрицы Александры Феодоровны от 20 марта 1918 года из Тобольска).
I
Приступая с молитвой и чувством глубокого благоговения к рассказу о священной для меня дружбе с Императрицей Александрой Феодоровной, хочу сказать вкратце – кто я, и как могла я, воспитанная в тесном семейном кругу, приблизиться к моей Государыне.
Отец мой, Статс-Секретарь Александр Сергеевич Танеев, занимал видный пост главноуправляющего Собственной Его Императорского Величества Канцелярией в продолжение двадцати лет. По странному стечению обстоятельств этот же самый пост занимали его отец и дед при Императорах Александре I, Николае I, Александре II и Александре III.
Дед мой, генерал Толстой, был флигель-адъютантом Императора Александра II, а его прадед25 был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был граф Кутайсов, друг Императора Павла I.
Несмотря на высокое положение моего отца, наша семейная жизнь была простая и скромная. Кроме служебных обязанностей весь его жизненный интерес был сосредоточен на семье и любимой музыке, – он занимал видное место среди русских композиторов. Вспоминаю тихие вечера дома: брат, сестра и я, поместившись за круглым столом, готовили уроки, мама работала, отец же, сидя у рояля, занимался композицией. Благодарю Бога за счастливое детство, в котором я почерпнула силы для тяжёлых переживаний последующих лет.
Шесть месяцев в году мы проводили в родовом имении «Рождествено» под Москвой. Это имение принадлежало нашему роду 200 лет. Соседями были наши родственники – князья Голицыны, и Великий Князь Сергей Александрович. С раннего детства мы, дети, обожали Великую Княгиню Елизавету Феодоровну (старшую сестру Государыни Императрицы Александры Феодоровны), которая нас баловала и ласкала, даря платья и игрушки. Часто мы ездили к ним в Ильинское, и они приезжали к нам – на длинных линейках, со свитой – пить чай на балконе и гулять в старинном парке. Однажды, приехав из Москвы, Великая Княгиня пригласила нас к чаю, после которого мы, дети, искали игрушки, спрятанные ею в большой угловой гостиной, как вдруг доложили, что приехала Императрица Александра Феодоровна! Великая Княгиня, оставив своих маленьких гостей, побежала навстречу сестре.
Первое моё впечатление об Императрице Александре Феодоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты: высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными, грустными глазами – она выглядела настоящей царицей. К моему отцу Государыня с первого же времени проявила доверие, назначив его вице-председателем Комитета Трудовой Помощи, основанной ею в России. В это время зимой мы жили в Петербурге, в Михайловском Дворце, летом же на даче в Петергофе.
Возвращаясь с докладов от юной Государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. Так, он рассказывал, что на первом докладе он уронил бумаги со стола и что Государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость Императрицы его поражала. «Но, – говорил он, – ум у неё мужской – une tète d’homme». Прежде же всего она была матерью: держа на руках шестимесячную Великую Княжну Ольгу Николаевну, Государыня обсуждала с моим отцом серьёзные вопросы своего нового учреждения; одной рукой качая колыбель с новорожденной Великой Княжной Татьяной Николаевной, она другой рукой подписывала деловые бумаги. Раз, во время одного из докладов, в соседней комнате раздался необыкновенный свист.
– Какая это птица? – спросил отец.
– Это Государь зовёт меня, – ответила, сильно покраснев, Государыня и убежала, быстро простившись с отцом.
Впоследствии как часто я слыхала этот свист, когда Государь звал Императрицу, детей или меня; сколько было в нём обаяния, как и во всём существе Государя.
Обоюдная любовь к музыке и разговоры на эту тему сблизили Государыню с нашей семьёй. Я уже упоминала о высоком музыкальном даровании моего отца. Само собой разумеется, что нам с ранних лет дали музыкальное образование. Отец возил нас на все концерты, в оперу, на репетиции и во время исполнения часто заставлял следить по партитуре; весь музыкальный мир бывал у нас – артисты, капельмейстеры, – русские и иностранцы. Помню, как раз пришёл завтракать П. И. Чайковский и зашёл к нам в детскую.
Образование мы, девочки, получили домашнее и держали экзамен на звание учительниц при округе. Иногда через отца мы посылали наши рисунки и работы Императрице, которая хвалила нас, но в то же время говорила отцу, что поражается, что русские барышни не знают ни хозяйства, ни рукоделия и ничем, кроме офицеров, не интересуются.
Воспитанной в Англии и Германии, Императрице не нравилась пустая атмосфера петербургского света, и она всё надеялась привить вкус к труду. С этой целью она основала «Общество рукоделия», члены которого, дамы и барышни, обязаны были сработать не менее трёх вещей в год для бедных. Сначала все принялись за работу, но вскоре, как и ко всему, наши дамы охладели, и никто не мог сработать даже трёх вещей в год. Идея не привилась. Невзирая на это, Государыня продолжала открывать по всей России дома трудолюбия для безработных, учредила дома призрения для падших девушек, страстно принимая к сердцу всё это дело.
Жизнь при Дворе в то время была весёлая и беззаботная. 17-ти лет я была представлена сперва Императрице-Матери в Петергофе в её Дворце Коттедже. Сначала страшно застенчивая, – я вскоре освоилась и очень веселилась. В эту первую зиму я успела побывать на 22 балах, не считая разных других увеселений. Вероятно, переутомление отозвалось на моём здоровье, – и летом, заболев брюшным тифом, я была три месяца при смерти. Брат и я болели одновременно, но его болезнь шла нормально, и через шесть недель он поправился. У меня же сделалось воспаление лёгких, почек и мозга, отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих мучительных ночей я видела как-то раз во сне о. Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро мне будет лучше.
В детстве о. Иоанн Кронштадтский раза три бывал у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление, и теперь, казалось мне, мог скорее помочь, чем доктора и сёстры, которые за мной ухаживали. Я как-то сумела объяснить свою просьбу – позвать о. Иоанна, и отец сейчас же послал ему телеграмму, которую он, впрочем, не сразу получил, так как был у себя на родине. В полузабытьи я чувствовала, что о. Иоанн едёт к нам, и не удивилась, когда он вошёл ко мне в комнату. Он отслужил молебен, положив епитрахиль мне на голову. По окончанию молебна он взял стакан воды, благословил и облил меня к ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу заснула, и на следующий день жар спал, вернулся слух, и я стала поправляться.
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна три раза навещала меня, а Государыня присылала чудные цветы, которые мне клали в руки, пока я была без сознания.
В сентябре я уехала с родителями в Баден и затем в Неаполь. Здесь мы жили в одной гостинице с Великим Князем Сергеем Александровичем и Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, которые очень забавлялись, видя меня в парике. Вообще же Великий Князь имел сумрачный вид и говорил матери, что расстроен свадьбой его брата, Великого Князя Павла Александровича. К июню я совсем поправилась и зиму 1903 года очень много выезжала и веселилась. В январе получила шифр – т.е. была назначена городской фрейлиной, но дежурила только на балах и выходах при Государыне. Это дало возможность ближе видеть и официально познакомиться с Императрицей, и вскоре потом мы подружились тесной, неразрывной дружбой, продолжавшейся все последующие годы.
Мне бы хотелось нарисовать портрет Государыни Императрицы Александры Феодоровны – такой, какой она была в эти светлые дни, пока горе и испытания не постигли нашу дорогую Родину. Высокая, с золотистыми густыми волосами, доходившими до колен, она, как девочка, постоянно краснела от застенчивости; глаза её, огромные и глубокие, оживлялись при разговоре и смеялись. Дома ей дали прозвище «солнышко» – «Sunny», – имя, которым всегда называл её Государь. С первых же дней нашего знакомства я всей душой привязалась к Государыне: любовь и привязанность к ней остались на всю мою жизнь.
Зима 1903 года была очень весёлая. Особенно памятны мне в этом году знаменитые балы при Дворе в костюмах времён Алексея Михайловича; первый бал был в Эрмитаже, второй в концертном зале Зимнего Дворца и третий у графа Шереметева. Сестра и я были в числе 20 пар, которые танцевали русскую. Мы несколько раз репетировали танец в зале Эрмитажа, и Императрица приходила на эти репетиции. В день бала она была поразительно хороша в золотом парчовом костюме, и на этот раз, как она мне после рассказывала, она забыла свою застенчивость, ходила по зале, разговаривая и рассматривая костюмы.
Летом я заболела сердцем. Мы жили в Петергофе, и это было первый раз, что Государыня нас посетила. Приехала она в маленьком шарабане, сама правила. Пришла весёлая и ласковая наверх в комнату, где я лежала, в белом платье и большой белой шляпе. Ей, видимо, доставляло удовольствие приехать запросто, не предупреждая. Вскоре после того мы уехали в деревню. В нашем отсутствии Императрица ещё раз приезжала к нам и оторопевшему курьеру, который открыл ей дверь, передала бутылку со святой водой из Сарова, поручив передать её нам.
Следующую зиму началась Японская война. Это ужасное событие, которое принесло столько горя и глубоко потрясло всю страну, отразилось на нашей семейной жизни разве тем, что сократилось количество балов, что не было приёмов при дворе и что мать заставила нас пройти курс сестёр милосердия. Для практики мы ездили перевязывать в Елизаветинскую общину. По инициативе Государыни в залах Зимнего Дворца открылся склад белья для раненых воинов. Мать моя заведовала отделом раздачи работ на дом, и мы помогали ей целыми днями. Императрица почти ежедневно приходила в склад; обойдя длинный ряд зал, где за бесчисленными столами трудились дамы, она садилась где-нибудь работать.
Императрица тогда была в ожидании Наследника. Помню её высокую фигуру в тёмном бархатном платье, опушенном мехом, скрадывавшем её полноту, и длинном жемчужном ожерелье. За её стулом стоял арап Jimmy в белой чалме и шитом платье; арап этот был одним из четырёх абиссинцев, которые дежурили у дверей покоев Их Величеств. Вся их обязанность состояла в том, чтобы открывать двери. Появление Jimmy в складе производило всеобщее волнение, так как оно возвещало прибытие Государыни. Абиссинцы эти были остатком придворного штата Двора времён Екатерины Великой.
Следующим летом родился Наследник. Государыня потом мне рассказывала, что из всех её детей это были самые лёгкие роды. Императрица едва успела подняться из маленького кабинета по витой лестнице к себе в спальню, как родился Наследник. Сколько было радости, несмотря на всю тяжесть войны; кажется, не было того, чего Государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Но почти с первых же дней родители заметили, что Алексей Николаевич унаследовал ужасную болезнь, гемофилию, которой страдали многие в семье Государыни; женщина не страдает этой болезнью, но она может передаваться от матери к сыну.
Вся жизнь маленького Наследника, красивого, ласкового ребёнка, была одним сплошным страданием, но вдвойне страдали родители, в особенности Государыня, которая не знала более покоя. Здоровье её сильно пошатнулось после всех переживаний войны, и у неё начались сильные сердечные припадки. Она бесконечно страдала, сознавая, что была невольной виновницей болезни сына. Дядя её, сын королевы Виктории, принц Леопольд, болел той же болезнью, маленький брат её умер от неё же, и также все сыновья её сестры, принцессы Прусской, страдали с детства кровоизлияниями.
Естественно, всё, что было доступно медицине, было сделано для Алексея Николаевича. Государыня кормила его с помощью кормилицы (так как сама не имела довольно молока), как кормила она и всех своих детей.
У Императрицы при детях была сперва няня-англичанка и три русские няни, её помощницы. С появлением Наследника она рассталась с англичанкой и назначила его няней вторую няню, М. Ив. Вишнякову. Императрица ежедневно сама купала Наследника и так много уделяла времени детской, что при Дворе стали говорить, что Императрица не царица, а только мать. Конечно, сначала не знали и не понимали серьёзного положения здоровья Наследника. Человек всегда надеется на лучшее будущее. Их Величества скрывали болезнь Алексея Николаевича от всех, кроме самых близких родственников и друзей, закрывая глаза на возрастающую непопулярность Государыни. Она бесконечно страдала и была больна, а о ней говорили, что она холодна, горда и неприветлива: таковой она осталась в глазах придворных и петербургского света даже тогда, когда все узнали о её горе.
II
В конце февраля 1905 года моя мать получила телеграмму от светлейшей княгини Голицыной, гофмейстерины Государыни, которая просила отпустить меня на дежурство – заменить больную свитскую фрейлину княжну Орбельяни. Я сейчас же отправилась с матерью в Царское Село. Квартиру мне дали в музее – небольшие мрачные комнаты, выходящие на церковь Знаменья. Будь квартира и более приветливой, всё же я с трудом могла побороть в себе чувство одиночества, находясь в первый раз в жизни вдали от родных, окружённая чуждой мне придворной атмосферой.
Кроме того, Двор был в трауре. 4 февраля был зверски убит Великий Князь Сергей Александрович, Московский генерал-губернатор. По слухам, его не любили в Москве, где началось серьёзное революционное движение, и Великому Князю грозила ежедневная опасность.