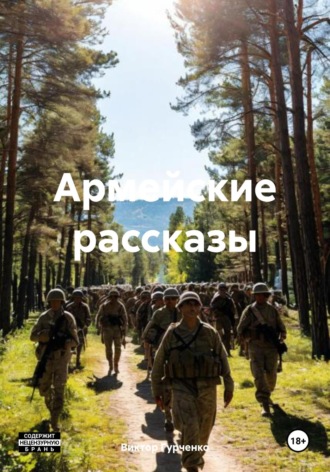
Полная версия
Армейские рассказы
– Э-э-э, мясо, готовьтесь, – звучит из строя развязное и лихое, – вешайтесь, духи… Давайте во вторую патрульную, мы вас ждём…
Мы провожаем взглядом колонну в серой форме, пока она вся до последнего солдата не исчезает в недрах тëмно-зелëного тента КамАЗа. Грузовики несколько раз фыркают моторами, выпуская из-под себя клубы чёрного едкого дыма, и по очереди уезжают с плаца в направлении КПП.
Вскоре на плацу остаются только наши две роты. Перед нами медленно расхаживает полковник Зайченко – заместитель командира бригады по боевой подготовке. Сухопарый и поджарый он громко и воодушевлённо напутствует нас перед первым полевым выходом.
– В ряды внутренних войск, – говорит полковник, умудряясь заглянуть в глаза каждому и всем одновременно, – попадают только лучшие из лучших! Вы все здесь не случайно! Вас призвала Родина охранять и защищать ваших матерей, сестёр, а у некоторых – жён и детей! Вскоре вы выйдете на улицы наших городов охранять покой и правопорядок! Вам всем повезло – наша бригада лучшая в стране, а в Гомеле живут самые красивые девушки! Так что, если у кого-то на гражданке осталась девушка, – полковник делает паузу и хитро улыбается, – можете про неё смело забывать! – по строю пробегает одобрительный ропот и робкие смешки, – а теперь я попрошу дружно произнести наш девиз!
Мы на мгновение замолкаем, над головами едва слышно разносится чьё-то «три-четыре», и обе роты отрепетировано и слаженно в едином порыве гремят гулким эхом:
– Никто, кроме нас! долг, честь, отечество! долг, честь, отечество! долг, честь, отечество!
Зайченко довольно кивает и вскидывает руку в воинском приветствии к тёмно-зелёному берету.
– Командиры взводов и отделений! – командным голосом, внезапно ставшим строгим и казённым, произносит полковник, – приготовить личный состав к полевому выходу! Вольно! – он резким движением обрывает руку и направляется к командирам рот, а мы разбиваемся на взводы и организованно возвращаемся в казарму. Там мы получаем оружие, противогазы, подсумки, наполняем фляги и вскоре снова стоим на плацу, растянувшись в одну длинную колонну. В голове камуфляжной цепи, дробно бряцающей закинутыми за спину автоматами, облачëнной в хищную, как говорит полковник Зайченко, форму одежды движутся прапорщик Андриянец и старший лейтенант Ракей. Оба гордо несут на своих макушках краповые береты и передвигаются, словно породистые лошади, пружинисто и нетерпеливо. До КПП идём походным шагом, но едва выйдя за ворота части, услужливо открытые для нас дежурными, слышим протяжное и зычное: «рота, бегом марш!». Две сотни тяжёлых армейских ботинок гулко ударяют по раскалённому асфальту, выбивая из него иссушëнную в пепел летнюю пыль.
– Раз, раз, раз-два-три! – протяжно заводит кричалку Ракей.
– РАЗ, РАЗ, РАЗ-ДВА-ТРИ! – хором повторяем мы.
– Раз, раз, раз-два-три!
– РАЗ, РАЗ, РАЗ-ДВА-ТРИ!
– Рано утром мы встаём!
– РАНО УТРОМ МЫ ВСТАЁМ!
– На зарядку мы идём!
– НА ЗАРЯДКУ МЫ ИДЁМ!
– Спортом занимаемся!
– СПОРТОМ ЗАНИМАЕМСЯ!
– Спецназом называемся!
– СПЕЦНАЗОМ НАЗЫВАЕМСЯ!
– Раз, раз, раз-два-три!
– РАЗ, РАЗ, РАЗ-ДВА-ТРИ!
Глупо, конечно, но от этой кричалки становится как-то легче и веселее, чувствую себя словно в американском кино про армию, где есть непременно кто-то толстый и неуклюжий, кто-то смешной и кто-то непроходимо тупой, всë прямо как у нас, только во Вьетнам после учебки мы не полетим, и никто не застрелится в туалете. Вскоре эйфория улетучивается, ноги наливаются свинцом и ватно болтаются под весом туго зашнурованных берцев, по лбу струйками стекает липкий горячий пот, лëгкие разрывают грудь, точно кузнечные меха в разгар работы. Смотрю себе под ноги, наблюдая, как пролетает мимо серый асфальт, побитый раковинами и чёрными трещинами, кое-где через него пробивается упрямая трава, одиноко торчащая под жарким солнцем. Ритмичным метрономом стучит по фляжке прикладом закинутый за спину автомат, и этот перестук будто задаёт ритм бегу, не даëт остановиться. Колонна растягивается на добрый километр, и сержанты подгоняют отстающих ободряющими выкриками. Вскоре асфальт заканчивается и марш продолжается по грунтовой дороге в жидкой лесополосе. Деревья здесь низкие и редкие и желанной тени не дают вовсе.
– Рота! – раздаëтся откуда-то спереди, – надеть противогазы!
Выхватываю из подсумка резиновую маску с большой металлической бабиной, вставляю большие пальцы во внутреннюю часть и растягиваю в стороны.
– Рапаны, увижу кто противогаз оттягивает и дышит – тому пизда! – орёт Шабалтас, обгоняя строй.
Натягиваю тугую плотную резину на голову и словно сквозь тухлую тряпку втягиваю затхлый воздух в лёгкие, которые горят и требуют больше. Выдыхаю. Клапан с влажным шлепком меняет положение на «выпуск». Окуляры мгновенно запотевают, а в уши зловещем шипением бьёт собственное дыхание. «Кххх, пшшш, кххх, пшшш», чувствую себя каким-то Дартом Вейдером. Вскоре пальцы начинает покалывать, а все мышцы просто кричат о нехватке кислорода, берцы шаркают о землю, уже по инерции влача за собой выжатое, словно жгут, тело. Перед глазами трясется дорога, затянутая густой пеленой, то ли на запотевших окулярах, то ли в глазах. Хочется сорвать с лица эту резиновую пытку и упасть в траву, отдышаться и напиться воды. Зачем я здесь, и по какому праву надо мной так издеваются? Хочется спрятаться, уйти в себя, в самый дальний уголок памяти. Невольно проваливаюсь в воспоминания. Мы с сестрой в бабушкином доме, в печке тихо гудит огонь, весело потрескивая смоляными дровами. Большой чёрно-белый телевизор тонко звенит нагретым кинескопом, и по единственному каналу показывают летящие самолёты и стреляющие танки, пыль пустыни и маленьких бегущих по песку солдатиков. Диктор рассказывает что-то напряжённым голосом, а бабушка вздыхает и говорит: «когда уже этого Хусаина поймают?» Мы смеёмся над смешным словом и у меня в ушах медным колоколом, в такт рваному дыханию и ухающему в горле сердцу чеканит сиплое: «ху-са-ин, ху-са-ин…». Я не выдерживаю, запускаю палец под плотную резину на подбородке и оттягиваю её в сторону. В лёгкие врывается поток свежего и сладкого воздуха. Дышу быстро и глубоко, после нескольких отчаянных вдохов выдергиваю палец, становится легче.
– Рота! – звучит будто сквозь туман, – снять противогазы!
Срываю ненавистную маску и смотрю по сторонам на ясную, прибавившую резкость картинку. Лица у товарищей красные, покрытые крупными каплями пота, отовсюду доносится яростное тяжëлое дыхание. Наспех заталкиваю противогаз обратно в подсумок. Получается криво, клапан сумки закрывается еле-еле. Бежим дальше. Перед глазами уже плывëт и трясëтся, одежда такая, словно я только что стоял в ней под душем.
На конечную точку маршрута прибегает, а точнее приплетается моë бессознательное туловище и безвольно падает в траву рядом с остальными сослуживцами. В голове пульсирует, зубы ломит, а сердце стучится в горле, вот-вот выскочит и укатится в ближайшие кусты, прочь от такого хозяина. Потихоньку начинаю возвращаться к жизни, отстëгиваю с пояса флягу и удивлённо смотрю на огромную вмятину на её жестяном боку. Это приклад автомата постарался. Делаю несколько глотков, в животе булькает и немного мутит. Дыхание начинает выравниваться. Я прибежал в последних рядах, поэтому вскоре звучит команда «рота! Построиться!»
Две сотни размокших и краснолицых, отупевших от жары и изнурительного марша новобранцев строятся на поляне по взводам и отделениям, сержанты проверяют личный состав, и мы расходимся по учебным точкам. Наш взвод вооружают короткими сапëрными лопатками, и сержанты отводят нас на небольшую поляну, недалеко от общего сбора.
– Ну что, за*бались? – спрашивает Козятников, важно заправив большие пальцы за ремень.
– Никак нет, товарищ младший сержант, – отвечаем мы разрозненно, но внятно.
– Самцы! – одобрительно кивает он, – а сейчас мы будем учиться копать окопы для стрельбы из положения лёжа, понятно, да?
– Так точно, товарищ младший сержант, – отвечаем без энтузиазма и воодушевления и разбредаемся по поляне в поисках подходящих мест для обустройства окопа для стрельбы из положения лёжа. Досконально изучив на теоретических занятиях устройство окопа теперь мы лихорадочно пытаемся вспомнить где, как и сколько нужно копать.
– Окопы копаем лёжа! – кричит сержант Граховский, наклонившись над Бандюком, который так и норовит встать на колени.
– В окопах не пердим, – раздаёт полезные советы Шабалтас, важно расхаживая между копошащимися в рыхлой земле подчинëнными, – по возможности дышим… Мельников! – вдруг вспыхивает сержант, – ещё раз на колено встанешь, будешь копать окоп для стрельбы из положения стоя, – на секунду задумывается, потом добавляет: – с лошади! – потом заразительно смеётся и идёт дальше.
– Взво-о-о-од! – хитро и протяжно восклицает Козятников и заговорщически переглядывается с Шабалтасом, – надеть противогазы!
По поляне прокатывается негодующий стон, и мы перекатываемся на бок, вытаскивая из тесных подсумков смятые противогазы. Копать в резиновой маске так же удобно, как и есть в ней, наугад подсекаю штыком лопаты податливую землю, с треском лопаются случайные корни и дробно стучат о сталь мелкие камушки. Краем запотевшего окуляра ловлю приклад своего калашникова, никогда не выпускать автомат из виду – первое правило солдата. Мах за махом накидываю рыхлую землю перед собой, образуя бруствер для стрельбы. Мокрая от пота одежда быстро покрывается коркой из песка и земли и мокрой тряпкой липнет к телу.
Шабалтас внимательно наблюдает за работой, расхаживая между нами, точно высматривает червей для рыбалки. Оглянувшись через плечо он делает широкий шаг в сторону и припадает на колено. Рядовой Авдеенко оставил автомат за спиной и не видит, как сержант подхватил его за цевьё, стрельнул по сторонам своими чёрными, будто подведëнными карандашом глазами и украдкой зашагал в сторону кустов.
– Взвод! – щурясь на полуденное солнце лениво тянет Козятников, – снять противогазы!
С облегчением срываем с голов эти орудия инквизиции и деловито, бросив лопаты, начинаем укладывать их в подсумок, когда к Авдеенко подбегает Шабалтас и, схватившись за голову, с круглыми от ужаса глазами кричит:
– Авдеенко! Ты что, автомат закопал? Где твоë оружие, воин!?
Солдат растерянно смотрит по сторонам, зачем-то охлопывает себя по карманам и начинает прощупывать траву вокруг окопа.
– Да ты его землёй закидал, рапан! – орëт сержант, – давай откапывай быстрее, пока песок в механизм не попал!
Авдеенко хватает лопату и вонзает её в земляной холмик.
– Ты что делаешь, трудный!? – Шабалтас выхватывает у него лопатку и отбрасывает в сторону, – разбить его захотел? Руками копай!
Солдат зарывается по локоть в рыхлую землю и начинает искать пропавший калашников.
– Давай помогу, – Шабалтас садится на корточки и ногой начинает сбрасывать землю обратно в окоп. Вскоре вся земля оказывается в яме, но автомат так и не найден.
– Ну что, Авдеенко, – усмехается Козятников, наблюдающий за паническим копошением солдата, – иди ротному докладывай, что автомат потерял.
– Ой бля-я-я, – хватается за голову Шабалтас, – это ж губа сразу, а может и под трибунал пойдёшь, – он заламывает берет на затылок и зарывается в волосы ладонью, – пи*дец тебе Авдеенко, – сержант вздыхает и, уперев руки в пояс, обречëнно мотает головой.
– Так я это… – бормочет солдат, – я же его сюда… – он судорожно вращает головой в надежде найти поддержку среди товарищей, – вот сюда положил…
Мы, лёжа в окопах, с сочувствием смотрим на него, но помочь ничем не можем, никто диверсию сержанта не видел из-за противогазов.
– Ладно, рапан, – Шабалтас сбрасывает с лица озадаченность и наконец даëт волю улыбке, – сегодня рулет мне из чипка принесëшь – отдам твой автомат.
– Так это вы его украли? – обиженно бормочет готовый заплакать Авдеенко.
– Запомни, дружок, – Шабалтас снисходительно улыбается, наклонившись к солдату, – в армии ничего не воруется и не теряется, в армии всë проë*ывается, вот и ты свой автомат прое*ал, понятно, да?
– Так точно, – Авдеенко опускает глаза и виновато топчется на месте.
– Так точно, – кривляет его Козятников, – а окоп кто копать будет, дядя Петя? Вперёд, военный, лопату в руки и пошëл!
Пока Авдеенко вновь копает окоп, мы заканчиваем работу, сержанты обходят наши траншеи и делают в журналах пометки, после чего мы отряхиваемся и располагаемся на привал в тени деревьев.
– Может на фишку кого-нибудь поставим? – предлагает Граховский, в ответ на что Шабалтас лениво отмахивается и устраивается у подножья толстого дуба.
– Ну что, рапаны, – с усмешкой спрашивает он, – удобно в противогазе бегать?
Мы хором отвечаем что-то нечленораздельное, но крайне неодобрительное.
– Понятное дело, – хмыкает он, – мы в своих клапаны в фильтрах вырезали, так дышать легче. Но вы только попробуйте, не дай бог замечу!
Тем временем заканчивает работу раскрасневшийся Авдеенко и, болтая лопаткой в ослабевшей руке, подходит к нам.
– Товарищ младший сержант, – подкинув ладонь к берету рапортует он Шабалтасу упавшим голосом, – рядовой Авдеенко обустройство окопа для стрельбы из положения лëжа закончил.
Сержант смотрит на циферблат больших наручных часов и разочарованно мотает головой.
– Не уложился, воин, – разводит руками Шабалтас, – Кардаков! – кивает он ближайшему солдату, – пробей ему лобанца в наказание.
– Я не буду, – внезапно упрямится грузный Кардаков, – это унижает достоинство человека.
– Ты что ох*ел? – оторопело смотрит на него Козятников, – по-твоему ударить ладошкой по лбу – унизительно? Вот электрического лося получить так, чтобы из тапок выскочить – это унизительно! Когда лаву пробивают, – он вытягивает ногу и показывает пальцем себе на бедро, – так, что неделю нормально ходить не можешь, вот это, бл*дь, унизительно! – Козятников распаляется, подходит к Кардакову и несколько раз бьёт его сомкнутыми пальцами по лбу, – больно!? – орёт он, – больно, я спрашиваю!?
– Нет, – мрачно отвечает солдат.
– Вот и не *би вола! С вами по-нормальному обращаемся, а вы тут «человеческое достоинство», – Козятников кривляет последнюю фразу и сплëвывает себе под ноги, – под роту попадёшь – будет тебе человеческое достоинство, – он возвращается на своë место и опускается в траву рядом с Шабалтасом, – вообще уже ох*ели, как будто по х*й уже всë, – бормочет он себе под нос и откидывается на спину, закинув руки за голову. На минуту повисает тишина, потом раздаётся назидательный голос Шабалтаса:
– Запоминайте, рапаны, – он опирается на локоть и, вырвав длинную травинку, принимается её жевать, – дедам в роте всë по х*й, и только они могут так говорить, черпакам всë до пи*ды, а молодняку всë равно, а вам сейчас ещё даже не всë равно, понятно, да?
– А если случайно сказать «мне по х*й»? – спрашивает Тарасевич, – ну, там, во время работы или забудешь просто.
– Пиз*ец тогда всему призыву, – отвечает Шабалтас, – ну это если черпаки услышат, а если дед услышит, то пиздец ещё и среднему призыву.
– А в какую роту лучше идти? – доносится вопрос с другой стороны.
– В патрульную конечно, – удивлённо хмыкает Шабалтас.
– Патруль – отстой, – бормочет из-под берета, накинутого на лицо, Козятников, – идите в стрелковую, вот где служба.
– Ой, бля! – смеётся Шабалтас, – ну и что у вас за служба? Зеков в автозаках возить?
– Пфф! – презрительно фыркает Козятников и привстаëт на локтях, – мы зато постоянно на стрельбы ездим, в полевые выходы. Ты вообще, хоть из чего-нибудь, кроме калаша на КМБ, стрелял?
– Из ПээМа стрелял, – как-то неуверенно отвечает Шабалтас.
– Может из ПээРа? – смеётся Козятников, и поляна взрывается от смеха. Служим мы ещё недолго, но то, что ПМ – это пистолет Макарова, а ПР – палка резиновая мы уже знаем. Шабалтас не обижается и смеётся громче всех.
– У нас зато у половины роты в Мозыре значок «за 50 боевых задач» есть, – парирует он.
– Это называется «пятьдесят раз сходил мороженое поел», – не унимается Козятников. Снова раздаётся смех, – а мы недавно Пономаря конвоировали, – внезапно меняет тему он.
– Того самого? – подхватывает Шабалтас, с облегчением переводя разговор в другое русло.
– Да, восьмёрку строгача влепили, – отвечает Козятников, – жалко пацана, конечно.
– Вот, рапаны, – поднимает палец вверх Шабалтас, – слушайте, как не надо в отпуске себя вести. Служил, короче, в Светлогорске в отдельной роте чувак по фамилии Пономарь, и пошёл он, значит, в отпуск…
– А когда ты идëшь в отпуск, – перебивает его Козятников, – тебе нельзя за руль, нельзя купаться, нельзя бухать, ты собственность государства.
– Бухать нельзя?! – доносится возмущëнное откуда-то с краю поляны.
– Кому там, бл*дь, бухать не терпится? – Шабалтас выворачивает голову назад, высматривая возмутителя спокойствия, но возглас уже растворился в зелёной камуфляжной массе, – да, – продолжает он, – бухать нельзя. А вот Пономарь, как раз, и пошёл бухать с друзьями, и девку свою с собой взял. Ну, в общем, бухали они, бухали, и решил он бабу эту отодрать. А она и не против была. Короче, он её оттарабанил, потом ещё кто-то, и ещё… В общем по кругу пустили. Но её никто не насиловал, всë по согласию. А потом все конкретно накидались, и стало им скучно. И решили они снять кино на телефон. И сняли, – Шабалтас довольно улыбается и окидывает взглядом притихший взвод, после чего продолжает: – и на этом история могла бы и закончится, но кино это пошло по городу гулять с телефона на телефон по блютузу, понятно, да? И дошло до мамки этой бабы. И у мамки возникли некоторые вопросы к сценарию. Короче, сказала эта баба, что её изнасиловали, и даже, говорят, заплакала. Написали они, значит, заяву в ментовку, ну и тут закрутилось. Пономарь к этому времени уже на дембель ушёл, но его задним числом под трибунал отправили и стали судить. А баба эта его любила, оказывается, и когда поняла, что ему пи*да, заявление забрала и сказала, что всë было по согласию.
– И что, отпустили? – спрашивает кто-то.
– Ага, – усмехается Козятников, – аж два раза. Там несовершеннолетние были на хате, и Пономаря по двум статьям: изготовление и распространение порнухи и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Итог – восемь лет строгого режима. А баба эта, говорят, повесилась.
– Да ничего она не повесилась! – возмущается Шабалтас, – она сейчас встречается с черпаком из той же части.
– Может и так, – легко соглашается Козятников, – а вот про него нам рассказывали, что на зоне его уже опустили, он же по статье нехорошей пошёл…
Мы замолкаем и перевариваем информацию. Сержанты, довольные произведённым эффектом, улыбаются и окидывают нас взглядом.
– Вот так, – подводит итог Шабалтас, – жизнь себе сломал, восемь лет коту под хвост.
– Ну чего коту под хвост? – философски возражает Козятников, – в тюрьме тоже люди живут, чем-то занимаются, даже интересно, свой мир особенный.
– Так иди, вон, Андриянца *бани из калаша, – смеётся Шабалтас, – и узнаешь, что там за мир.
Их беседа резко обрывается воинственными криками, разразившимися из ближайших кустов и шквалом шишек, вдруг вылетевшими оттуда в нашу сторону.
– ГРАНАТА! – вразнобой, на все лады, многоголосо доносится из зарослей, и мы подвергаемся обстрелу маленькими коричневыми снарядами.
– Взвод! К бою! – орëт Козятников и одним движением скидывает с плеча автомат.
– Занять оборону! – подхватывает Шабалтас, – по кустам огонь!
– Мы хватаем автоматы и вскакиваем на ноги. Брызнув в рассыпную начинаем активно отстреливаться, становиться весело и задорно. Из зарослей выскакивает младший сержант Пикас с двумя автоматами наперевес и начинает поливать нас огнём от бедра. Он перемещается боком по-крабьи, пули свистят мимо него, не причиняя урона. Точно Рэмбо он врывается в наши ряды и начинает стрелять налево и направо.
– Убит! Убит! – кричит Пикас, направляя оружие то в одного, то в другого солдата.
– Довгалëв! – кричит Шабалтас, – у тебя что, глушитель на стволе!? Не слышу выстрелов!
– Ту-ду-ду-ду, – частит Довгалëв, сотрясая автомат в воздухе.
– Поднимаемся в атаку! – кричит Козятников и, схватив калашников за цевьё, бежит в сторону кустов.
– Давайте, рапаны, вперёд на мины! – подбадривает Шабалтас, и тут ему в спину бьёт осколок фугаса в виде комка из слежавшегося мха, каких-то веток и птичьего помёта. Сержант вскидывает руки к небу и медленно начинает оседать на колени.
– Командира ранили! – перекрикивая воображаемую канонаду орёт Граховский, – выносите его с поля боя!
Мы подхватываем обмякшего Шабалтаса под руки и тащим подальше от наступающего противника. Он теряет сознание и безвольно волочится ботинками по траве, становится таким тяжёлым, что третьему товарищу приходится поднимать его ноги и бежать вслед за нами. Из лесного массива, тем временем, вслед за бравым Пикасом, который следит, чтобы убитые оставались мёртвыми, выскакивает весь третий взвод и теснит нас к краю поляны.
– Пленных не брать! – во всю глотку кричит сержант Кузнец и даëт в воздух длинную очередь.
– Военные! – врывается в шум боя пронзительный голос прапорщика Андриянца, – вы что тут, ë*нулись совсем!? Что за война здесь у вас!?
Несколько пуль с пронзительным гудением рассекают воздух возле прапорщика и лопаются у него за спиной, словно мыльные пузыри, грохот автоматов пропадает, а убитые тела павших товарищей быстро оживают и обретают подвижность.
Козятников вытягивается в стойке «смирно», подкидывает ладонь к виску и делает один строевой шаг в направлении Андриянца.
– Товарищ прапорщик, – рапортует он скороговоркой, – учебное занятие по обустройству окопов для стрельбы из положения лëжа проведено, замечаний, нареканий нет.
– Вольно, – отвечает Андриянец, – первый взвод, – он кивает себе за спину, – на стрельбы, третий – на окопы.
– Есть на окопы! – звучит мгновенный ответ Пикаса.
Мы отдаëм лопатки третьему взводу и строимся в шеренгу на краю поляны. Через пять минут мы уже на главной площадке, нам выдают по три холостых патрона, и мы корявыми неумелыми движениями вщëлкиваем их в рожок.
– Повторяю для филинов, – Шабалтас расхаживает перед нами с автоматом в руках, – затвор обратно не сопровождаем, делаем вот так, – он оттягивает затвор до упора и резко отводит руку в сторону. Автомат клацает, и сержант упирает приклад себе в плечо, – стреляем вот в таком положении, е*альником в крышку ствольной коробки не лезем, понятно, да?
– Так точно, – отвечаем мы.
– Вызываю по одному, свой автомат оставляем товарищу, берём только рожок с патронами, понятно, да?
Начинаем по одному подходить к стенду для стрельбы. Выстрелы просто оглушительные. Каждый стреляет три раза и возвращается в строй.
Слышу свою фамилию, скидываю с плеча ремень и передаю автомат следующему за мной.
– Автомат боевой, незаряженный, личный номер пятьсот сорок семь шестьдесят, – сопровождаю я передачу оружия в чужие руки и шагаю к офицеру.
– Рот приоткрой перед выстрелом, – советует он, – меньше по ушам ударит.
Мой первый выстрел из автомата. В уши гулко бьёт звуковая волна, звук от выстрела облетает стрельбище, цепляется за редкие кусты и тонким писком возвращается внутрь черепной коробки. Второй выстрел, третий… На большом белом листе бумаги чернеют рваные дыры от вырвавшихся газов. Поднимаюсь на ноги и рапортую:
– Товарищ старший лейтенант, рядовой Гурченко стрельбу закончил, – отщëлкиваю пустой рожок и возвращаю автомат.
– Стать в строй, – устало отвечает офицер.
Забираю свой автомат, на всякий случай проверяю личный номер, кто его знает, какие ещё фокусы есть в рукаве у сержантов, занимаю место позади строя. Ещё несколько минут воздух вздрагивает от грохота выстрелов, эхо от них улетает, просачивается меж стволов глубже в лес, бродит там неприкаянное и снова сухим тихим треском возвращается на стрельбище.
Когда все занятия выполнены, патроны тоже отстрелены, тишина в холодильнике… Ой, о чем это я? Да, офицеры на дачу, конечно, не смылись, но разом куда-то пропали, и мы обеими ротами остались на огромной лысой поляне, покрытой какой-то жёлтой, совсем не по-летнему жухлой травой. Сержанты милосердно располагают нас в тени деревьев и даже позволяют сидеть.
Сержанты Пикас и Граховский выходят на центр поляны и, раскрыв каждый журнал своего взвода, наугад тыкают пальцами в список. Вскоре перед ними стоит шестеро солдат.
– Надеть противогаз-з-з-ы! – цедит сквозь зубы приосанившийся Граховский. Пикас, самый старший из сержантов, ему уже двадцать семь, хлëстко захлопывает журнал и командует:
– Лечь! Да не так! По трое ложитесь! Вот так!
Сержанты укладывают солдат в два штабеля, и сами ложатся поперёк их спин.









