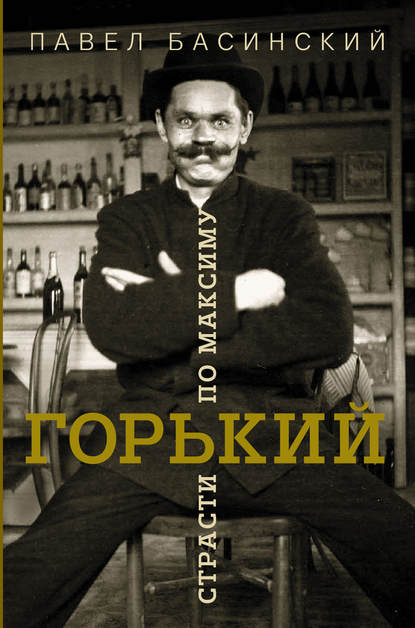Полная версия
Скрещение судеб
Запомнился чей-то рассказ о том, как Марина Ивановна в Париже приехала к друзьям на дачу. Было очень много народу. Пили в саду чай. Марина Ивановна села за стол с незнакомой женщиной и стала ей говорить о стихах, об искусстве, о вечной трагедии жизни и так увлеклась, что проговорила с ней все время до отъезда в город, не заметив даже, что та ничего не понимает, ибо почти не знает русского языка!.. А уходя, Марина Ивановна сказала хозяйке дома, что давно у нее не было такого внимательного слушателя…
Диалог – в диалоге она, казалось, не могла уместиться, он был ей тесен, она выплескивалась из его рамок и невольно переходила на монолог. Она не навязывала его, это получалось естественно, само собой, как только у нее появлялся благодарный слушатель. И потом, с кем она могла вести диалог? Кто был ей по росту – разве что Пастернак. Но и он тоже «грешил» монологом, и монолог его тоже был трудным. И он тоже перескакивал с одного на другое, перебивал себя, захлебывался словами. Вспоминал вдруг о чем-то, что, казалось бы, не имело ни малейшего отношения к разговору, а потом столь же внезапно возвращался к начатому, и ты понимал, что это неспроста… А то вдруг начинал бормотать что-то невнятное и вовсе замолкал на середине фразы, мысленно, должно быть, продолжая ее и не замечая, что молчит. И отнюдь не легко было следить за сложным логическим ходом его мысли. Но он завораживал своим «органным гундосеньем», протяженностью слова, звучанием которого упивался, и тянул его нарочито медленно, как густой нектар. Раскачивая фразу и как бы кружа, повторялся, пытаясь втолковать тебе что-то, ободрял ласковой виноватой улыбкой, словно бы прося извинить его, что он вот такой… И, не отпуская взглядом своих удивительных, почти нечеловечески бездонно-темных глаз, увлекал за собой в свои тоже немыслимые выси… И ты льстил себя надеждой, что поднимаешься за ним и паришь где-то если не рядом, не вместе, то, во всяком случае, на какой-то там высоте…
Марина Ивановна отрывалась внезапно, не обращая на тебя ни малейшего внимания, и с такой реактивной быстротой и на такую космическую высоту, что даже и обольщаться не приходилось.
«Эти Эвересты чувств (всегда Эвересты по выси, Этны и Везувии по накалу), – записала в своей тетради Ариадна Эфрон. – Воздух ее чувств был раскален и разрежен, она не понимала, что дышать им нельзя – только раз хлебнуть! Всех обитателей долин ощущала альпинистами. Не понимала человеческого утомления от высоты, у людей от нее делалась горная болезнь…»
Не знаю, была ли это горная болезнь – туте́к, как говорят памирцы, – знаю только, что после встречи с Мариной Ивановной, всегда безмерно интересной и желанной, чувствовалась такая усталость, как после тяжелой физической работы. Я старалась, конечно, это скрыть и втайне утешалась лишь тем, что я не одинока и что даже сам Борис Леонидович…
Это было еще до нашего знакомства с Мариной Ивановной; как-то зимой сорокового мы неожиданно столкнулись с ним у Никитских ворот. Он шел с Тверского бульвара, где во флигеле во дворе знаменитого Герценовского дома, в котором тогда уже помещался Литературный институт, жили его первая жена – художница Женя Лурье-Пастернак и сын, тоже Женя. Борис Леонидович навещал их и возвращался домой, к себе в Лаврушинский. Разговор почему-то зашел о Цветаевой, и он сказал, не мне, конечно, а Тарасенкову – я всегда только присутствовала, – что на днях виделся с Мариной Ивановной. Я записала в тетради: «Она избегает бывать у него дома, она почему-то недолюбливает З.Н.[1], хотя З.Н. и отличная женщина, но она ее не любит, как и вообще она не любит жен… Она позвонила по телефону. Он зашел за ней, и они до полуночи пробродили по тихим московским переулочкам. Она ночевала в Мерзляковском у сестры мужа, и они ходили вокруг Поварской, по Скатертному, Хлебному, Трубниковскому. Был сильный мороз, и он чуть не отморозил себе уши, и потом он зверски устал. Он всегда устает от Марины… И тут же, как бы спохватившись, с виноватой улыбкой добавил: впрочем, конечно, как и она от него. Они оба устают друг от друга, они, как два медведя в одной берлоге, наступают друг другу на лапы. Им нужно пространство… В письмах у них как-то лучше получалось!..
Она удивительный поэт, необычайной силы поэт, но она и в жизни живет преувеличениями: у нее и керосинка пылает Зигфридовым пламенем, так нельзя! Так можно устроить пожар, загорится дом… И потом еще, что касается духовной области – она привержена абсолютной монархии и монархом признает исключительно себя! – Я вас с ней познакомлю, обязательно познакомлю, – говорил Б.Л. Тарасенкову. – Вы обязательно должны с ней познакомиться. Я ей уже говорил о вас, но она живет в Голицыне, где-то там снимает комнату. Ей в Москве негде жить. Она иногда ночует в Мерзляковском, но там каютка не больше, чем на волжском пароходе! Она писала Фадееву, но он отмахнулся, он не захотел ей помочь…»
Мы стояли у памятника Тимирязеву. Тогда вдоль бульвара проносилась «Аннушка», отчаянно звеня, сгоняя с рельсов зазевавшихся пешеходов. И через площадь, мимо нас, от Восстания, от Кудринской площади, к Манежу, по Большой Никитской, по Герцена, шли трамваи: 1, 16, 22.
Далее у меня записано: «Сыпал снег, над головами носились потревоженные галки. Б.Л. сказал, глядя на памятник Тимирязеву, что, должно быть, неуютно стоять вот так, каменным пеналом, посреди площади, на ветру, и галки садятся тебе на темя, здесь почему-то всегда много галок… Но, впрочем, ему с Мариной это не угрожает, им памятниками не стоять…
Он был грустен, хотя и уверял, что счастлив, как только может быть счастлив человек, окончивший работу. Он окончил, уже совсем окончил “Гамлета”. И ему очень хотелось бы написать о “Гамлете” и о Шекспире вообще и о разных переводах “Гамлета”. О “Гамлете” Лозинского, “Гамлете” Радловой, “Гамлете” его. Он столько передумал, пока переводил. Но кто будет печатать? Для кого писать? Когда у нас одним разрешено думать, другим – рифмовать…
И на возражения Тарасенкова, что писать надо, обязательно надо, все равно надо, будут или не будут печатать, и почему он думает, что не будут, Б.Л. отвечал как-то вяло, рассеянно, казалось, думал о другом и потом вдруг сказал:
– А знаете, кому первому я хотел позвонить, когда окончил “Гамлета”, – Всеволоду Эмильевичу!
Но тут же перебил себя, заметив, что он, кажется, повторяется, что, кажется, уже рассказывал Тарасенкову, что Мейерхольд давно, когда у него еще не отобрали театр, уговаривал его перевести “Гамлета”, он хотел ставить “Гамлета” именно в его, Пастернака, переводе…»
Затем разговор соскользнул на Райх. Борис Леонидович заговорил о страшной ее кончине. Вначале по Москве разнесся слух, что она тоже арестована, но чуть позже стало известно, что ее зверски убили. Вскоре после ареста Мейерхольда она была убита ночью в своей спальне. Ей было нанесено чуть не пятнадцать ножевых ран. Ограбления не произошло: кольца, золотые часы, браслеты, как она сняла, положила на столик рядом с кроватью, так и остались лежать. Из дома ничего не пропало. Одни утверждали, что это домработница, которую нашли с проломленной головой в коридоре, спугнула воров; другие давали понять, что Райх могли просто убрать… Ее надо было убрать: западная пресса была взволнована арестом Мейерхольда, к Райх звонили иностранные корреспонденты, звонили из посольств… Конечно, был и более простой способ убрать ее, но к каким только способам тогда не прибегали… Что думал по этому поводу Борис Леонидович, не знаю, осторожность была ему не присуща, он и не о таком еще мог говорить, но у меня только записано: «…Как страшно обошлись с этой семьей, – сказал Б.Л., – какая чудовищная несправедливость! Какая трагическая судьба обоих!» И он напомнил, что Мейерхольд любил говорить: «Вы плохо знаете Шекспира! Читайте внимательно Шекспира!..»
Мы стояли у памятника Тимирязеву, шел снег, черная каракулевая шапочка «пирожком» на голове Б.Л. побелела, плечи, черный каракулевый воротник его зимнего пальто были засыпаны снегом. Лицо его было мрачным. И когда он говорил, уголки его большого и четко очерченного рта горестно опускались книзу. По щекам ходили желваки».
И еще есть запись: «Я сказала – пронесся слух, что все же напали на след убийцы Зинаиды Райх. Что арестована домработница, та самая, которую нашли без сознания в коридоре, ее подозревают в соучастии в убийстве. Б.Л. почему-то стал горячиться, говорить, что, конечно, всегда во всем виноват стрелочник. Люди не любят неясности, и в конце обязательно должна стоять точка, и уж во всяком случае не многоточие! И он произнес целый монолог о том, что человеку неведома его судьба и что вот эта самая несчастная домработница, простая деревенская женщина, ну поступи она работать в какую-нибудь другую семью, и все бы в ее жизни могло сложиться нормально, так нет, ей надо было войти именно в дом Мейерхольда… Какая роковая связь судеб!..»
Записывала я тогда все чисто механически, не вникая особенно в суть дела. Я была слишком занята своей жизнью и не понимала и не могла понять происходящего.
«Лет мне было еще совсем немного, и все меня за это любили, так что жила я радостно и на все грозное лишь дивилась», – это сказала Аля о себе – той, до ареста, а в общем-то, и о нас, которые вот так же, как и я, как и она, на все грозное лишь дивились! Правда, Але пришлось постичь смысл происходящего на себе самой, меня Господь миловал…
И вот прошло много, очень много лет, и странным образом снова возник разговор об этой никогда мной не виденной домработнице Мейерхольда. Но разговор на этот раз происходил уже не с Борисом Леонидовичем, а с Алей. Это было в 1957 году. Я тогда жила уже в Лаврушинском. Тарасенкова уже не было. И Аля часто к нам заходила, она умела вытягивать людей из беды, а я была в беде… И вот как-то зимой, будучи у Бориса Леонидовича в Лаврушинском, она после него забежала ко мне. Зашел разговор о Борисе Леонидовиче, о Марине Ивановне, и я вспомнила ту встречу у памятника Тимирязеву. Достав тетрадь, стала расшифровывать свои записи и, дойдя до последних строк, сказала, что здесь уже что-то невнятное о какой-то домработнице Мейерхольда. Но Аля попросила все же прочитать, и, когда я прочла, она, как-то странно усмехнувшись, сказала:
– А хотите, я вам расскажу, что было дальше с Лидией Анисимовной?
– С какой Лидией Анисимовной? – спросила я.
– С этой самой домработницей Всеволода Эмильевича, ее звали Лидией Анисимовной.
И с присущим ей юмором, прикрываясь им, как щитом, Аля рассказала, как в то самое время, когда мы стояли с Борисом Леонидовичем у памятника Тимирязеву, она сидела на Лубянке в одной камере с Лидией Анисимовной. И как Лидия Анисимовна, немолодая уже, грузная, обритая наголо в больнице, входя в камеру после допросов и опускаясь на койку, недоуменно разводила руками:
– Так чего же они хочут от меня, никак в толк не возьму, я ж им кажную ночь долблю! Откуда ж знать мне, об чем Всеволод Эмильевич и Зинаида Николаевна разговор вели? Я ж им только кушать на стол подам и на кухню пойду, я ж им только кушать на стол подавала!..
И Аля, закончив рассказ о Лидии Анисимовне и отвернувшись от меня и глядя на книги в шкафу, сказала:
– Да нет, это был совсем не Шекспир, это было страшнее Шекспира, это была просто жизнь… Думаю, Всеволод Эмильевич это понял…
Но тогда, в 1940 году, зимой, я про Алю еще ничего не знала, и у памятника Тимирязеву, где мы стояли с Борисом Леонидовичем, разговора о ней не было. О Марине Ивановне он еще тогда промолвил:
– Зря она приехала, не ко времени получилось… А когда было бы ко времени?!.
И еще я записала – он сказал, что надо было ему уговорить ее там, в Париже, в тридцать пятом… Но он был болен, у него было отвратное самочувствие. И потом, откуда кто знает… Мечтала о большой аудитории, о большом читателе! Теперь носит передачи, как все, как очень многие, и стихов больше не пишет…
Расстояния, версты, мили…
Сначала были стихи. Стихи стояли на полках, в ярких ситцевых переплетах, перепечатанные на машинке, переписанные от руки. Подлинных книг Марины Ивановны было не так уж много у Тарасенкова. Главное богатство – это перепечатки, выдирки из эмигрантских журналов, тоже переплетенные в книги, одетые в ситцы. Самиздат – тогда этого слова еще не было, оно появится в нашей стране в шестидесятые годы, а еще шли только сороковые… С легкой руки Твардовского говорили: «Тарасиздат». Стихи ходили по Москве, Тарасенков не скупился. Книгу с полки – никогда никому. Стихи – перестукать на машинке – своей не было, подобная роскошь в те годы была доступна не каждому литератору, но можно остаться в редакции после работы, перепечатать на казенной или переписать от руки хоть цикл, хоть поэму – целый вечер потратить!
Но откуда здесь, в Москве, в конце тридцатых годов эти рукописные книги нигде никогда не появлявшихся в советской печати стихов, да и в эмигрантской разве что промелькнувших в газете или в тонком, недолговечном журнале?
Она писала в каких-то далеких, неведомых Вшенорах, Медоне, Кламаре, а стихи ее ходили по Москве, передавались из рук в руки, читались… Она заканчивает поэму «Крысолов» в ноябре 1925 года в Париже, на rue Rouvet, а не проходит еще и года, в августе 1926 года в Москве Семен Кирсанов пишет своему другу: «По мнению Асеева, Пастернака, моему и других, это лучшее, что написано за лет пять. “Поэма Конца” – нечто совершенно гениальное, прости за восторженность! “Крысолов” – верх возможного мастерства…»
Стихи текли в Россию!
Рас-стояние: версты, мили…Нас рас-ставили, рас-садили,Чтобы тихо себя велиПо двум разным концам земли.Рас-стояние: версты, дали…Нас расклеили, распаяли,В две руки развели, распяв,И не знали, что это – сплавВдохновений и сухожилий…Не рассо́рили – рассори́ли,Расслоили…Стена да ров.Расселили нас, как орлов –Заговорщиков версты, дали…Не расстроили – растеряли.По трущобам земных широтРассовали нас, как сирот.Который уж – ну который – март?!Разбили нас – как колоду карт!Стихи везли Эренбург, Екатерина Павловна Пешкова, знакомые, знакомые знакомых, незнакомые знакомых. Стихи заучивались, запоминались с лёта, пересказывались, переписывались, перевирались слова, строфы, особая, цветаевская, пунктуация. Утаивались подлинники, и зачастую до адресата доходили только перепечатки с перепечаток.
«Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинания…» – писал Борис Леонидович о «Поэме Конца». А собственно говоря, он-то и был главным адресатом в России, в Москве. Ему Марина Ивановна стремилась переслать, переправить все, что выходило из-под ее пера, его мнением она дорожила. «Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда напишу, – о тебе…»
В 1922 году, когда она уехала в эмиграцию, Борис Леонидович открыл ее для себя как поэта. И писал ей вдогонку:
«Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны (Скрябиной), я не знал, с кем рядом иду?..
…Как могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся…
…Как странно и глупо кроится жизнь!..»
А может, в конечном счете и не так уж странно и глупо! У жизни свои законы, своя логика, она пишет сценарий, не согласовывая с нами. И может быть, так именно и должно было случиться, и эти самые расстояния, версты, мили… и привели к тому, что завязался их удивительный и столь высоковольтный по своему напряжению роман в письмах, ставший теперь, когда обоих уже нет, тоже явлением литературы.
К сожалению, не все письма сохранились, пропала часть писем Марины Ивановны к Борису Леонидовичу. Москва хорошо помнит эту историю с пропажей, о которой Борис Леонидович всем рассказывал. Он боялся, когда началась война, что письма могут сгореть на даче или их разбомбит в Лаврушинском, в Москве. А нам он еще говорил, что боялся Крученых, который вечно у него вымаливал, выманивал почитать и тут же без спросу переписывал, а он не всегда мог устоять, и у него не всегда хватало духу отказать. И он отдал эти письма на хранение одной женщине, которой вполне доверял. И письма пропали…
Но может быть, они все же не исчезли безвозвратно, может быть, наступит и их черед? Ведь были же мы уверены, что письма Рильке к Марине Ивановне пропали. Аля не обнаружила их в архиве матери, хранившемся в комнате тетки, в сундуке, на котором та спала, в котором долгие годы, пока Али не было в Москве, хранилось все, что осталось от Марины Ивановны.
Эта пачка писем, туго перевязанная крест-накрест, лежала в чемоданчике Марины Ивановны у нас на Конюшках, а потом во время бомбежек она его унесла… И вот прошло более тридцати лет, и вдруг письма к Рильке появляются в печати, не пропали, целы! А останься они лежать на Конюшках или в сундуке Елизаветы Яковлевны – увидели бы мы их напечатанными? Читали бы? Ведь Аля заперла бы их вместе со всем архивом в ЦГАЛИ до 2000 года.
У рукописей, у писем своя судьба, как и у книг.
…Тогда, в двадцатых годах, Борис Леонидович напечатал стихи Марины Ивановны в Москве в журнале «Русский современник». Читал публично с эстрады на своих творческих вечерах, на вечерах поэзии.
– Я вам сейчас лучше прочту стихи замечательного русского поэта Марины Цветаевой! Вы получите неимоверное наслаждение, гораздо большее, чем от моих собственных стихов, я клянусь вам в этом, они мне самому доставляют столько радости, что я не могу быть скопидомом, я не могу, не имею права их утаить, я должен поделиться с вами…
Борис Леонидович говорил долго, путано и, наконец, начинал читать.
Мне это рассказывал мой приятель, который в те годы не пропускал ни одного вечера, где выступал Пастернак, и утверждал, что стихи Марины Ивановны затмевали стихи поэтов – участников вечеров, и в это легко можно поверить.
«Между прочим, я Ваши тут читал. “Цветаеву, Цветаеву!” – кричала аудитория, требуя продолжения…» – писал Борис Леонидович Марине Ивановне в Чехию в 1924 году, а в 1926-м – в Париж: «Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами, – качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, микельанджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется Поэма Конца…»
Тогда, в двадцатых годах, Борис Леонидович считал, что для Марины Ивановны пагубен отрыв от России, что ей надо немедля вернуться назад.
«Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, еще Геркулесово дело. Но оно и единственное, других я не знаю…» – писал он ей. А своей знакомой Раисе Ломоносовой, прося помочь Марине Ивановне, представлял ее так: «Она самый большой и передовой из живых наших поэтов, состоянье ее в эмиграции – фатальная и пока непоправимая случайность…» Писал он об этом и Горькому в Сорренто. А пока не было возможности вернуть Цветаеву самоё, он старался вернуть в Россию ее стихи. Когда же наконец Марина Ивановна вернется, – он скажет, что не ко времени это…
Но ведь между двадцатыми годами и сороковыми пролегла целая эпоха!.. И можно только удивляться, что даже и в те годы стихи Марины Ивановны все же доходили до Москвы.
В двадцатых годах, особенно в середине двадцатых, Марина Ивановна пишет много стихов. Это был какой-то удивительный всплеск. Она создает: «Поэму Горы», «Поэму Конца», «Поэму Лестницы», «Попытку ревности», «Крысолова» и столько стихов!
И все они, почти все, стоят на полке у Тарасенкова, и я полностью еще даже и не могу осознать, каким богатством владею… И книги ее: «Царь-Девица», «Молодец» – ее былинные поэмы, такие русские, народные и по сказу своему, и по разговорному русскому языку, услышанному, видно, где-то в очередях за хлебом в голодной Москве, в первые годы после революции…
В тридцатых стихов она пишет куда меньше – идет проза! Одно прозаическое произведение сменяет другое – это и эссе, и рассказы, очерки-портреты, и воспоминания. И сколь удивительна ее проза по своей лаконичности, яркой изобразительности, по отточенности каждой фразы. У нее фраза – формула!
«История одного посвящения» – о Мандельштаме, «Пленный дух» – об Андрее Белом, «Живое о живом» – о Волошине, «Мать и музыка». А «Мой Пушкин»! А «Дом у Старого Пимена», который будет мною читан-перечитан! «Конец Казановы» – пьеса, сколько раз ее будет читать Тарасенков вслух друзьям, и как мастерски читать. И античные трагедии – «Федра», «Ариадна», – и многое, многое другое, что предстоит еще узнать. А ее блистательные статьи «Искусство при свете совести», «Поэт и время» – до понимания их еще нужно будет дорасти, по крайней мере, мне!..
Видно, все же прозаическим произведениям было сложнее доходить до Москвы, чем стихам, и тогда мало, очень мало что еще было у Тарасенкова, а стало быть, и у других, ибо все, что было у других, обязательно было и у него! И когда мы встречаемся с Мариной Ивановной – она для нас только поэт!
В тридцатые годы там, в Париже, она, помимо прозы, конечно же, пишет и стихи, не так много, как раньше, но пишет прекрасные (цветаевские!) стихи.
Тоска по родине!.. ДавноРазоблаченная морока!Мне совершенно все равно –Где совершенно одинокойБыть, по каким камням домойБрести с кошелкою базарнойВ дом, и не знающий, что – мой,Как госпиталь или казарма.………………………………………………………..Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,И всё – равно, и всё – едино.Но если по дороге – кустВстает, особенно – рябина…И стихи на смерть Маяковского:И полушки не поставишьНа такого главаря.Лодка-то твоя, товарищ,Из какого словаря?И далее в этом стихотворении, там, где Маяковский встречается с Есениным на том свете, в их разговоре поминается о расстрелянном Гумилеве: «В кровавой рогоже, На полной подводе…» А имя Гумилева в те годы у нас не произносилось… Запрещено было! Как не жил на свете…
И эти стихи доходят, и стоят на полке у Тарасенкова. Правда, не помню, чтобы он их для кого-либо перепечатывал. Читать – читал, но только друзьям.
Стихи преодолевают все препоны, заграждения, воздвигнутые на их пути сталинским режимом. Видно, для слова не существует преград, а русская интеллигенция неисправима… И хотя к той поре давно уже заглох роман Марины Ивановны с Борисом Леонидовичем, и переписка их ведется от случая к случаю, и давно исчезли знакомые и знакомые знакомых, что в двадцатых годах свободно ездили за рубеж, а те, кто уцелел, давно никуда не ездят; и хотя любая связь с эмиграцией, даже и такая непрямая, из третьих, из четвертых рук, может при желании квалифицироваться как государственная измена, а стихи все же приходят, с опозданием, редко, но приходят и оседают в столах у любителей поэзии, у поэтов и в ситцевых тетрадях на полках у Тарасенкова в ожидании, когда «Моим стихам… настанет свой черед».
И черед настает, и очень скоро – в сороковом, когда Марина Ивановна появится в Москве. Тогда и заговорят эти тарасенковские тетради, и из них будут переписываться, перепечатываться ее стихи. У других любителей цветаевской поэзии стихи разных лет затеряются на отдельных листках в ящиках необъемных столов. А у Тарасенкова все подобрано по годам, сверено, выверено где только можно, а в сороковом уже и с самой Мариной Ивановной, все подготовлено, хоть сейчас в печать! В нем, видно, и вправду погиб талант издателя…
Вот тогда-то, в сороковом, в сорок первом, в самый притык к ее гибели, и началась с новой силой круговерть ее стихов по Москве. Конечно, это был узкий круг, как говорил Борис Леонидович, но как могло быть иначе? Стихи ее не печатались, публичных выступлений не было, и потому узкий круг…
В этот узкий круг в те самые годы я и вступила, и стихи Марины Ивановны обрушились на меня водопадом, и я буквально захлебнулась этой ее ранящей лирикой.
Стихи Бориса Леонидовича до меня поначалу не доходили, он сразил меня как личность, стихи были потом, а с Мариной Ивановной получилось иначе.
Но странно, я совсем не запомнила первой встречи с Борисом Леонидовичем. Память донесла только солнечные блики на полу переделкинской террасы и окна, распахнутые в сад, в зелень. Кажется, только что прошел дождь, ну конечно же, был дождь, и листья были мокрыми. «…У капель – тяжесть запонок, и сад слепит, как плес…» Борис Леонидович в белом, ворот рубашки распахнут. Он очень подвижен, возбужден. Много говорил, читал стихи. Но если бы я никогда больше его не встретила, я бы так и не смогла бы его описать. Осталось не видение, а ощущение. Ощущение какой-то детскости от его улыбки, от него самого. От его радушного косноязычного захлеба, в котором я тогда столь же мало что могла понять, как и в его стихах. И еще это трепетное дрожание солнечных зайчиков… И все. А в тетради единственная фраза: «Вкус бессмертия на губах…» Это явно его фраза, она взята в кавычки, но почему он ее произнес, что ей предшествовало, что сопутствовало – этого уже не воскресить. Я тогда была уверена, что память сохранит все навечно и достаточно только намека…
Я влюбилась в Бориса Леонидовича сразу, как можно влюбиться в пейзаж, в картину, в ваяние, в творение неважно чьих рук – Божьих ли, человеческих, – но гениальное творение. А он еще вдобавок и сам был гениальным творцом! Его обаянию невозможно было не поддаться. Нечто подобное произошло и с Тарасенковым, только задолго еще до меня.