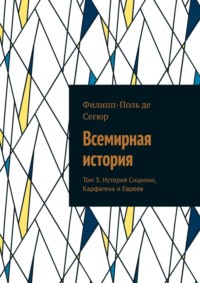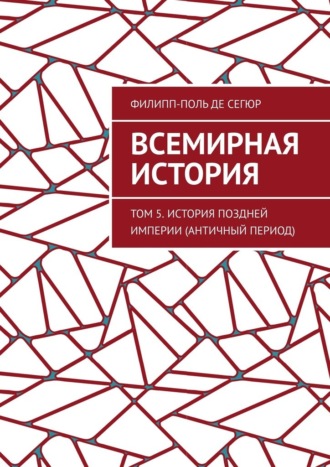
Полная версия
Всемирная история. Том 5. История поздней империи (Античный период)
Таким образом, Рим видел последовательное расцветание республиканского красноречия, вдохновленного великими интересами, при первых императорах – монархического красноречия, основанного на необходимости льстить и нравиться; в эпоху Марка Аврелия – философского красноречия; наконец, в момент, когда учение Евангелия свергло политеизм, родилось христианское красноречие, связанное с идеями, принципами и предметами, совершенно новыми. Мир, восстановленный, земля, примиренная с небом, примиритель между Богом и человеком, новый порядок справедливости, будущая жизнь и великие надежды или великие страхи за пределами времени – вот картина, которую это красноречие представляло людям. Оно стремилось возвысить слабость, унизить гордость, уравнять сословия через добродетель. Смешанное с силой и мягкостью, проникнутое духом священных книг и пылкими воображениями Азии, оно приобрело восточный оттенок, неизвестный до тех пор римским ораторам.
Константин также был восхваляем ораторами обеих религий. Время сохранило для нас лишь семь таких панегириков. Один лишь отрывок, взятый из одного из этих панегириков, где языческий оратор уже помещает Константина в число богов, был бы достаточен, чтобы дать представление о жестокости римских нравов того времени.
Оратор изображает своего героя победителем франков на берегах Рейна и щедро восхваляет его за то, что он использовал резню побежденных для развлечения Рима. «Вы украсили их кровью великолепие наших зрелищ, – говорит он, – вы доставили нам восхитительное удовольствие видеть, как неисчислимая толпа пленников была растерзана дикими зверями, так что эти варвары, умирая, страдали больше от оскорблений своих победителей, чем от зубов животных и мук самой смерти».
Панегирик, произнесенный Евсевием, епископом мало ортодоксальным, льстивым царедворцем, подозрительным историком, представляет собой смесь, распространенную в то время, философии Пифагора, Платона и учения священных книг. Не ограничиваясь изображением Константина как победителя идолопоклонства, он сравнивает его власть на земле с вечной властью Бога над вселенной, признает, что он имеет непосредственное общение с Божеством, призывает его открыть верующим множество видений и явлений, в которых Иисус Христос являлся ему, и превозносит его добродетели и подвиги с самой пышной и преувеличенной похвалой.
Затем, возвращаясь к епископской строгости, он напоминает ему принципы Евангелия, наставляет, хвалит и одновременно обманывает его, смешивая стиль кафедры с придворным стилем, и попеременно осыпает его лестью и наставлениями.
Среди торжеств этого юбилея один священник, доведя лесть до высшей степени и желая казаться вдохновленным пророческим духом, предсказал императору, что после того, как он хорошо правил людьми в этом мире, он будет царствовать в другом мире рядом с Сыном Божьим. «Прекратите эту недостойную лесть, – ответил князь, – мне не нужны ваши похвалы, но ваши молитвы».
До этого момента Константин, мирный обладатель империи, не имел других мятежей для подавления, кроме мятежа нескольких фанатичных сектантов. В этом году, 335, амбициозный офицер по имени Калокер осмелился поднять знамя восстания; во главе нескольких войск, которые он соблазнил, он захватил остров Кипр. Молодой Дельмаций, племянник Константина, сразился с этим мятежником, победил его, взял в плен и, жестоко злоупотребляя своей победой, сжег его заживо.
Именно тогда император, отказавшись от мудрой системы, которой он следовал до сих пор, и совершив ту же ошибку, что и Диоклетиан, ускорил гибель империи, разделив ее. Он выдал свою дочь Констанцию замуж за своего второго брата Ганнибалиана и сделал его царем Понта и Каппадокии. Дельмаций управлял под тем же титулом Фракией, Македонией и Грецией; он отдал в удел Константину, своему старшему сыну, Галлию, Испанию и Британию. Констант правил Иллирией и Африкой. Констанций, второй и самый любимый из его детей, получил в удел Азию, Сирию и Египет.
Слава императора достигла самых отдаленных уголков мира; он принял в Константинополе почести от монархов Индии, которые прислали ему послов и подарки.
Все склонялось перед его могуществом; только дух раздора, волновавший церковь, сопротивлялся его власти. Констанция, его сестра, вдова Лициния, доверилась ловкому и искусному арианскому священнику; умирая, она рекомендовала его императору, на чей дух он вскоре приобрел достаточно влияния, чтобы убедить его вернуть Ария, а также Евсевия Никомидийского и Феогниса. Опираясь на такую поддержку, два Евсевия и епископы их партии решили погубить Афанасия; но, прежде чем напасть на него, они попытались лишить его самого твердого сторонника, Евстафия, епископа Антиохийского.
Сначала обманув этого прелата под видом ложной дружбы, они собрались и сговорились в Иерусалиме, вернулись в Антиохию, созвали там собор, почти полностью состоящий из их друзей, и привели туда рыдающую куртизанку, держащую на руках ребенка, которого она обвинила Евстафия в отцовстве.
Собор, не желая слушать обвиняемого, низложил его: это насилие вызвало в городе большой tumult; люди схватились за оружие: обе стороны были готовы перерезать друг друга. Акакий, комит Востока, успокоил мятеж: Евстафий, вызванный Константином, собирался разоблачить обман; его враги изменили тактику и нашли лжесвидетелей, которые обвинили его в том, что он некогда оскорбил императрицу Елену. Обманутый император не стал углубляться в расследование обвинения; уступив своему гневу, он сослал Евстафия и дал арианам полный триумф. Смерть этого епископа, который вскоре скончался во Фракии от горя, избавила его противников от грозного врага.
Евсевий Никомидийский сумел активно воспользоваться преимуществом, которое его партия только что получила; он убедил императора написать письмо Афанасию, приказывая ему принять Ария в общение. Этот прелат, гордый и независимый, ослушался. Характер этого знаменитого человека представлял собой редкое сочетание мягкости и твердости. Благодаря первой он сумел успокоить изменчивый нрав александрийцев и завоевать их постоянную привязанность, благодаря второй он заставлял своих сторонников уважать себя, а врагов – бояться.
Те, кто предвидел, что его сопротивление вызовет гнев императора, обвинили его в том, что он спровоцировал восстание в Египте, осквернил священные книги и узурпировал верховную власть, произвольно установив налоги на народ Александрии.
Ненависть чаще ослепляет, чем просветляет; обвинение было настолько неправдоподобным, что его нельзя было поддержать. Невиновность Афанасия была признана.
Его враги не позволили этому поражению обескуражить себя. В то же время Арсений, епископ Гипсала в Фиваиде, внезапно исчез. Мелетиане, объединившись с арианами, публично обвинили Афанасия в смерти этого епископа, которого он, по их словам, убил с помощью магических операций. Они утверждали, что перед смертью этого несчастного изувечили; они даже показывали повсюду одну из его рук, которую, как они говорили, Афанасий приказал отрезать, добавляя, что до сих пор они не могли найти его тело, тщательно спрятанное убийцей.
Напрасно монахи монастыря, где епископ Арсений некоторое время жил в уединении, свидетельствовали, что он жив: ариане утверждали, что этот якобы Арсений – самозванец.
Афанасий, снабженный письмом Арсения, в котором тот просил его вернуться в общение, прибыл в Константинополь, оправдался и временно успокоил негодование императора. Беспорядки, которые этот раздор вызывал в Александрии, утихли; но после отъезда Афанасия два Евсевия снова сумели обмануть императора и убедить его, что преступление епископа Александрии доказано, и что он, чтобы оправдаться, выставляет ложного Арсения.
Слишком доверчивый Константин оставил Афанасия и предал его на суд своих врагов; он был вынужден предстать перед собором в Тире, состоящим почти исключительно из арианских епископов, в присутствии Архелая, комита Востока, и комита Дионисия.
Там повторилась сцена с Евстафием: появилась наглая женщина и обвинила Афанасия в том, что он лишил ее невинности. Тимофей, священник, прикрепленный к епископу Александрии, который в тот момент сидел рядом с ним, обращаясь к этой женщине, воскликнул: «Что! Вы обвиняете меня в таком преступлении?» – «Да, именно вас, – ответила она ему с яростным жестом, – я слишком хорошо вас знаю; это вы обесчестили меня».
Эта странная ошибка, которая так явно оправдывала обвиняемого, заставила покраснеть обвинителей и вызвала смех графов и солдат, присутствовавших на этом заседании.
Враги александрийского епископа, однако, упорствовали в своем гнусном замысле, продиктованном их непримиримой ненавистью, обвиняя его в убийстве Арсения и предъявляя собору окровавленную руку этой мнимой жертвы.
Афанасий, после минутного молчания, спросил судей, знают ли они Арсения. Несколько человек ответили, что часто его видели. Тогда он ввел в зал человека, завернутого в длинный плащ, открыл его голову, и настоящий Арсений предстал перед изумленными взорами всех присутствующих.
Афанасий, поочередно беря руки этого человека, освобождая их от одежды, сказал: «Вот Арсений живой, с двумя руками; Бог не дал нам больше; теперь моим обвинителям следует объяснить, где они нашли третью».
Оправдание было неопровержимым; но очевидность разума лишь разжигает страсти; враги Афанасия быстро перешли от замешательства к ярости; они обвинили его в колдовстве, в чародействе, бросились на него, чтобы убить, и граф Архелай с трудом спас его от их рук. Наконец, собор, нарушив все божественные и человеческие законы, осудил Афанасия, лишил его сана, запретил возвращаться в Александрию, и, что еще более позорно, сам Арсений подписал этот приговор.
Мало было погубить Афанасия, нужно было возвысить Ария. Император, забыв, как и многие правители, что монарх перестает быть главой государства, когда становится главой партии, и что он больше не может действовать в интересах общего блага, когда поддерживает частные интересы, способствовал ненависти ариан, и эта пристрастность продлила смуты в церкви.
По его приказу в то время с большой торжественностью была освящена церковь Гроба Господня в Иерусалиме. Все епископы и верующие Востока, прибывшие туда, были обеспечены за счет государственной казны. Константин созвал собор, но для его проведения дождались момента, когда большинство католических епископов уже покинули Иерусалим.
Этот собор принял оправдание Ария, восстановил его в священнических обязанностях и направил настоятельные письма всем церквям империи, призывая их принять Ария в общение и изгнать Афанасия.
Александрийский епископ, возмущенный столькими преследованиями, поспешил в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Его враги тщательно закрыли ему доступ во дворец; но однажды, когда император проезжал через город верхом, Афанасий внезапно появился перед ним. Константин, предубежденный и раздраженный, не хотел останавливаться, чтобы выслушать его оправдание; тогда епископ, возвысив голос, смело сказал: «Если вы отказываете мне в справедливости, если не хотите выслушать меня в присутствии моих клеветников, я призову Бога судить между вами и мной».
Император, уступив его твердости, согласился на его просьбу. Афанасий легко оправдался от абсурдных обвинений в колдовстве, убийстве и нечестии; но два Евсевия обвинили его в сопротивлении императору, в мятежном духе, представили его как главу фракции и обвинили в скупке зерна в Египте, чтобы вызвать голод в Константинополе. Их многочисленные сторонники поддержали это обвинение. Константин, ослепленный ими, произнес приговор Афанасию и отправил его в изгнание в Трир.
Враги Афанасия, воспользовавшись этим успехом, созвали собор в Константинополе. Императора убеждали лишить Афанасия сана и назначить ему преемника. Этот правитель не согласился на это, но благосклонно принял Ария и приказал константинопольскому епископу Александру принять этого ересиарха в общение и без промедления допустить его в церковь.
Этот указ завершил победу арианства. В момент, когда приказ должен был быть исполнен, Александр, по словам католических писателей того времени, простершись у подножия алтаря, молил Бога, чтобы Арий исчез, дабы присутствие еретика не осквернило церковь.
Однако роковой час настал; Арий, во главе блестящей и многочисленной свиты, торжественно проезжал по городу; но внезапно почувствовав острую боль, он вынужден был войти в дом один и больше не появился.
Его друзья, с нетерпением ожидая его возвращения, с тревогой искали его; они нашли его лежащим на земле, плавающим в крови; его внутренности выпали из тела. Католики считали это событие чудом, ариане – результатом колдовства, а люди, свободные от суеверий, – убийством.
Александрийский епископ, более вдохновленный духом партии, чем духом христианства, собрал народ и вознес Богу торжественные благодарения за смерть своего врага.
Пока Афанасий, испытывая судьбу всех опальных, не находил защитников при дворе, святой Антоний из глубины своей пустыни написал в его защиту Константину; но этот правитель остался непреклонным.
Евсевий сообщает, что в то время император издал закон о епископской юрисдикции, предоставив епископам право судить без апелляции и приказав судам передавать все дела церковным судьям, как только одна из сторон потребует этого, несмотря на возражения противной стороны.
Некоторые юристы оспаривали существование этого закона, хотя он упоминается в более поздних кодексах. Этим неполитичным рвением, которое поощряло амбиции духовенства за счет гражданской власти, начиналась великая революция, результатом которой должно было стать не просто нахождение церкви в государстве, но государства в церкви.
Император, другим указом, неисполнимым в век коррупции, приравнял прелюбодеяние к убийству и назначил за него те же наказания. Странное положение, противоречащее духу равенства, которого требует справедливость и который должна внушать религия, исключало из строгостей этого указа трактирщиц, актрис, служанок и жен ремесленников. Суровость судебных решений, говорил император, не предназначена для людей, чья низость делает их недостойными внимания законов.
Другими указами он сделал разводы более трудными и редкими; запретил всем государственным служащим узаконивать детей, рожденных от публичных женщин, вольноотпущенниц, торговок и женщин, выступавших в амфитеатрах.
Чем больше портились нравы, тем больше ощущалась необходимость строгого законодательства. Двенадцать таблиц долгое время служили добродетельному и свободному Риму; объемные кодексы появились лишь тогда, когда он был близок к падению. Они обессмертили своих авторов, но не продлили существование империи. Несмотря на усилия Константина реформировать злоупотребления, его чиновники занимались такими вымогательствами и так угнетали народ своей жадностью, что он издал указ, приглашающий всех граждан напрямую обращаться к нему с жалобами, и одновременно пригрозил всем государственным служащим отрубить головы, если их вымогательства будут доказаны.
После побед Галерия и мира, заключенного Диоклетианом, персы, ослабленные поражениями, не решались снова браться за оружие; но вражда между двумя империями указывала на то, что спокойствие будет недолгим.
Каждый враг Константина с почетом принимался в Персии, и он благосклонно принимал всех персов, изгнанных или добровольно покинувших свою страну.
Князь Хормизд, чей высокомерный и жестокий нрав оскорбил вельмож этого королевства, был лишён ими прав на престол и брошен в темницу, где провёл пятнадцать лет. Его младший брат, Шапур, был провозглашён королём после смерти их отца. В конце концов жена Хормизда, рискуя жизнью ради спасения супруга, подкупила стражу и передала ему в камеру напильник, которым он воспользовался, чтобы сломать свои оковы. Переодевшись в одежду раба, он пересек Персию и прибыл просить убежища у Константина, который с радостью принял его, поселил в своём дворце, убедил принять христианство и дал высокие должности в своей армии, надеясь, что имя Хормизда сможет создать ему партию в Персии и ослабить, через раздоры, империю, завоевание которой он замышлял.
Эти интриги раздражали двор Шапура, который, кроме того, стремился избавиться от позорного договора. Со своей стороны, Константин упрекал персидского короля за жестокость по отношению к христианам. Обе стороны готовились к войне. В 337 году Шапур открыто объявил войну и написал императору, что нужно сражаться или вернуть пять провинций, уступленных Нарсесом Диоклетиану. Константин ответил, что скоро лично принесёт ему ответ во главе своих легионов.
Войска Шапура уже вторглись в Месопотамию и опустошали её. Константин, быстро собрав армию, отправился в Никомедию; там он торжественно отпраздновал Пасху, приказал осветить весь город и раздал щедрую милостыню по всей империи.
Этот князь, всегда считавший, что его слава связана как с триумфом христианской религии, так и с победами его оружия, публично произнёс во дворце речь о бессмертии души, как будто предчувствуя, что скоро сам насладится им в новом мире.
Через несколько дней, поражённый тяжёлой болезнью, он тщетно пытался найти исцеление в водах Геленополиса, вернулся близ Никомедии в замок Ахирон, собрал вокруг себя нескольких епископов и умолял их совершить над ним обряд крещения. «Вот день, которого я так страстно желал, – сказал он им. – Я хотел омыть свои грехи в Иордане, где купался наш Спаситель. Бог останавливает меня и желает, чтобы я получил эту милость здесь».
После церемонии он добавил: «Теперь я действительно счастлив, действительно достоин бессмертной жизни! Ах, как я жалею людей, лишённых света, который озаряет мои глаза!»
Его офицеры, в слезах, молили небо сохранить ему жизнь. «Соратники, – сказал он им, – жизнь, в которую я вступаю, есть истинная жизнь; я знаю блага, которые меня ждут, и спешу к Богу».
Так Евсевий описывает последние моменты этого князя; другие историки утверждают, что он был крещён в Риме, и что папа Сильвестр чудесно исцелил его от проказы: эти выдумки, созданные спустя несколько веков, имели целью придать правдоподобие акту дарения, который ложно приписывали Константину, и которым он якобы уступил папе Рим, его территорию и западное побережье Италии. Составление этого абсурдного документа достойно времени невежества, в которое оно было сфабриковано. Император говорит в нём о сатрапах своего совета. Истории нет необходимости дольше заниматься сказкой, которая теперь не находит ни доверия, ни поддержки.
Умирая, император раздал щедрые дары Риму и Константинополю, подтвердил раздел своих владений и заставил легионы поклясться в верности своим детям и церкви. Он передал своё завещание арианскому священнику, пользовавшемуся его доверием, и приказал вручить его только Констанцию, самому любимому из его детей.
Его последним актом был акт справедливости: он вернул из изгнания Афанасия и разрешил ему вернуться в Александрию. Этот князь умер в день Пятидесятницы, 22 мая 337 года, при консульстве Фелициана и Тициана. Его жизнь длилась шестьдесят три года, а правление – тридцать.
В момент его смерти, казалось, забыли его ошибки и даже преступления, помня только его подвиги и великие качества. Его гвардейцы, солдаты выражали свою скорбь глубокими стонами; каждая семья, казалось, оплакивала своего главу. Все, вспоминая прошлые несчастья и опасаясь будущих, сожалели о такой надёжной опоре.
Его останки, помещённые в золотой гроб, были перевезены в Константинополь; там его тело было выставлено на помосте, окружённом множеством факелов, и всё время, пока не прибыл Констанций, высшие чиновники, сенаторы, графы и генералы ежедневно приходили во дворец, чтобы выполнять свои обязанности, как если бы император ещё жил.
Во всей империи легионы, мало уважая королевскую власть братьев Константина, поклялись не признавать других правителей, кроме его детей.
Констанций, прибыв в столицу, сопроводил тело своего отца в церковь апостолов, где оно было помещено в порфировую гробницу.
Рим, который Константин лишил его древнего величия, тем не менее разделил общую скорбь. Римский народ упрекал себя за то, что разгневал этого князя и вынудил его своими оскорблениями искать убежища в Византии. Он тщетно требовал права сохранить в столице мира останки своего освободителя.
Человеческая слава, даже когда она не чиста, вызывает энтузиазм, как только перестаёт быть предметом зависти; все партии, которые порицали Константина при жизни, обожествляли его после смерти. Христиане причислили его к лику святых, а язычники поместили среди богов, чьи храмы он разрушил.
Из всех людей, которые блистали на земле, Константин, возможно, совершил величайшую революцию в мире. Он уничтожил идолопоклонство, утвердил торжество христианства, унизил Рим, возвысил Византию, перенёс силу империи на Восток и, открыв Запад варварам, подготовил новое существование Европы.
Переместив суверенитет, он отнял его у народа и передал трону. Повсюду после его правления общий дух наций принял новое направление; права, принципы, интересы, всё, что влияет на управление людьми, всё изменилось; и, прослеживая историю времён, следующих за этой знаменитой эпохой, кажется, что вступаешь в новый мир.
Сравнивая справедливо с худшими и лучшими из князей, Константин объединил в своём характере самые противоположные качества. Сторонники Максенция испытали его милосердие, гонители христиан – его человечность; он показал себя жестоким к пленным франкам и пленным королям, которых он выставлял на потеху римлянам и которых отдавал на растерзание зверям в цирке: убийца своего тестя и шурина, убийца своей жены и сына, он часто прощал мятежников и терпеливо сносил оскорбления. Ревностный к справедливости, он угнетал свободу; щедрый к бедным из человеколюбия, он позволял грабить провинции из слабости; ревнивый к власти трона, он создал ему опасного соперника в церкви, поощряя амбиции своих министров.
В лагерях его активность, умеренность и мужество напоминали героев древнего Рима; в Византии, в Никомедии, пышность его двора, роскошь и изнеженность представляли взору лишь потомка Дария.
Его законодательство было мягким, а политика – варварской; к добродетелям Траяна он добавил жестокость Севера и часто преступления Нерона.
Чтобы быть справедливым, следует приписать его ошибки его веку, его преступления – его страстям, его суровость – его характеру, его милосердие и благотворительность – его религии, а его подвиги – его гению.
Глава II
КОНСТАНТИН II, КОНСТАНЦИЙ, КОНСТАНТ И МАГНЕНЦИЙ; раздел империи между детьми Константина; правление трех императоров; смерть Константина II; заговор и узурпация Магненция; смерть Константа; возвышение Ветраниона; война между Констанцием и Магненцием; отречение Ветраниона; Галл и Деценций назначаются Цезарями; поход Магненция против Констанция; битва на Драве; малодушие Констанция; поражение и смерть Магненция; смерть Деценция.
КОНСТАНТИН II, КОНСТАНЦИЙ, КОНСТАНТ И МАГНЕНЦИЙ
(337 год)
Император Константин, менее осторожный в своей политике, чем его отец Констанций Хлор, предпочел блеск своей семьи спокойствию империи. Он совершил ошибку, разделив империю между своими сыновьями, а также даровав царства своим трем братьям, заложив тем самым основы роковой системы, которая впоследствии привела к долгим несчастьям и стала причиной множества междоусобных войн, непримиримой вражды и убийств в зарождающихся монархиях современной Европы.
Разделить государство между столькими князьями означало лишить римский народ единственной компенсации за потерю свободы – покоя; это означало добавить к недостаткам абсолютной власти все беды раздора и анархии.
Воля Константина была исполнена лишь частично. Сенат, народ и легионы согласились признать правителями только его детей; армия восстала против его братьев: редко уважают жизнь тех, у кого отнимают корону; три брата Константина и пятеро его племянников были убиты; пощадили только двух сыновей Юлия: Галл избежал убийц; тяжелая болезнь заставила поверить, что природа сама завершит его дни; его младший брат Юлиан был шести лет; Марк, епископ Аретузы, спас этого будущего врага христиан, спрятав его под алтарем и укрыв от кинжалов врагов.
Общественное мнение приписывало эти убийства честолюбию Констанция; святой Григорий Назианзин обвиняет в этом лишь ярость солдат; но, если верить другим историкам, Констанций в конце жизни, раскаиваясь в своих заблуждениях, считал свои поражения и бесплодие своих жен справедливым наказанием за свои преступления.
Правители могут утверждать справедливость только тогда, когда сами подчиняются закону и защищены им. Те, кто опирает свою власть лишь на силу, вынуждены подчиняться ей. Государь, возглавляющий фракцию, вынужден уступать всем страстям своей партии; солдаты, сначала подстрекаемые к преступлениям, уже не могли быть остановлены в своей ярости; они убили множество придворных Константина; высокое достоинство патриция Оптата не спасло его жизнь. Аблавий, префект претория, считавшийся опекуном Констанция, казалось, должен был внушать больше уважения мятежникам, но они устроили ему ловушку, чтобы погубить.