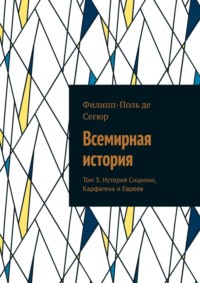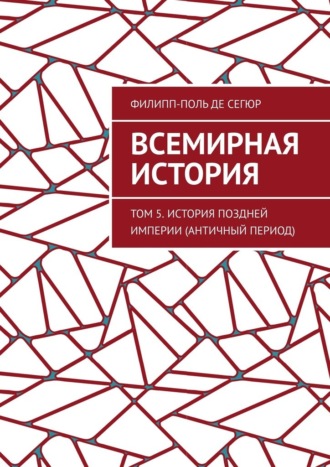
Полная версия
Всемирная история. Том 5. История поздней империи (Античный период)
Другой закон, отменяющий все конфискации, предписанные Диоклетианом и Галерием, вернул церквям их имущество и передал им владения мучеников, умерших без наследников.
Он издал против похищения людей эдикт, слишком суровый, который не отличал соблазнения от насилия.
Почти все города провинций в то время управлялись своего рода сенатом, члены которого назывались декурионами, а главы – дуумвирами: их выбирали из числа членов самых знатных семей, и большинство граждан избегали или покидали эти бесплатные и обременительные должности, поскольку они обязывали их к выплате более высоких взносов, чем те, которые требовались от остальных жителей. Константин, чтобы сохранить полезный институт, подверг денежным штрафам любого избранного гражданина, который отказывался от этих обязанностей или покидал их. Тем же эдиктом он передал в пользу этих управляющих земли граждан, умерших без наследников.
Таким образом, в период упадка империи, когда всякий общественный дух был утрачен, абсолютная власть вынуждена была принуждать граждан исполнять общественные обязанности, которые прежде их амбиции оспаривали с таким рвением. Государственное управление стало рассматриваться лишь как повинность. Чиновники, назначенные императором, добились и получили освобождение от этих общественных обязанностей; каждый избегал должностей, которые делали его полезным лишь для народа, и жадно стремился только к тем, которые приближали его к правителям. Государственные должности больше ничего не значили, придворные должности стали всем. Быстро привыкли считать должности квестора, претора и даже консула лишь почетными званиями; их реальные функции выполнялись только комитами, генералами и офицерами императорского двора.
Однако, поскольку Константин, справедливый по принципам и амбициозный по характеру, быстро узнавал о жалобах, которые вызывали повсюду жадность его советников и произвольное поведение его провинциальных наместников, он запретил судьям и магистратам исполнять любые указы, даже его собственные, если они противоречили законам, и приказал не учитывать в судебных решениях происхождение и ранг обвиняемых. Преступление, говорил он, стирает все привилегии и достоинства.
Такова была странная противоречивость, которую представляли в поведении и законах императора притягательность абсолютной власти, любовь к справедливости и воспоминания о свободе.
Он запретил указом сборщикам налогов забирать у земледельцев их волов и орудия труда. До этого времени распределение налогов регулировалось знатными людьми каждого места, и богатые использовали свое влияние, чтобы переложить большую часть этого бремени на бедных. Константин, надеясь остановить эти злоупотребления, поручил только наместникам провинций регулировать это распределение; это означало заменить недостатки аристократии еще большими опасностями произвола.
Император, заботясь о вознаграждении солдат, которые даровали ему победу и империю, раздал им большое количество свободных земель.
Часто правители, ревнивые к своей власти, предпочитают иностранных солдат гражданам. Константин, более впечатленный пользой, которую он мог извлечь из храбрости франков и готов, чем будущими опасностями, которые такие союзники могли принести империи, взял на службу самых храбрых из этих воинов. Эти наемники стали опасными только для его преемников. Они служили Константину с усердием: Эбонит, франкский капитан, отличился блестящими подвигами в первой войне, которую Константин начал против Лициния и которая принесла ему владение Македонией, Грецией и Иллирией.
Хотя император еще не был крещен и, по политическим соображениям, до этого времени казался бережливым к старой религии империи, он не переставал ни на мгновение, даже среди шума оружия, показывать свое предпочтение и уважение к культу Бога, которому он приписывал свои триумфы. В его лагерях можно было увидеть молельню, обслуживаемую священниками и диаконами, которых он называл стражами своей души. Каждый легион имел свою часовню и своих служителей, и перед тем, как дать сигнал к битве, император, во главе своих воинов, простирался у подножия креста, призывая Бога армий и прося у него победы.
Лициний, его коллега и соперник, насмехался над этими практиками, которые он называл суеверными, в то время как сам он, окруженный толпой понтификов, гадателей и гаруспиков, пытался прочесть свою судьбу в предзнаменованиях и внутренностях жертв.
После смерти Максенция и Максимина вся империя оказалась разделенной между двумя правителями, Константином и Лицинием, и каждый из них занимался только тем, чтобы погубить своего соперника и править единолично. Различие культов и нравов, казалось, разделило римский мир на два народа: христиан и идолопоклонников. Первые считали Константина своим защитником, опорой и главой. Лициний, который до этого лишь по политическим соображениям поддерживал систему терпимости, установленную Константином, изменил свою тактику, как только победил Максимина, и, став во главе многочисленной партии, приверженной политеизму, древним законам и обычаям римлян, объявил себя врагом христиан. Этот правитель надеялся легко подавить, под тяжестью огромного населения, чьи нравы и верования он защищал, этих христиан, так недавно вышедших из рабства и едва оправившихся от глубоких ран, нанесенных им долгими преследованиями.
Оба лидера были храбры и опытны; Лициний имел на своей стороне численность, суеверие, уважение к древности и, главное, это почти повсеместно укоренившееся мнение, что слава Рима неразрывно связана с культом его богов.
Этим старым традициям, осмеянным философами и уже не поддерживаемым нравами в развращенном народе, Константин противопоставил партию восторженных людей, тем более пылких, чем больше их подавляли, и легионы, возгордившиеся длинной чередой побед, которых не останавливала никакая опасность и которые верили, что при виде лабарума их ведет к победе сам Бог.
С обеих сторон, решив начать войну, искали причины для оправдания нарушения мира. Лициний утверждал, что его соперник, под предлогом похода против готов, вторгся на его территорию с оружием без его согласия: Константин обвинил Лициния в попытке спровоцировать в Риме восстание против него и в найме негодяев для его убийства.
Две армии, которым предстояло решить судьбу двух империй, двух правителей и двух культов, собрались и вскоре оказались лицом к лицу на берегах Гебра.
Все жрецы и прорицатели Востока предрекали Лицинию несомненную победу; только оракул Милета оказался менее угодливым. На вопрос этого князя он ответил: «Старец, твои силы истощены; твой преклонный возраст тяготит тебя; тебе больше не под силу бороться с молодыми воинами».
Этот монарх, в момент перед битвой, после принесения жертв, показывая своим солдатам статуи богов, освещенные тысячами факелов, сказал им: «Товарищи, вот божества наших предков, объекты нашего древнего почитания; наш враг – враг наших отцов, наших законов, наших нравов, наших богов; он поклоняется неизвестному, идеальному божеству, или, скорее, можно сказать, что он не признает никакого. Он бесчестит свои знамена, заменяя римских орлов символом, посвященным казни разбойников, позорным крестом. Эта битва решит нашу судьбу и нашу религию; если это темное, неизвестное божество одержит победу над столькими знаменитыми и могущественными богами, столь грозными как своим числом, так и своим величием, мы будем вынуждены воздвигнуть ему храмы на развалинах тех, что основали наши отцы. Но если, как мы уверены, наши боги сегодня явят свою силу, даровав победу нашим оружием, мы будем преследовать до смерти эту позорную секту, чья святотатственная нечестивость презирает законы и оскорбляет небеса».
В тот день хитрость Константина обманула старый опыт Лициния. Скрывая свои передвижения от врага, он переправился через реку в месте, защищенном лишь слабым отрядом. Победа стала наградой за его искусную тактику и невероятную смелость. Возглавляя двенадцать всадников, он проложил путь своим войскам, сокрушив и уничтожив сто пятьдесят воинов, которые пытались остановить его. Этот эпизод, кажущийся более романтичным, чем историческим, засвидетельствован Зосимом; и известно, что этот писатель был одним из самых ярых врагов и упорных критиков этого князя.
Лициний, запертый в Византии, поспешно бежал, увидев, как его многочисленный флот был разбит флотом его соперника, которым командовал молодой Крисп. Он пересек пролив, собрал остатки своих войск и, рискуя последним усилием, чтобы оспорить империю у своего коллеги, дал ему бой близ Хризополя. Он снова вынес перед своими легионами изображения богов Рима, Персии и Египта: но, в то же время, обеспокоенный страхом, внушенным ему недавними триумфами креста, и считая лабарум магическим знаменем, он приказал своим солдатам не смотреть на этот зловещий знак.
Никогда легионы Востока не сражались успешно против легионов Запада. Победа Константина была полной; он почти полностью уничтожил армию Лициния, который искал спасения в бегстве.
В те времена упадка не считалось позорным пережить честь и свободу; больше не было ни Катонов, ни даже Антониев. Лициний, побежденный, склонился перед своим господином и повелителем, сложив к его ногам диадему и смиренно умоляя сохранить ему жизнь. Мольбы его жены Констанции, сестры императора, позволили ему получить прощение, которого он просил; но вскоре политика взяла верх над милосердием, и свергнутый князь, обвиненный в попытках восстановить свою власть, был обезглавлен по приказу императора, чью славу это убийство запятнало.
В течение этой войны все сторонники старого культа открыто выступили за дело Лициния. Его падение повлекло за собой падение политеизма. Константин, разгневанный, больше не считал необходимым проявлять ту же осторожность по отношению к идолопоклонству. Если он и не преследовал людей, то подавлял мнения и поощрял рвение христиан, непримиримых врагов этих вымышленных божеств, которые, по их вере, были лишь демонами. Во всех местах, где Константин считал, что его приказы не встретят непреодолимого сопротивления, он приказал разрушить алтари, снести храмы, особенно те, что были посвящены Вакху и распутству. Эта атака, направленная против религии, неразрывно связанной с законами и древними обычаями, лишила его любви римлян. Столица мира, посвященная Марсу и Юпитеру, сама была огромным Пантеоном; здесь курился фимиам в семистах храмах, посвященных богам Олимпа суеверием, основателю Рима – благодарностью, императорам – обычаем. Абсолютная власть не могла быстро разрушить такие прочные и древние преграды; и, несмотря на усилия владык мира, идолопоклонство долгое время сохраняло в Риме множество сторонников и неприкосновенное убежище.
Во всей остальной империи исполнение приказов Константина было быстрым и легким; он написал народам Востока следующие слова: «Моя победа над врагами Иисуса Христа, падение гонителей христиан доказывают силу Бога, который избрал меня для установления Его культа в империи; это Он вел меня от берегов Британии до сердца Азии; Его могущественная рука разрушила все преграды, которые воздвигались на нашем пути. Столь многие благодеяния требуют моей благодарности, и я должен повсюду быть защитником людей, преданных Богу, который защитил меня. Поэтому я возвращаю всех изгнанников, возвращаю каждому его имущество, возвращаю церквям их богатства, и хочу, чтобы все христиане, опираясь на мою поддержку, радовались моим победам и заранее наслаждались процветанием, которое их ждет».
Кажется удивительным, что революция, которая ранила совесть, оскорбляла суеверия и так резко меняла культ, нравы и законы, не вызвала тогда восстаний: казалось, что идолопоклонники перестали уважать своих богов и больше не верили в их силу, поскольку позволили себя победить Богу Константина. Действительно, император использовал для успеха как убеждение, так и силу, и, защищая христиан, он препятствовал их мести. В одном из своих указов, отдавая дань мудрости Творца и чистоте христианской морали, он сравнивает мягкость своего отца, следовавшего принципам Евангелия, с жестокостью Галерия, Максенция, Максимина и Лициния; и, заявляя, что его победы были лишь наградой за его рвение в восстановлении истинного культа Божества, оскверненного ошибками нечестия, он напоминает людям, что культ единого Бога был первоначальной религией, что Иисус Христос пришел на землю лишь для того, чтобы вернуть этой вере древнюю чистоту, а политеизм был лишь искажением и развращением; обращаясь затем к христианам, он сдерживает их чрезмерное рвение, запрещает им всякие преследования, разрешает им использовать для победы над неверными только пример и истину и гарантирует упорным поклонникам идолов полное спокойствие.
Не желая отказывать этому князю в заслугах такой умеренности, все же справедливо смягчить чрезмерные похвалы, которыми его осыпала лесть. Его терпимость была несколько вынужденной; большинство населения империи оставалось идолопоклонниками; и он боялся, что слишком большие насилия или слишком большая поспешность могут поставить под угрозу его власть. Власть сената уже дала ему почувствовать эту опасность, сохраняя в Риме древний культ, вопреки указам, которые предписывали закрытие храмов и прекращение жертвоприношений.
Как бы то ни было, если бы император ограничился установлением и защитой повсюду свободы совести, прогресс христианской веры был бы более мудрым, хотя и не менее быстрым; религия и империя подверглись бы меньшим беспорядкам и несчастьям, если бы император меньше приближал священников к трону и не предлагал служителям культа, враждебного всему мирскому, опасную и почти непреодолимую приманку благосклонности, богатства и власти: но, льстя, подталкивая и увлекая окружавших его епископов, этот князь вскоре показал столько же страсти к обращению, сколько и к победе; он любил проповедовать так же, как и сражаться, его придворные аплодировали ему с энтузиазмом, но они лишь прикрывали свои пороки маской благочестия, и их лицемерие, скрывающее под ложными красками ненасытную жадность и безграничные вымогательства, ввергло империю в ужаснейшие беспорядки.
Жалобы, раздававшиеся со всех сторон, наконец проникли во дворец; Константин показал себя стыдящимся и недостойным этих излишеств. Обращаясь однажды к одному из своих фаворитов, он начертил перед ним на земле копьем фигуру человеческого тела: «Складывайте, – сказал он ему, – по своему усмотрению богатства империи, владейте даже всем миром, однажды у вас останется лишь этот узкий клочок земли, который я только что отмерил, если даже вам его предоставят».
Событие подтвердило эти памятные слова, ибо в правление Констанция тот же придворный, злоупотребляя своей властью, был убит народом и лишен погребения.
Хотя империя испытывала все беды, неизбежные при потере свободы, и страдала от всех злоупотреблений, следующих за усилением произвольной власти, память о стольких гражданских войнах привязывала народы к ярму князя, который избавил их от стольких тиранов. Римляне не были счастливы, но они жили спокойно; варвары, столько раз побежденные, реже пытались переходить свои границы, и вечные враги Рима, персы, еще не осмеливались освободиться от позорного договора, навязанного им Галерием и Диоклетианом.
После поражения Лициния император, желая умиротворить Восток, надолго остановился в Никомедии. Там ему был присвоен титул Победителя, который он хотел, но не смог передать своим детям, как передал им свою власть. Он задумал отправиться в Египет; тревожная новость, которую он получил, заставила его отказаться от этого путешествия. Он узнал, что ересь, разделявшая все умы, только что вызвала в этой стране вспышку мятежа. Прежде чем говорить о беспорядках, вызванных упорством этой новой секты, во главе которой стоял ересиарх Арий, необходимо вкратце описать состояние, в котором тогда находилась церковь, и каковы были на протяжении трех веков дух христианства, его прогресс и причина постоянной ненависти, которая тщетно противостояла его распространению.
Поскольку Иудея была колыбелью этого культа, и религия Иисуса, согласно церковным авторам, лишь усовершенствовала религию Моисея, необходимо обратить наш взгляд на различные мнения, которые установились среди иудеев до проповеди Евангелия.
За исключением секты рахебитов, малозначительной и малоизвестной, кажется, что евреи, вплоть до их пленения в Сирии и некоторое время после их возвращения в Иудею, мало искажали учение Моисея, и только около трех веков до рождения Иисуса Христа в их вере установилось смешение философских и религиозных мнений.
В правление первых Птолемеев множество евреев, живших тогда в Александрии, уступили желанию познать системы нескольких философов, которые пытались примирить мнения Платона, Пифагора, Гермеса и Зороастра. Пораженные сходством, которое, казалось, существовало между идеями Платона и Моисея о величии и силе Бога, они убедили себя, что этот философ, как и Пифагор, знали книги Моисея и черпали из них то возвышенное, что видели в своих сочинениях. Они частично приняли эту химерическую систему примирения, называемую синкретизмом. Другие евреи, избежавшие бедствий своей родины во время пленения, спасаясь в Египте, удалились в пустыни, чтобы избежать ненависти, преследовавшей их в городах. Там, лишенные книг, удаленные от своих храмов, они привыкли к аскетической жизни; некоторые пифагорейцы, преследуемые, как и они, искали убежища в той же стране; сходство их судьбы сблизило их мнения, и это смешение породило секты ессеев и терапевтов.
Когда Птолемей Филадельф, чья терпимая добродетель желала распространить счастье повсюду, без различия партий, сект и стран, разрешил изгнанным евреям вернуться на родину, они распространили в Палестине свое новое учение. Ессеи, привыкшие в своем уединении к созерцательной жизни, к практике строгой морали, не могли вынести развращения, проникшего в Иерусалим и другие города Иудеи; приверженные своим принципам и обычаям, они жили отдельно в сельской местности, вдали от городов: между ними царило полное единство, и все помогали друг другу.
Обращенные к востоку, они молились Богу перед восходом солнца, затем предавались работе; в пятый час дня они купались, а затем вместе принимали скромную трапезу, во время которой царило глубокое молчание. Их пища благословлялась священником. Выходя из-за стола, они благодарили Бога, возвращались к работе, а вечером, собираясь на ужин, соблюдали те же обычаи и сохраняли то же молчание.
Их всегда видели одетыми в белое, их имущество было общим, следуя принципам Пифагора, никто не допускался в их ряды без трехлетнего испытательного срока, в течение которого проверялись их скромность, усердие и добродетели.
Строгая клятва обязывала их не причинять вреда другим, точно соблюдать правила общины, избегать злых людей, подчиняться законам, быть верными правительству, не искажать учение и скорее потерять жизнь, чем раскрыть непосвященным тайны своей религии.
Эта суровая секта, тем более фанатичная, чем более святой она себя считала, впоследствии оказала римлянам непоколебимое сопротивление; самые жестокие пытки не смогли вырвать у них ни действия, ни слова, противоречащего их вере.
Они были убеждены, что все в мире связано и предопределено судьбой; что душа, по своей природе бессмертная, заключенная в теле, покидает его в момент смерти, чтобы получить, если она была добродетельной, великие награды в месте, где царит вечная весна, или быть подвергнутой мучениям в мрачных подземельях, если она поддалась пороку.
Терапевты, еще более восторженные в своей вере, посвящали себя полностью созерцательной жизни, оставляли свои семьи, отказывались от всех земных благ и связей и, отрешаясь от материального, устремляли свои души к Божеству, веря в экстазе, что, освободившись от влияния чувств, они приближаются к Богу и могут созерцать все Его совершенства.
Эти новые учения не получили признания у большей части народа, который, под именем саддукеев, оставался привержен старым взглядам, понимал только то, что воздействовало на чувства, и не верил в бессмертие души. Те из иудеев, кто, не принимая чистую мораль ессеев, допускал нематериальную систему этой таинственной философии, назывались фарисеями. В отсутствие добродетелей они перегружали культ детскими правилами, длинными молитвами, суеверными практиками и под видом ложного благочестия скрывали ненасытное желание власти и богатств. Доминируя над толпой благодаря своей снисходительности к беспорядкам, внешней серьезности и показной строгости, они захватили большую власть, часто подрывая авторитет царей: тираны, когда они обладали властью, мятежники, когда правительство брало верх, они стали одной из главных причин смут и гражданских войн, раздиравших их родину.
Караимы, менее многочисленные, потому что они были более разумными, занимали золотую середину между этими крайними партиями: впрочем, несмотря на вражду между ессеями, саддукеями и фарисеями, они всегда считали себя одной общиной и никогда не обвиняли друг друга в ереси, полагая, как сказал Кондильяк, что вопросы свободы, бессмертия души и существования духов являются лишь проблематичными, по которым можно расходиться во мнениях, не нарушая закона Моисея.
Именно в этой стране, разделенной мнениями, среди этих сектантских вопросов, появился свет Евангелия. Иисус Христос принес его, его апостолы и ученики распространяли его; первые христиане были обращенными иудеями; но с первых же шагов, несмотря на склонность этого народа верить в пророков и чудеса, они столкнулись и действительно встретили множество препятствий.
Учение Иисуса Христа раздражало фарисеев, потому что оно осуждало лицемерие, амбиции, алчность и ставило веру и добродетели выше пустых церемоний и суеверных практик. Менее противоречащее системе ессеев, оно все же задевало их самолюбие, подрывая их претензии на превосходство, которое они считали своим благодаря своей строгости над всеми философскими школами и религиозными сектами.
Саддукеи и основная масса еврейского народа, более приверженные букве, чем духу закона и пророчеств, ожидали спасителя в лице князя из дома Давида, сильного оружием, блистающего величием, могущественного и расширяющего их мирскую славу и земное господство.
Не веря в бессмертие души, они считали химерой духовное царство, счастье, которое начиналось только в другой жизни, и не могли признать Мессией человека скромного, бедного пророка, у которого не было иного оружия, кроме слова, иной силы, кроме добродетели, который предписывал лишь лишения и обещал только небесные блага.
Кроме того, хотя Иисус Христос и его ученики строго посещали храм, праздновали Пасху и соблюдали предписанные обряды, их считали дерзкими новаторами, желающими заменить закон Моисея новым. Наконец, евреи, всегда считавшие себя единственным избранным народом Бога, не могли смириться с тем, что новая секта призывает другие народы разделить свет истинной веры и милости Божества.
Таковы были причины, по которым большая часть евреев отвергла новый закон и возненавидела христиан. Несмотря на эти трудности, учение Евангелия, проповедуемое в Палестине, распространилось благодаря усердию апостолов сначала в Дамаске, Антиохии, а затем в Эфесе и Смирне. Оно проникло во все города Азии, пересекло море, прошло через Архипелаг, проникло в древние храмы Греции, в богатые города Коринфа, Афин и Спарты. Достигнув Египта, несмотря на мрак суеверий, оно быстро приобрело множество последователей в Александрии, где активность огромной торговли собирала людей из всех стран, приверженцев всех религий, философов всех школ, и общественный интерес требовал терпимости.
Рим, которому суждено было стать столицей христианского мира после того, как он перестал быть центром идолопоклонства, вскоре принял в своих стенах всех сторонников этого нового культа.
Отрывок из Тацита доказывает, что во времена Нерона, через семьдесят лет после рождения Иисуса Христа, в этом городе уже существовало большое количество христиан; но в то время их часто путали с иудеями. Суровая мораль Евангелия, проповедуемая бедными и простыми людьми, была слишком противоположна гордости знати и испорченным нравам богатых, чтобы быть благосклонно принятой ими. Она могла быть с радостью воспринята только несчастными, рабами, угнетенными, всеми теми, кто нуждался в надежде на другую жизнь, чтобы утешиться в невзгодах, которые они испытывали на земле; поэтому история окутывает первые шаги христианства завесой тайны.
Начиная почти в безмолвии эту грандиозную революцию, которая изменила взгляды и нравы мира, христианство двигалось, росло в тени и распространялось долгое время, прежде чем привлечь на себя презрительные взгляды высших классов, занятых лишь распрями князей, придворными интригами и непрерывно оглушаемых триумфами или поражениями армий, падением или возвышением тиранов, волнениями в общественных собраниях, пышностью празднеств и торжественностью игр.
Даже те люди, которые были наиболее заняты поисками истины и посвящали себя изучению философии, в большинстве своем имели в своих трудах лишь одну цель – углубить системы, наиболее подходящие для того, чтобы сохранять душу в спокойствии среди жизненных бурь, увеличить сумму наших наслаждений и уменьшить количество страданий. Они искали земного счастья; одни помещали его в добродетели, другие – в чувственных удовольствиях; оставляя народу веру в Тартар и Элизий, они смеялись над богами мифов, не верили в других богов или допускали лишь смутные идеи о судьбе и провидении, считая химерическими любые поиски блаженства за пределами жизни.