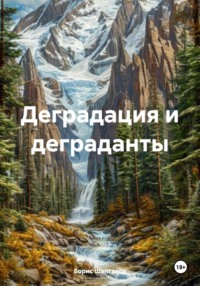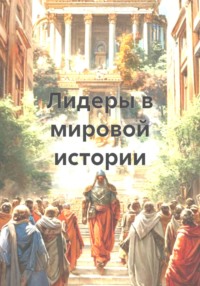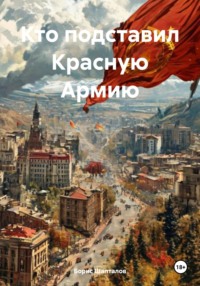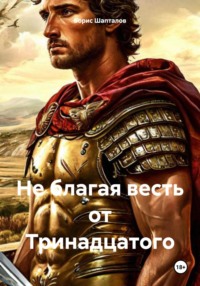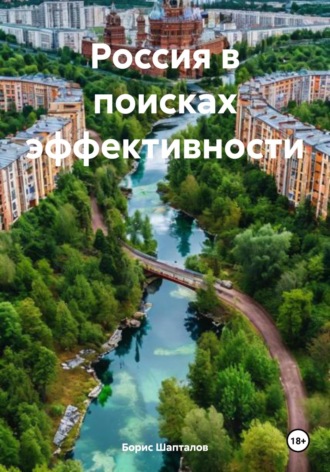
Полная версия
Россия в поисках эффективности
Эстафету сформировавшихся как социальное явление политиков «восточной» формации принял внук Александра Невского Иван Калита (1328-1341). Он обогатил и расширил арсенал приемов макиавеллистской политики задолго до рождения Макиавелли. Иван Калита добился успехов, о которых говорят: «Подлец конечно, но каков результат!» По эффективности и неразборчивости в средствах он предвосхитил Ивана Грозного и Сталина, и также попал под рубрику «победителей не судят». А он был типичным победителем.
В центре борьбы традиционно был ярлык на великокняжеский стол. Главными претендентами на старшинство среди князей в то время были тверские князья. Но у них был один существенный порок: они тяготились ордынским господством. В 1327 году тверской князь Александр поддержал стихийное восстание жителей Твери против насильничавших ордынцев. Хан поручил мелкому московскому князю Ивану (будущему Калите) наказать Тверь. Иван охотно выполнил поручение. Под его предводительством московско-ордынская рать разгромила и разорила Тверское княжество. Как выразился летописец: «всю землю Русскую положиша пусту». А предатель получил награду – ярлык на великокняжеский стол. Так началось восхождение новой династии и захудалого княжества к вершинам могущества.
Характерно его поведение по отношению к своему конкуренту князю Александру. Приведем здесь объективный рассказ Н. Карамзина, изучивший обстоятельства дела непосредственно по летописям. «Иоанн не хотел прибегнуть к оружию, ибо имел иное безопаснейшее средство погубить Тверского князя.., он спешил в Орду и взял с собою двух старших сыновей, Симеона и Иоанна; представил их величавому (хану) Узбеку, как будущих надежных, ревностных слуг его рода; искусным образом льстил ему, сыпал дары, и совершенно овладел доверенностью Хана, мог уже смело приступить к главному делу, то есть к очернению Тверского Князя. Нет сомнений, что Иоанн описал его закоснелым врагом Монголов, готовым возмутить против них всю Россию…» (5. С.142).
Александра и сына его Федора вызвали в ставку Хана и казнили, отрубив им головы и расчленив трупы.
Но заполучить великое княжение – одна часть дела, использовать власть главного князя в интересах своего удела – другая. Иван, прозванный Калитой (Кошель, Кошелек), стал верным слугой Орды, взяв на себя неблагодарное, но выгодное занятие сбора дани, уворовывая часть себе. Точнее, он собирал для Орды все положенное, а остальное «добирал» у соплеменников. Специфический талант Ивана Калиты так понравился позднейшим поколениям российской бюрократии, что они канонизировали его образ в школьных учебниках, взяв его практику на вооружение.
Обнищание одних ради обогащения другого было воплощено в быстром территориальном приращении московского княжества, в том числе путем покупки задолжавших земель. В итоге из мелкого, рядового княжества, оно быстро превратилось в одно из самых крупных в Северо-Восточной Руси. Но тем самым это означало, что на тот период закончилась борьба за выбор цивилизационного ориентира. Русь окончательно была развернута лицом к Востоку. Калита продолжил линию Александра Невского по переделке национального характера с западного менталитета на восточный лад. Раболепие сверху до низу становилось неотъемлемой чертой социального бытия, как и положено в типичной восточной деспотии.
Сторонники политики Александра Невского и Ивана Калиты оправдывали их деяния вполне убедительным доводом: эти князья вынуждены были покориться Орде и использовать те методы политики, которые были возможны в тех условиях. Аргумент сильный. В условиях раздробленности правящего класса Руси, его неумения и нежелания объединяться, централизованная Золотая Орда была явно сильнее. Вот только зачем негатив выдавать за позитив? Князья не умели решить организационную задачу – объединиться (с тем же Даниилом Галицким) и подготовить ответный удар, а раз так, то хвала князьям-коллаборационистам! И если бы дело свелось просто к внешнеполитическому подчинению Руси Орде. Но русское государство в лице большей части правящего класса стало впитывать привычки и вкусы восточной деспотии. Причем новая – «восточная» – формация правящей элиты, заинтересованная в обладании максимальной властью и завязанной своими интересами на Орду, принялась самым активным образом вытеснять патриотически настроенных «западников» из системы власти. И сильно преуспела в этом! «…политическая жизнь русской федерации киевского периода строилась на свободе, – писал историк Г. Вернадский, кстати, благожелательно относившийся к значению Орды. – Три элемента власти – монархический, аристократический и деспотический – уравновешивали друг друга» (6. С.342). Типичный князь древней Руси не был самодержцем, а его подданные рабами. То был европейский путь развития. Эволюция же московского государства привела к совершенно иному, «неравновесному», результату – к самодержавию в тоталитарном варианте. Под эту политическую планку сформировали затем и само общество, превратив в последующем в рабов-крепостных большую часть сельского населения, а служилых людей – дворянство – в рабов трона. Структурированное по европейским канонам общество древней Руси в северо-восточной ее части трансформировалось «в общество обязательной повинности» (Г. Вернадский), каковым, с вариациями, и пребывало до конца ХХ века. Без понимания этого генотипа России, включающего в себя менталитет российского правящего класса и служилой бюрократии, экономические и духовные ценности широких слоев населения, невозможно понять всю последующую российскую историю с ее зигзагами и провалами.
Прав, Е. Стариков, что Иван Калита «стал, по существу, первым главой ордынской администрации на Руси… В то время как на западе Европы объединяющей, скрепляющей силой зарождающихся национальных государств все более становились рыночные отношения и их носители города, «третье сословие», на Руси таким государственным интегратором становится подаренная монголами редистрибутивно-пирамидальная структура «поголовного рабства»… Когда иго было свергнуто, смонтированная редистрибутивная структура не только осталась, но в усиленном варианте превратилась в становой хребет московской государственности» (3. С.283).
Правда следует отметить, что система внеэкономического принуждения и изъятия прибавочного продукта (редистрибуция) окончательно оформилась лишь при Иване Грозном и первых Романовых, а до этого «европейский» вектор не хотел уступать без боя «азиатской» альтернативе.
Коллаборационистская политика примирения с Ордой, основанная Александром Невским, пустила столь глубокие корни, что когда представилась возможность обрести полную независимость от нее, то пришлось преодолевать внутренние тормозящие факторы. Успехи Литовского княжества показали насколько ослабла Орда. В 1320 г. литовцы захватили Киев и следом все земли западнее Днепра до границ Польши. В 1339 г. – смоленские земли. И степняки с этим процессом «усыхания» подвластных им территорий ничего поделать не смогли. Была попытка. Орда направила свою армию, но в 1362 г. произошла первая «Куликовская битва». Русско-литовское войско в битве при Синих водах разгромила ордынцев. Больше они в пределы Литовско-Русского государства не совались. Дл победы надо было лишь одно – объединиться!
С 1360-х Орда пережила «великую замятню». Там за 20 лет сменилось 14 ханов, большинство из которых было убито. Лишь тогда великий князь Дмитрий осмелился изменить политику, и собранное им войско из разных княжеств разгромило ордынцев в 1380 году. Однако единство тут же было потеряно, и Орда вновь – в 1382 г. – легко восстановила свою гегемонию. Причем без всякого нового сражения, просто осадив и взяв обманом Москву. Москвичи открыли ворота и были жестоко наказаны за легковерие. Упрись тогда защитники, и ордынцам пришлось бы повернуть назад ни с чем. Хану Тохтамышу сил хватало только на грабеж близлежащих районов. И как только появилась угроза нового генерального сражения, он тут же увел свое войско назад. К этому времени литовские князья без труда овладели всей территорией бывшей Руси по Днепру, как бы показывая насколько ослабла Орда. После смерти Дмитрия Донского Северо-Восточная Русь уже не пыталась подняться даже когда среднеазиатский правитель Тимур в 1389 г. разгромил Орду, а в 1395 г. уничтожил ее столицу Сарай. Он с войском прошел всю ее территорию от Волги до Днепра, от Крыма до русских границ, выжигая поселения на своем пути. Московская Русь вполне могла воспользоваться столь благоприятной ситуацией. Но отход Дмитрия Донского от заветов Невского и Калиты не прельстил правящую элиту и та привычно вернулась к роли вассала Орды.
В 1396 г. Тимур ушел к себе с огромной добычей, оставив за собой разоренную и раздавленную Орду. Она пережила свое «батыево нашествие». Спасло ее в тот период два благоприятных внешнеполитических обстоятельства: пассивная позиция московско-владимирской Руси и заключение великим князем Ягайло унии с Польшей. С этого момента Литва, вовлеченная в европейские политические дела, прекратила натиск на Орду.
К XV веку от Золотой Орды отпали многие территории (Сибирь, Средняя Азия, современный Казахстан. В 1440-е годы из нее выделилось Казанское ханство. Однако и эти благоприятные обстоятельства не подвигли князей на разрыв с Ордой. Многие князья продолжали смотреть на нее как на союзницу и потому приводили на Русь новые отряды кочевников. Лишь в 1480 г. Иван III изменил политику, и Московско-Русское государство осмелилось, наконец, бросить вызов Орде, и та спасовала. Ее войско, простояв на границе, повернуло назад, не дав генерального сражения. Этим годом и датируется конец ордынской гегемонии на Руси. К этому времени с властью степняков (монголы уже давно растворились в среде покоренных ими кочевых племен) покончили практически все ранее завоеванные монголами страны и народы. Даже маленькое Грузинское государство освободилось от них на столетие раньше Руси!
О том, что сила и могущество Золотой Орды явно преувеличена историками, свидетельствует взлет небольшого окраинного Литовского княжества. Пользуясь параличом воли остатков обескровленного правящего класса западнорусских княжеств, оно в первой половине ХIV века без серьезного сопротивления присоединило к себе эти территории. По существу, в определенном смысле можно говорить о «призвании литовцев» западнорусскими землями, столь формальным было противодействие их отрядам. Причем то был период наивысшего могущества Золотой Орды. Казалось бы, Орда должна «размазать» нахальное княжество, уводившее от них данников. Однако ничего подобного не произошло: даже после овладения Литвой Киевом в 1321 году, даже после выхода к Черному морю (1362 г.), Орда уклоняется от решительной схватки с ней. И не случайно. Тех сил, что были во времена Батыя уже не существовало. Потому неплохо чувствовали себя генуэзцы в Крыму, несмотря на то, что находились от своей страны в тысяче километров. Им принадлежало там ряд крепостей, не подчинившихся властям Орды – Судак, Балаклава… Попытки ордынцев отнять их (например, Кафу-Феодосию в 1344 г.) оказывались безуспешными.
За все время своего существования Золотая Орда не совершила ни одного серьезного похода против других европейских стран, ограничившись несколькими грабительскими рейдами. Да и они вскоре прекратились. Единственным гарантированным источником ее внешних доходов осталось наследие Александра Невского – дань с Руси. Больше ей подчиняться никто не хотел, а заставить она не могла! Именно это обстоятельство и дало право евразийцам типа Л. Гумилева отрицать ордынское иго и доказывать существование взаимовыгодного симбиоза Руси, что было совершенно верным умозаключением, но с одним принципиальным уточнением. То был симбиоз не Руси в целом, а правящей элиты (после соответствующей чистки) и церковной верхушки с Ордой. (Особняком стоят фигуры князей Твери, Дмитрия Донского и священника Сергия Радонежского. Правда, последний к высшей церковной иерархии не принадлежал). Взаимовыгодный союз князей-коллаборационистов и степняков исчерпал себя лишь после естественной смерти самой Золотой Орды, распавшийся на ряд независимых и, главное, небольших, а значит, не особо сильных государств. Зато этот союз позволил небольшому московскому княжеству вознестись до главенствующего уровня гегемона на Северо-Востоке Руси, ведь московские князья убирали своих конкурентов руками ордынцев. (В Орде, по наущению московского Юрия Даниловича и Иваны Калиты, с 1304 по 1319 гг. погибли великий князь Михаил Тверской, его сыновья Дмитрий и Александр, внук Федор Александрович. Только после этих убийств вопрос о великокняжеском ярлыке был решен окончательно). Платить же пришлось свободой и жизнями своих одноплеменников и единоверцев. Но свобода – ценность относительная. Кто хоть немного знаком со средневековьем знает, что ценность человеческой жизни в те времена практически равнялась нулю, а свобода была категорией отвлеченной. Зато конкретные материальные и политические интересы котировались очень высоко. Впрочем, такое положение вещей характерно не только для средневековья…
Историк Н. Костомаров метко заметил: «Чтобы ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и сами усвоить их качества». И ни были усвоены северо-восточной Русью, что в последующем привело к появлению огромной империи, мало уступавшей монгольской. Вот только эти победоносные качества, усвоенные у степняков-кочевников, были победоносны пока не пришла индустриальная эпоха, и то, что было плюсом стало минусом.
Князья-коллаборационисты сделали ставку на Орду и выиграли. А раз выиграли, они получили силу, в том числе силу в создании идеологической завесы над своими деяниями. Чтобы убедиться в эффективности проведенной работы, достаточно раскрыть некоторые школьные учебники истории и прочитать благостные рассуждения о московских князьях времен коллаборационизма, в том числе об отсутствии другого варианта, нежели союз-подчинение Орде. А другим вариантом могло быть только поиск путей к сопротивлению. Неудача попыток Даниила Галицкого и Андрея Ярославича как будто опровергает этот вариант, если б не опыт маленькой Литвы.
3. Литовский вариант: за и против
Литовский вариант интересен тем, что земли Руси вторично призвали внешнюю этническую силу. Необходимость такого шага была вызвана тем обстоятельством, что местная боярско-княжеская элита не могла решить насущные вопросы бытия бывшей Киевской Руси – защиты от внешних врагов и объединение земель в единое, сильное государство. Что же получилось на этот раз?
Взлет маленького литовского племенного союза связан с феноменом всплеска национальной энергии, внятного объяснения которому у этнопсихологов нет до сих пор. Почему в какой-то период у небольшого народа (персов, македонян, римлян, арабов, скандинавов, монгол, тюрков-сельджуков и т.д.) появляется сила, способная сокрушить более сильных и опытных противников? Непонятно… Но именно такой энергетический протуберанец выбросили литовцы в ХIV веке. Шансов выбиться из лесисто-болотистой местности на просторы мировой политики у них как будто бы не было. Со всех сторон их сжимали такие мощные соседи, как Польша, Тевтонский орден и Русь. Литовским князьям даже пришлось разделиться. Выбиралось два великих князя. Один постоянно вел борьбу с немецкими рыцарями, другой наступал на земли Руси. Легче всего пришлось тем князьям, кто вступил на славянские территории. Сопротивление литовским дружинам там было слабым и формальным. Историки не знают ни одного крупного сражения между литовцами и русичами. Не имея возможности после смерти Даниила Галицкого выдвинуть из своей среды лиц, способных возглавить борьбу с Ордой, местная ослабевшая элита предпочла встать под руку более сильных этнических элементов – новых «варягов».
Литовские князья, начиная с Гедимина (1316-1341), в течение нескольких десятилетий объединили под своей властью земли коренной Руси, то есть те территории, что вошли в состав варяжско-русского государства к середине Х века, за исключением Новгорода. Первоначальный центр Руси, откуда началось движение варягов и объединение восточно-славянских племен, на этот раз предпочел сохранить свою независимость. Это было естественно. Новгород набрал силу и представлял собой вполне самодостаточное государство, по размерам превышающее многие европейские страны. Вот только очевидность положения оказалась для Новгорода роковой. Республика через столетие все равно войдет в состав другого, более сильного государства – Московского княжества, уничтожившего его вольности.
Итак, под властью литовских князей на месте бывшей Киевской Руси вновь образовалось крупнейшее феодальное государство, которое по силе не уступало Золотой Орде, а в перспективе явно превосходило ее по возможностям. Требовалось еще немного: закончить объединительный процесс с Северо-Восточной Русью и тогда обрушиться на Орду на всем ее протяжении – от истоков Волги до Крыма. Орда не смогла бы устоять перед совместными силами вновь объединенной Руси. Хранители остатков Орды турки-сельджуки в ХIV веке еще были далеко от Северного Причерноморья. Еще не был взят Константинополь. Тогда бы, на триста лет раньше, на просторах Восточной Европы могла возникнуть супердержава, простиравшаяся от Карпат до Урала, от Балтийского моря до Черного. Такой колосс мог бы на равных побороться с турками за Константинополь. Причем это было бы сугубо европейское государство и полноценная преемница Киевской Руси.
Однако ничего этого не произошло. Вернее, все эти события были отодвинуты на 300-400 лет позже, когда на просторах Восточной Европы появилась-таки назревавшая сверхдержава – Российская империя. Само ее появление доказывает, что историческая возможность создания Русско-Литовского государства была вполне реальной и не реализовалась лишь по субъективным причинам. Камнем преткновения стал не Великий Новгород, а другой политический центр – растущее Московское княжество, которое само претендовало на главенство в объединении Северо-Восточной Руси.
Фактически сепаратизм Москвы сорвал объединение Руси в прежнем территориальном составе. Более того, это вызвало далеко идущие этнические процессы, в результате которых появилась новый народ-нация – русские, что сопровождалось отчуждением от него «западных» славян, ставших белорусами и украинцами.
Первая проба сил между двумя объединительными силами произошла в 1368 г. В тот год московское войско осадило Тверь. Тверской князь Михаил бежал в Литву за помощью к своему зятю – великому князю литовскому Ольгерду. Тот немедля собрал войско и двинулся к Москве. Осенью литовско-русское войско вошло в Москву и осадило Кремль. Но осада продолжалась всего три дня. Нападение ливонских рыцарей заставило Ольгерда повернуть назад. Так сорвалась первая объединительная попытка.
Вторично литовское войско, вместе со смоленскими и тверскими ратями, пошло на Москву в 1370 году. Но каменные стены Кремля оказались не по зубам осаждавшим. Ольгерд вынужден был заключить перемирие с московским князем Дмитрием. Безрезультатно закончился поход и в 1372 году. Судьба Северо-Западной Руси окончательно была решена в пользу Московского княжества. Сама же бывшая Киевская Русь осталась расколотой на две части. Малочисленные варяги в IX веке на своем пути ни разу не встретили серьезную контрсилу и могли без помех создавать свое государство, а литовские князья в своем движении столкнулись с другой пассионарной силой и остановились. Остановка оказалась для них роковой. Как и для бывшей Киевской Руси, потерявший перспективу возрождения.
Насколько удачным был «литовский вариант»? Славянский характер Литовско-Русского княжества был предопределен малым удельным весом Литвы и литовцев в сравнении со славянским массивом. Ассимиляция литовской верхушки была практически неизбежна, как это произошло с варягами. Сыновья родоначальника литовской княжеской династии Гедимина носили литовские имена – Монвид, Наримунт, Явнут, Кейсут, Любарт. А вот внуков звали уже иначе – Патрикей, Дмитрий, Юрий. Хотя одного внука еще звали по-литовски – Витовт (будущий великий князь), а другого уже по-польски – Сигизмунд. Эти имена указывают на перепутье, что оказался литовский правящий класс…
Великий князь Ольгерд (1345-1377), который завершил объединение западных земель бывшей Киевской Руси, был женат первым браком на витебской княжне, а вторым – на дочери тверского князя. Дочерей своих также выдал за русских князей: одну за суздальского князя, другую – за серпуховского. Хотя сам Ольгерд оставался язычником, но сыновья его, вслед за матерями, перешли в православие. Характерно, что носили они славянские имена – Андрей (князь Полоцкий), Дмитрий (князь Брянский), Владимир (кн. Киевский). Все шло по варяжскому сценарию. Хотя были и литовские имена – Ягайло (король польский), Скиргайло… В официальных документах того времени государство называлось «Литовское и Русское». По мнению маститого историка С.Ф. Платонова «Литва была вполне русским государством с русской культурой, с господством русского князя и православия» (7. С.162). Несмотря на свое язычество, под семейным влиянием Ольгерд долго добивался от Константинополя основания литовской митрополии. И добился своего. Константинопольская патриархия прислала митрополита. Московские князья справедливо видели в этом шаге попытку противопоставить их церковному центру новый церковный центр, также претендовавший на роль единого для всей Руси.
Столкнувшись с упорным сопротивлением Московского княжества, часть литовской правящей элиты повернула свой взор на Польшу, а по существу к Европе, что было закономерно-неизбежным в силу растущего цивилизационного превосходства «Европы» над «Азией»..
После смерти Ольгерда в 1377 году вдохновителем нового политического курса стал его преемник великий князь Ягайло, без колебаний выбравшего в качестве политического и культурного ориентира Западную Европу. На этом пути он столкнулся с противодействием литовской знати православной ориентации. Так, сыновья Ольгерда князья Андрей и Дмитрий, рассорившись с Ягайло, перешли на службу к московскому князю Дмитрию и приняли участи в Куликовской битве. Но Ягайло сумел подавить оппозицию.
В начале 1380-х годов появилась новая возможность сближения Литовского княжества с Северо-Восточной Русью, теперь уже в лице самой Москвы. Кем-то из сторонников такого сближения была выдвинута идея о браке князя Ягайло с дочерью Дмитрия Донского. Однако проект провалился. Альтернативе сближения с Москвой Ягайло выбрал возможность стать королем Польши. Но до полного разрыва было еще далеко. Другой литовский великий князь – Витовт (напомню, что Литве приходилось воевать на два фронта, отсюда двойное княжение) – отдал свою дочь Софью за сына Дмитрия Донского Василия. Первенцем в семье стал будущий великий князь Василий II.
В 1386 г. была заключена первая уния между Литвой и Польшей, скрепленная браком польской королевы и литовского великого князя Ягайло. По условиям договора Литва принимала католичество. Для Ягайло это не было чрезмерным требованием, Польша стоила обедни! Были вписаны и некоторые другие меры объединительные меры. Процесс пошел. Он был долгим и растянулся на 200 лет! Слабеющей литовской элите, постепенно ассимилирующейся среди местного народа, требовалась иная идеологическая и культурная ориентация, чем традиционные ценности. Язычество и в Литве уходило в прошлое под напором более высокой культуры Европы. Как в свое время у князя Владимира у литовской знати был выбор. Только теперь выбирать приходилось между православным и католическим политико-культурным потенциалом. Вектор выбора колебался то в одну, то в другую сторону, и это было естественным. Такой объективный фактор, как доминирование славянского православного населения в Литовском княжестве подвигал к выбору в пользу православно-византийской культуры. Однако слабость умирающей Византии не позволяла ей сыграть активную политическую роль в этой борьбе, подобно той, что она сыграла в варяжский период Руси. В то же время растущая культурная сила Западной Европы оказывала все возрастающее влияние на Литву, втягивая ее в свою орбиту. Но этому противодействовал другой фактор – вековая, почти нескончаемая война с католическим Тевтонским Орденом.
Борьба между сторонниками «восточной» и «западной» ориентации тянулась очень долго. Но если католический Запад в лице Польши предпринимал регулярные усилия по привлечению правящего класса Литвы на свою сторону, то со стороны другого центра – Северо-Восточной Руси – их было слишком мало. Но они были. Например, в конце 1420-х годов тверской князь Борис Александрович помог Витовту добиться присяги на верность от рязанского и пронского князей. Фактически, возможно сами того не сознавая, тверские князья выступали за объединение Руси по прежним варяжским лекалам, в тех исторических условиях идя на «литовский вариант». Но московские князья неизменно брали верх. Московское княжество находилось на подъеме и не собиралось расставаться с ролью лидера в землях бывшего Владимиро-Суздальского княжества. В конце концов, за ним стояли традиции Юрия Долгорукова и Андрея Боголюбского, также претендовавших на первые роли в Киевской Руси. И у Москвы был шанс объединить Киевскую Русь!