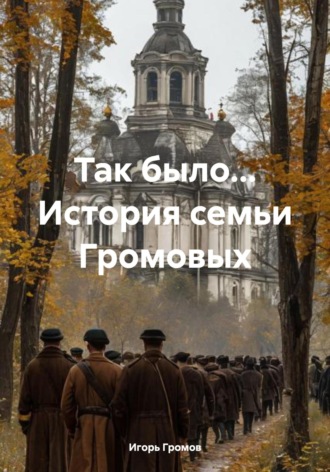
Полная версия
Так было… История семьи Громовых
Наутро поехали дальше. Дорога все время шла лесом, который по обе её стороны стоял стеной. После одной из остановок у нас появился возница – хмурый и неразговорчивый мужик. Маме он не понравился.
Вначале мы ехали будто бы хорошо, но потом вдруг пошел снег, да такой густой, что не стало видать ни зги! Да ещё завечерело. Вдруг лошади остановились. А ещё выезжая с постоялого двора, мама заметила, что извозчик положил себе под сиденье топор. И вот, когда дровни остановились, мама его спрашивает:
– Что случилось, почему стали?
Мужик ничего не ответил и стал вытаскивать из-под сиденья топор. Кругом густой лес и никого, чтоб позвать на помощь, нет. Тогда мама уже громким и тревожным голосом спрашивает:
– Ты что остановился, в чем дело?
Тревожный голос мамы разбудил меня. Я проснулся и высунул голову из ротонды. Мама была одета по-городскому, в меховую ротонду, и вид у нее был как у настоящей барыни, так что можно было предположить, что у мужика на уме было намерение нас убить и ограбить – одни, посреди леса…
Тут, наконец, мужик пробурчал:
– С пути мы сбились, пойду – поищу дорогу.
Он сполз с саней на снег, утонув в нем чуть не по пояс. С трудом переставляя ноги, он двинулся в сторону леса и скрылся среди деревьев. Оттуда, через некоторое время, послышались удары топора. Вскоре показался и сам мужик. В руках у него была длинная слега. Ничего нам не сказав, он пошел искать дорогу, щупая снег впереди себя этой слегой.
У нас отлегло от сердца! Стало ясно, что он убивать нас не собирается, а действительно, пошел искать дорогу. Скоро и снег перестал идти. Наступила тишина. Такой тишины я никогда раньше не слыхал. Она была какая-то глухая. Любой случайный звук, раздававшийся в этой тишине – будь то треск сучка или скрип снега тонул, как в вате – будто заложило уши!
Мы просидели в дровнях часа полтора, если не больше. Несмотря на ночь, в лесу было сравнительно светло. Я опять юркнул в мамину ротонду. Там было тепло, и я опять заснул. Проснулся от маминого голоса:
– Эй, извозчик! Куда ты пропал?
Я высунул голову и в зыбком лунном свете разглядел возвращающегося к саням возчика. Он подошел, и хмурым голосом сообщил, что нашел дорогу и что трактир недалеко – скоро будем на месте. Сел на передок, взял в руки вожжи и замерзшая лошадка, выбравшись на дорогу, побежала рысью.
Вскоре мы приехали на постоялый двор, откуда до нашей деревни было рукой подать.
Бурдуки оказалась небольшой деревней – не больше десяти домов, по самую крышу утонувших в снегу. Кругом деревни стоял дремучий лес.
Пока мама здоровалась с родственниками, я вышел во двор. У дверей стояли лыжи, которые я, недолго думая, надел и ушёл на них гулять в лес. Хорошо, что меня скоро хватились – дядя Доримедонт нашел меня по следу – ушёл я, слава Богу, недалеко.
Из деревенской жизни мне запомнилось немногое. Помню только вечера при лучине.
Обратно в Петербург ехали почему-то другой дорогой. Впрочем, я и туда и обратно дороги не запомнил.
Дома, на Крестовском, меня ждали старые друзья. К этому времени появился у меня и новый приятель – Жоржик Колотов, хилый, болезненный мальчик, одних со мной лет и недалеко живший. Его родители тоже были небогаты. В то время все мальчишки увлекались игрой в так называемые «карточки» – верхние крышки от папиросных коробок.
Каждая такая карточка оценивалась в определенное количество очков. Более простые – такие, как «Зефир» – в 5 очков, «Кадо» в 10, а более дорогие, с красивыми картинками, стоили до 25 очков. Крышки же от самых дорогих папирос оценивались очков в 50! Игра заключалась в том, что надо было подбросить карточку вверх, как при игре в орлянку, и пока она летит вниз, загадать – как она ляжет: картинкой вверх или вниз. Проигравший отдавал свою карточку, или если кидал не он, а проигрывал кидавшему, приходилось отдавать такую же по ценности, какую кидал выигравший партнер.
Или играли в накидку – выбирали плоский камушек, на «кон» клали эти крышки, а сами с определенного расстояния старались накинуть каждый свой камушек на «кон» (стопку крышек от папиросных коробок). Тот, кто попадал на «кон» или, если никто не попал – то тот, чей камушек падал ближе всех к кучке, (а расстояние от упавшего камушка-биты до «кона» измерялось растопыренными пальцами – от кончика большого пальца, до кончика мизинца) – тот первым бил своим камушком-битой по «кону». Считались выигранными те крышки, которые от удара переворачивались. Этой игрой мы все очень увлекались, и у всех был накоплен изрядный запас этих самых крышек от папиросных коробок. У меня их столько набралось, что при уборках их стали просто выкидывать в мусор, из-за чего я один раз чуть не подрался с Марусей.
Тогда же у меня появился лук со стрелами, которые я сам навострился делать. Брал сосновую, без сучков, дощечку, вбивал в ее торец гвоздь острием вверх и строгал её до тех пор, пока не получалась тонкая стрела с наконечником из острого гвоздя. Такая стрела с расстояния в 10-12 шагов пробивала насквозь доску толщиной в пару сантиметров.
Помню, как однажды я стрелял из этого лука у нас во дворе. А рядом с нами жил мальчик одних со мной лет, сын чиновника-интенданта. Звали его Сережа Данилов. Этот Сережа, увидев что я стреляю из лука, зашел к нам во двор, посмотреть, и стоял рядом со мной, жуя булку с маслом.
– Смотри! – говорю ему, – как высоко полетит стрела. И стрельнул вверх. Стрела взвилась и … скрылась из вида. В этот момент Серёжа наклонил голову чтобы откусить булки и – о ужас! – упавшая сверху стрела вонзилась прямо ему в голову! Сережа вынул изо рта булку и медленно пошел к своему дому. Именно пошел, а не побежал. Стрела торчала из его головы. Он даже не заплакал.
Что было у него в доме, я не знаю, но назавтра он вышел гулять как ни в чем не бывало, и скандала по этому поводу не было. Стрелу, впрочем, мне не вернули…
От Шуры, так же, как Кролик, достался нам и Нерка – кобель сенбернарской породы – пес с большой башкой и широкой грудью. Пес был замечательный, сильный и красивый, но что-то сделалось у него с задними ногами – они у него стали слабыми, полупарализованными. Больше всех Нерка любил Марусю – она ухаживала за ним и кормила его. Нерка был незлобивым псом, но ухаживавшего за Марусей Варфоломея Ишковича почему-то терпеть не мог. Чуть завидит этого Ишковича – так с громким лаем бросается на него. И Ишкович его, страх, как боялся. Да и любой бы испугался: гавкающий Нерка спереди был, действительно страшен. Обычно Варфоломей или прятался, или спасался за какой-нибудь дверью. Но однажды он пришел с чёрного входа, а Нерка как раз лежал перед этой дверью. Увидев своего врага, Нерка бросился на него с оглушительным лаем. Варфоломей отступил обратно на крыльцо, и хотел было перед Неркой захлопнуть дверь, но в это время, от сотрясения, сорвалась поперечная пила, висевшая рядом с дверью и упала так, что ее стало невозможно закрыть – образовалась большая щель, в которую и просунулась громадная Неркина башка с оскаленной пастью. Варфоломей, побледнев, с трудом удерживал дверь несколько минут, пока не прибежала Маруся и не оттащила Нерку. Варфоломей был ни жив, ни мертв – ему было уже не до ухаживаний. Дали ему воды, чтоб он успокоился. Будь Варфоломей похрабрей и не бегай он от Нерки – может тот, в конце-концов, и привык бы к нему.
Время шло – я взрослел. Скоро надо было идти в школу.
А в 1899 году я познакомился с игрой в футбол. В то время на большой поляне, которую охватывала с одной стороны Надеждинская улица, а с другой – был берег речки Крестовки и Каменные острова, обосновался «Петербургский кружок любителей спорта». Они устроили на этой поляне футбольное поле, а мы – мальчишки, пролезая под проволокой которой они оградили поляну, пробирались на футбольное поле и смотрели, как гоняли мяч футболисты. Глядя на них, и мы – ребята с Константиновского проспекта, стали играть в футбол.
В 1901 году мне исполнилось 9 лет, и мама с большим трудом устроила меня в гимназию при Университете. На пряжке моего форменного ремня красовались пять букв: «С.П.И.Ф.Г.» – Санкт-Петербургская историко-филологическая гимназия. Ученики других гимназий, дразня нас, расшифровывали это по-своему: «Спи, Федор Гаврилыч!». Эта гимназия являлась подготовительным учебным заведением для Университета. В ней, с младших классов, начинали учить четыре языка: греческий, латинский, немецкий и французский. Плюс русский, математику, чистописание, закон Божий и другие предметы. Я, выросший среди простых, подчас неграмотных людей, почти в лесу, за городом, попал в учебное заведение, в котором с трудом учились даже дети из культурных семей. Вобщем, оказался я в этой гимназии не в своей тарелке. Все эти языки оказались для меня непонятной и непостижимой мудростью, дома же мне никто не мог помочь в постижении этих наук. Естественно, что в гимназии я вскоре стал получать сплошные колы и двойки. К тому же ходьба с Крестовского острова на Университетскую набережную была для меня утомительна. В результате в приготовительном классе меня оставили на второй год. Педагоги занимались с нами формально: знаешь его предмет – хорошо, не знаешь – получи кол! Классный наставник меня все время бранил.
Мама, видя мои неуспехи, огорчалась. Она очень любила меня, баловала, так что ко времени поступления в гимназию, я вырос в безалаберного, недисциплинированного, не приученного к труду оболтуса, и учеба в этой гимназии быстро мне осточертела. У меня там не было ни товарищей, ни хороших наставников – пребывание в ней не оставляло во мне никаких следов. Единственным ярким пятном в памяти от этого времени осталось одно событие, невольным свидетелем которого я стал зимой 1903 года.
Я возвращался из гимназии, и около Дворцового моста встретил процессию. Несли иконы, хоругви, церковные стяги. Впереди несли портрет Государя. Из любопытства я увязался за этой процессией и с нею попал на Дворцовую площадь. Все пели: «Боже! Царя храни!» и смотрели на окна дворца. Смотрел и я. И вскоре на одном из балконов появился царь. Из-за перил виднелась только его голова и плечи. Он кланялся во все стороны, а толпа неистово кричала «Ура!» и бросала вверх шапки. Таким вот образом, единственный раз в жизни, я видел царя. Потом он ушел с балкона, и толпа разошлась.
Один раз, помню, мне до того тошно стало ходить в эту школу, что в этот день я туда вовсе решил не ходить. Дойдя до Александровского проспекта (ныне – проспект Динамо), я свернул вправо, в лес. Пройдя с полкилометра, я увидел высокую и толстую березу, а под ней чернела сделанная кем-то из тряпья постель, если её можно было так назвать, потому что это была просто куча грязных лохмотьев. Но было видно, что на ней еще недавно спали.
– Ага, – подумал я, – это лежанка разбойников! Вероятно, под тряпьем спрятаны их сокровища!
Я палкой разворошил постель, но кроме грязного рванья, ничего не нашел. После того, как мне не удалось найти разбойничьих сокровищ я, не собрав разбросанных мною лохмотьев, решил взобраться на березу, ещё покрытую листьями. Ранец висел у меня за спиной и не мешал мне карабкаться вверх по сучьям. Лазать по деревьям я был мастак, и быстро забрался почти до верхушки и стал обозревать оттуда местность. Вдруг под березой послышались голоса. Я посмотрел вниз и увидел двух бродяг – мужчину и женщину. Оба они с удивлением рассматривали свою разорённую постель. Мужчина начал ругаться и погрозил кому-то кулаком. Его дама стояла рядом, озираясь вокруг. Я – ни жив, ни мертв, прижался к стволу березы. Листва надежно скрывала меня от бродяг, и они не догадывались, что разоритель их алькова прячется прямо над ними. Женщина собрала тряпье в кучу и снова сделала из него постель. Оба уселись на нее, мужчина вытащил из кармана бутылку водки, шлёпнул об её донышко ладонью, выбил пробку, и они стали пить прямо из бутылки – мужчина первым. Он отпил половину и отдал бутылку своей подруге. Та допила её до дна. Закусывали ли они чем-нибудь, я не помню. Скоро они улеглись на свою постель и уснули. Я сидел на березе и не решался слезть – спускаясь, я мог их разбудить и тогда они бы поняли, кто разорил их гнездышко. Трёпки тогда мне было бы не миновать. Спали хозяева постели, к моему счастью, недолго – не больше получаса. Проснувшись, они встали, отряхнулись и пошли вон из леса, очевидно в город, опять собирать милостыню.
Я же слез с березы и побродив по нему с часок, пошёл домой.
Так я шалопайничал, и некому было наставить меня на путь истинный…
В это время старший мой брат – Алеша, получив чин коллежского регистратора, был направлен служить в Тифлис, в тамошний Арсенал. Из маминых писем он знал, что моя учеба в гимназии не заладилась, и он предложил отправить меня к нему, в Тифлис, где я под его присмотром продолжил бы учебу. Он уже к тому времени женился на грузинке, Марии Абрамишвили (Абрамовой). Мама долго не решалась отпустить меня к Леше, ей жаль было со мной расставаться, и лето и часть зимы 1903 года я проболтался дома, ничего не делая. Лишь на следующее лето, уже 1904 года, я с мамой всё-таки поехал в Тифлис.
Город мне не понравился. После нашего Крестовского острова, утопавшего в то время в садах, разведенных около построенных домов и окруженных со всех сторон почти девственным лесом, в Тифлисе было голо и жарко. Хотя зелени и было достаточно, но скалы и камень кругом создавали для меня, северянина, впечатление раскаленности всего, что окружало меня в этом городе. Леша жил тогда на Песковской улице, в доме 20.
Пока мама была со мною, я крепился. Но когда она объявила мне, что уезжает, а я остаюсь, тут я дал волю слезам. Сказала она мне это на Арсенальной горе, куда мы с ней забрались погулять. Мы сидели на склоне оврага, отделявшего в то время Арсенал от казарм 4 стрелкового полка, и тут, после того как я набрал маме букетик полевых цветов, мама и сказала мне о своем решении оставить меня в Тифлисе на попечение старшего брата. Я бросился к ней в колени и залился горькими слезами:
– Мамочка, милая! Не оставляй меня здесь! Не покидай меня!
Мама тоже заплакала и так, заливая друг друга слезами и целуя, мы долго сидели в обнимку. Уже стало смеркаться, когда мы вернулись домой. Леша и Маруся меня всячески успокаивали, да и мама обещала забрать меня следующим летом домой.
В тот же вечер она уехала.
Долго я ходил расстроенный и украдкой плакал. Но шло время и Леша начал заниматься со мною, стал проверять мои знания которые, впрочем, были невелики. Занятия мы начинали когда он приходил домой со службы, после обеда. Я под его диктовку писал, решал заданные им задачи, а он после проверял мои уроки. Скоро, таким образом, я усвоил программу для поступления в первый класс реального училища. Реальное училище, а не гимназию, мы выбрали потому, что у меня обнаружилась склонность больше к математике, чем к языкам, особенно к латинскому.
И осенью 1904 года я поступил в первый класс Тифлисского реального училища. Среди первоклашек я был самым старшим. Впрочем нас – таких великовозрастных, в первом классе было несколько. Были и десяти и одиннадцати лет, да и ростом я особо не выделялся.
На удивление, учиться я стал хорошо. Первое время Леша мне помогал с занятиями. Мне выделили в комнате угол, где я сначала предавался воспоминаниям о Петербурге, а потом втянулся в занятия и в конце-концов, дело с ними пошло неплохо. Друзей в училище первое время у меня не было, гулять мне было не с кем, и сделав уроки, я выходил во двор. Он был не особенно широким. Это было пространство между двумя домами, с третьей стороны выходившее на Куру. В одном из домов на втором этаже и была наша квартира, а на первом этаже жил какой-то молоканин. Двор, вначале ровный, постепенно понижался в сторону реки. Чтобы сделать его ровным на всем пространстве двора, на берегу были вбиты небольшие сваи, на которые уложили доски и по краю сделали перила. Под этими досками, на самом берегу, было небольшое пространство, куда я любил забираться. Там было много плоских камушков, которые я запускал «блинчиками» по воде. Как раз напротив нашего двора Кура открывалась во все пространство – до другого берега. Справа и слева от нас по берегу стояли мельницы с большими колесами. В то время Кура была полноводной и довольно широкой рекой – метров 20. Её бурая от песка вода стремительно неслась мимо нашего двора. А напротив нас, через реку был пустынный остров. Назывался он Мадатовским, теперь его нет. На нем ничего не было, и лишь у Воронцовского моста виднелись какие-то постройки. Однажды на этот остров пригнали огромное стадо серых свиней. Когда я их увидел, то мне показалось, что по острову ползают какие-то большие серые насекомые. Пастух с палкой сидел на камне посреди стада и – не то дремал, не то крепко спал. Вот тут я решил созорничать. Я уже говорил, что любил из-под настила пускать «блинчики». И сейчас я залез под доски и стал бросать камешки, но не по воде, а навесом – прямо на остров, в стадо. Там свиней было так много, что камень обязательно в какую-нибудь, да попадал. Свинья, в которую попал мой камень, от неожиданности или взвизгивала или всхрюкивала, бросаясь в сторону и толкая других, чем вызывала небольшую суматоху в стаде. Пастух просыпался и удивленно смотрел на свиней – чего это они? Пущенных мной камешков он не видел, меня на другом берегу под настилом тоже не было видно, и он с удивлением оглядывался по сторонам. Глядел даже вверх, на небо – а я веселился на другом берегу, время-от-времени запуская в свиней свои снаряды. В конце-концов пастух, не понимая, в чем дело, снимался с места и уводил стадо на другой конец острова – от греха подальше. Зато на нашем берегу, после их ухода, воздух становился чище. Свиньи все-таки здорово его портили.
Вдоль берега Куры, а, стало быть, параллельно нашей Песковской улице, на якорях стояли водяные мельницы. Устройство их было таково: мельничное колесо своим валом опиралось на два баркаса. И таких мельниц было много поставлено по течению реки. Заходя в любой двор по Песковской улице можно было увидеть мельницу напротив двора, у берега. Только против нашего двора не было. Как-то днем, гуляя во дворе около берега, я справа – со стороны мельниц у Воронцовского моста, вдруг услышал выстрелы. Я посмотрел в ту сторону и увидел, что на палубу ближайшей ко мне мельницы выскочило человек шесть казаков. С винтовками наизготовку они целились во что-то, находившееся в воде и не видное мне с моего места. Пока я пытался рассмотреть, во что они целились, опять загрохотали выстрелы и тут я, наконец, увидел мелькавшую в воде черноволосую голову. Когда человек оказался ближе ко мне, стали видны черные усы и вытаращенные глаза. Казаки стреляли из рук вон плохо, да и мудрено им было попасть в мелькавшую среди волн и стремительно плывущую по течению голову! Вот человек набрал в легкие воздуху и нырнул. Голова скрылась под водой. Казаки сбежали на берег с правой мельницы, пробежали по нашему двору до левой, и уже оттуда стали опять палить по уплывавшему беглецу.
Потом я узнал, как все это началось и чем закончилось.
Оказалось, что этот человек сбежал из-под стражи, когда его вели в сопровождении двух казаков из суда на Головинском проспекте, в Метехский замок. Когда они дошли до середины Воронцовского моста, он, оттолкнув казаков, с высоты около 12 метров, бросился в Куру. Человек чудом не разбился. Казаки сначала растерялись, а потом бросились догонять беглеца по берегу, забегая на палубы мельниц и стреляя из винтовок. По пути к ним присоединились еще несколько казаков, невесть откуда взявшихся. Погоня закончилась близ Майданской площади, где Кура, резко изгибаясь, клокотала вдоль стен зданий, стоявших на берегу. Проплыть это место не решался ни один пловец, поэтому беглец, уже порядком уставший, доплыв до этого места, вылез на берег и сдался подбежавшим казакам.
Закавказье и Тбилиси в частности, населены разными по вере и нравам народами. Поэтому Тифлис нередко оглашался выстрелами, сопровождавшими кровавые столкновения. Помню, году в 1904 или 1905, я возвращался из училища домой. В том месте, где наша Песковская улица переходила в Елизаветинскую (позже – Клары Цеткин), я услышал частые выстрелы. Посмотрев вдоль Песковской, я ничего не увидел. Был я голоден, устал, и хотел поскорее попасть домой, а потому не стал выяснять – где и почему стреляют. Прижимаясь к стенам домов, я стал пробираться к себе, куда вскоре благополучно добрался. Дома я застал чужих людей. Тут я, наконец, узнал, в чем было дело. Оказалось, что в районе Чегурет – это от Воронцовской площади и до Майдана – шла татаро-армянская резня. Армяне, поймав татарина, убивали его. То же самое делали и татары, если ловили армянина. В нашей квартире спряталась семья татарина, жившего в соседнем доме. Спрятались, правда, одни женщины. Главы семейства не было. Когда я домашним рассказывал, как добирался до дома, с улицы снова раздались выстрелы. Мы высунулись в окно и на крыше противоположного дома увидели человека, прятавшегося за печную трубу и палившего из револьвера куда-то вдоль улицы. На улице же никого не было, и мы подумали, что стрелявший просто создает панику, что он – провокатор! Нас с Лешей это возмутило! У брата была «Берданка». Он зарядил ее, и через форточку хотел ухлопать того, на крыше. Но женщины уговорили его не стрелять – можно было привлечь внимание к нашей квартире, а у нас скрывались люди. Расстреляв все патроны, человек с крыши исчез. Я вышел на балкон посмотреть, что делается на улице. Она была пустая и тихая. Вдруг я увидел, что вдоль стен пробираются два русских солдата, а с ними перс. То, что это был перс, я определил по его шапочке. Очевидно, перс рассчитывал пробраться под охраной солдат через армянскую часть города к себе домой, в мусульманский квартал. Даже я понимал, что это было наивно и безрассудно с его стороны. Когда он и солдаты оказались метрах в двухстах от нашего дома, из подъездов и из подворотен выскочило человек пятнадцать армян, вооруженных револьверами. Перс стал умолять солдат не выдавать его, защитить. Те, выставив штыки, попытались остановить озверевших армян, но их было слишком много. Они окружили солдат и перса, а потом солдат оттеснили. Перс умоляюще складывал руки и просил пощадить его, но армяне, окружившие его со всех сторон, стали в него стрелять, и он повалился наземь.
Я больше не мог смотреть на это. Слезы застилали глаза, и я бросился назад в квартиру, чтобы уговорить Лешу застрелить из «Берданки» всех проклятых армяшек, но тот уже ушел на службу, а ружьё женщины спрятали. Я опять выглянул на улицу, но там кроме убитого перса, никого уже не было. Вдруг откуда-то появился мальчишка-армянин, вооруженный кинжалом. Он подбежал к убитому, несколько раз ткнул его этим кинжалом и убежал. Через несколько минут к трупу подошли четыре армянина, взяли того за ноги и потащили к Куре, куда, видимо и скинули. Меня трясло от распиравшей бессильной ярости и ненависти к убийцам.
Потом, правда, выяснилось, что точно такие же зверства происходили и в мусульманской части города, с той разницей, что там так же расправлялись с армянами.
Тем временем моя учеба становилась все успешнее и успешнее. Не только колы и двойки исчезли из моего дневника, но даже тройки стали редкими гостями.

Реальное училище. Тифлис. 1909 г.
Шёл 1904 год. Как-то раз мы с Лешей вышли прогуляться. На Воронцовской площади, навстречу нам, в сторону Головинского проспекта, шла процессия с хоругвями и флагами. Пели «Боже, царя храни!». Мы присоединились к ней, и дошли до Эриванской площади. Там это дело нам надоело, и мы пошли домой. Тогда, по-моему, как раз начиналась русско-японская война.
Через пару дней монархистами была организована ещё одна процессия. Говорили, что когда она проходила мимо Первой гимназии, якобы, оттуда в процессию стреляли из револьвера! Что черносотенцы, юнкера и казаки, участвовавшие в этой процессии, ворвались в эту гимназию и убивали всех попадавшихся под руку! Брехня, конечно, но все же мне судить трудно – меня в тот раз там не было.
Без особых приключений и препятствий я переходил из класса в класс.
В 4 классе на уроке пения, учитель Квардаков обнаружил у меня неплохой голос и велел поступить в хор при церкви, которая была устроена на верхнем этаже в новом здании училища, построенного на Немецкой улице. Туда перевели младшие классы, вплоть до четвертого – а в старом остались пятые, шестые и седьмые классы.
Пение в церкви и начальные занятия гимнастикой сильно развили меня физически. Надо сказать, что в то время в Тифлисе, увлекались снарядной гимнастикой. При Первой и Второй гимназиях уже были спортивные залы со всеми снарядами, и гимназисты регулярно занимались такой гимнастикой. У нас же в училище физкультурой не занимались, но мы имели понятие, что такое турник и параллельные брусья.
Рядом с нашим училищем стоял дом, принадлежавший отцу моего одноклассника, Ермолова. Он был молоканином. В подвале этого дома, в углу, мы укрепили железный лом, и на нем как на турнике, упражнялись.



