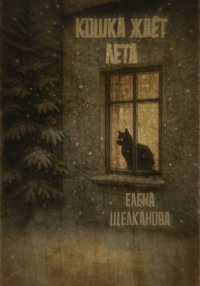Полная версия
Две Луны и Земля
– Вы, наверное, удивляетесь, почему такой интересный мужчина выбрал в жены некрасивую женщину? – спросила она.
– Да-да! – закивала головой бабушка.
– Когда Бог раздавал красоту, я все проспала, – сказала женщина, – а когда он раздавал счастье, тут уж я стояла первой.
От такой мудрости бабушка оторопела. Чем дольше длилась пауза, тем больше мы волновались. Никто не смел нарушить молчание.
Бабушка в тот раз (может, впервые в жизни) так ничего и не сказала. Но потом все-таки она все переварила, разложила в своей голове по полочкам и полюбила вспоминать эту притчу по случаю и без, очень назидательно, как намек, что мне с моей внешностью, надо не проспать раздачу счастья.
Моим подругам позже, уже когда мы учились в школе, она тоже пересказывала эту историю, потому как никто из нас, по ее мнению, к раздаче красоты первыми в очереди не стоял.
Вообще, обычно к концу трех часовой поездки бабушка становилась всеобщим любимцем. Она находила себе парочку друзей по душе, и они до упаду смеялась, показывая на нас пальцем: «Троих недоданных везу. Себе на шею посадила, а они едут. Ничего без меня не могут. Смех и грех. А как больному ребенку без воздуха летом?»
Когда мы, наконец, приезжали, Сосновое оглушало воздухом, землей под ногами вместо асфальта, ярко-красным песком, гомоном и одновременно тишиной. Наша городская одежда разом становилась неловкой и стыдной, мы чувствовали себя всю дорогу до Сосновского дома чужими, хотелось быстрее снять с себя городское и слиться полностью с настоящим летом.
Дом всегда встречал сюрпризами. Чаще всего выяснялось, что зимой в нем гостили бомжи, цыгане и всякий прочий люд, естественно, оставляя следы своей жизнедеятельности. Бабушка истошно орала: «Не пускать ребенка!» Видно, там обнаруживалось многое не предназначенное для детских глаз, и пока я поджидала на крыльце или слонялась по участку, сама единолично убирала дом. Папа и мама год за годом оказывались в уборке бесполезны, примерно, как и я. Из-за двери доносились бабушкины крики:
– Больными руками!
– На больных ногах!
– Кровью харкаю!
– Иждивенцы!
– В пятьдесят лет швабру в руки взять не могут!
– Зарастёте в грязи после моей смерти!
– Мне недолго осталось!
Это все могло бы в городе закончиться грандиозным скандалом, но бабушка, вместо скандала, схвативши миски, мчала в лагерную столовую, пригрозив на прощанье: «Это – мое последнее лето, больше не выдержу, имейте ввиду».
Лето мы любили еще и потому, что у бабушки на ругань совершенно не оставалось времени. Работа, выкармливание семьи, общение с подругами, день пролетал молниеносно. Она, конечно, устраивала нам показательные выволочки, но не такие затяжные и не такие разрушительные как в городе.
Мы с папой и мамой летом чувствовали себя, практически, на воле, и нам это очень нравилось.
Дом и окрестности
Сейчас я расскажу вам все про Сосновое.
Моя первая поездка в Сосновое состоялась, когда мне исполнилось семь месяцев.
Тогда мы снимали комнатуху в доме у деда Афонаса, одного из местных старожилов. Говаривали, что он родился еще при царе. Сам он своего возраста не знал и царя не помнил.
Дед Афонас был кудрявым, лохматым, беззубым и вечно пьяным. На всем белом свете он любил единственное живое существо, своего цепного черного кобеля Полкана. Афонас обращался к нему исключительно «желанный мой» и кормил огромными кусками свежего мяса. По причине сиденья на цепи и поедания этого мяса Полкан окончательно озверел и оглашал окрестности чудовищным лаем и воем, от которого леденела кровь, чем вызывал еще большее умиление Афонаса.
Всех остальных людей и зверей дед любил не сильно. Например, когда цыганята рвали его красную смородину, которая без толку осыпалась на землю, он нещадно палил по ним солью из ружья.
– Афонас, дай детям поесть, – стыдила его бабушка.
– Лучше сгною, – ворчал Афонас.
Именно дед Афонас стал моим первым четким детским воспоминанием.
Мне семь месяцев, я лежу в своей кроватке, заходит дед, улыбается мне беззубым, как у меня ртом и говорит: «Иди, иди к деду». И я почему-то встаю и иду. А он протягивает ко мне руки и смеется.
На следующее лето нас уже переселили в отдельный дом, который принадлежал лагерю, но находился за территорией по соседству с домом Афонаса, прямо на берегу Красной реки.
Там с нами жили еще две семьи. Часть дома, ту, что смотрела на речку, занимала бабушкина подруга, завстоловой Анна Ивановна Голубева, с двумя взрослыми дочками Линой и Анфисой, их мужьями, внучками и даже одной правнучкой чуть младше меня.
Под крышей гнездилось семейство простой уборщицы, (не ясно, как она угодила в наш элитный дом). Ее фамилия была Том, и семья Томов тоже была большой, дети, внуки, жены, мужья. Папа шутил: «Целое собрание сочинений!»
Голубевы были нам как родственники. Как я уже упоминала, моя мама дружила с младшей дочкой Анны Ивановны – Линой. Они учились все одиннадцать лет в одном классе. А потом муж старшей дочки Анфисы Гриша познакомил маму со своим другом Сеней (моим будущим папой), так и сложилась крепкая советская семья моя родителей.
Вообще считалось, что гигантские семьи бабушки и Анны Ивановны не живут на постоянной основе на лагерных харчах, а, вроде как, приезжают раз за лето. Но дети, внуки, мужья и жены жили, конечно же, постоянно.
Ильюша, муж Лины всегда задавал мне один и тот же вопрос. Вопрос касался кота Васьки, который обитал на птичьих правах в нашем дворе. Его часто видели в компании кота Сережи. Кот Сережа часами сидел на спине кота Васьки. Ильюша просил меня подробно рассказать: «Что делал Васька? Что делал Сережа?» И интересовался: «Нравится ли Ваське, что на нем сидит Сережа? Не хочет ли он поменяться местами?» Я все описывала подробно и с серьезностью трехлетнего ребенка, чем вызывала восторг Ильюши.
Надо отметить, я с детства не привыкла вызывать восторг. Кроме первого неподдельного восхищения, которое испытала бабушка, увидев меня с гематомой на голове в роддоме, особых радостей в дальнейшем я никому не приносила. Я считалась крестом, наказаньем, инвалидом, недоделанной и плачевным результатом поздних родов. Поэтому, интерес и воодушевление Ильюши меня дико радовали. Мне нравилось рассказывать ему про котиков, хоть они и делали каждый день одно и то же.
Чисто в бытовом отношении в нашем загородном доме было, безусловно, менее комфортно, чем в городе. Примерно неделю после переезда мы заново привыкали, а потом забывались и жили как будто по-другому и не бывает.
Особые нарекания, конечно, вызывал туалет. Он находился на улице и представлял собой деревянный домик из досок с огромными щелями, само отхожее место располагалось тоже в доске и представляло собой яму, которую на моей памяти ни разу не чистили. Над ямой роились откормленные мухи и слепни. Под крышей располагались крупное осиное гнездо. Даже взрослые избегали походов в этот туалет и пользовались ведрами и кустами, что считалось в разы безопаснее. Арсюша, внук уборщицы, что жила под крышей, всегда писал прямо со своего балкончика вниз. И иногда мы принимали этот поток за начало дождя.
Однажды утром мама, вынося мой горшок, распахнула дверь туалета вытянутой рукой и, не глядя внутрь, плеснула содержимое горшка наугад в яму. А там как раз находился дядя Гриша, муж тети Анфисы (он единственный пользовался этим туалетом, видимо, для самодисциплины).
– Здравствуй, Жанночка! – вежливо поздоровался он.
– Здравствуй, Гришенька! – ответила мама.
Вечером того же дня все мужчины нашего дома, а именно: мой папа, Гриша и Ильюша решили, что настала пора прибить щеколду на дверь туалета. Опытом по работе с молотком и гвоздями никто из них похвастать не мог, зато у каждого имелось штук по пятьдесят патентов в их конструкторских бюро. Поэтому, к изобретению закрывашки на туалет три серьезных инженера подошли со всей глубиной инженерной мысли. И таки приделали самостоятельно гвоздь и веревочку. А до этого многие годы дверь вообще не закрывалась, но это никого не беспокоило.
Наш дом, как вы поняли, стоял прямо на реке. Забор у дома знавал и лучшие времена. Местами он просто обвалился, местами еще бодро торчал, но, в целом, выглядел удручающе. Никто из мужчин, проживавших в доме, не решался замахнуться на такое глобальное дело как починка забора. Но глядя на него, все вздыхали и сетовали, дескать, нет хозяина, ветшает. По причине такого печального состояния забора, на наш беззащитный двор заходили и коровы, и козы, и цыганята.
Мы с папой каждое лето разбивали крохотный огородик и сажали морковочку, редисочку и укропчик. Чем вызывали бесконечные шутки со стороны бабушки, которая, слава Богу, обеспечивала нас этой садово-выгодной продукцией вот этими вот больными руками. Садоводы из нас получались так себе. Урожай был скудным, не говоря о постоянных набегах через покосившийся забор. Я ревностно следила за грядкой. Но моих детских сил, конечно, не хватало. Я каждый раз отчаянно рыдала, обнаружив морковку и редиску завядшей или вытоптанной. В какой-то момент мы сдались и прекратили садовые эксперименты.
Слева от нашего дома находилось футбольное поле. По периметру поля местами стояли скамейки, сетки с футбольных ворот давно содрали, но это никого не беспокоило. На речку с поля выходила купальня с мостками. Еще на поле стояла исполинского размера лазилка. В мире, наверное, не существовало ребенка, который влезал бы на нее сам, да и толщина железок из которых она состояла, не предполагала, что детские ручки смогут ее обхватить. Однако, это была единственная на весь поселок практически настоящая детская площадка.
Футбольное поле являлось центром Сосновской общественной жизни.
С утра на лазилку пытались вскарабкаться дети, тут же рядом паслись коровы. В купальне всегда слышались крики и визги, там мылись, купались, стирали белье, устраивали личную жизнь, рядом купали коров, лошадей, коз и собак. По футбольным воротам без сетки лупили мячами, на скамейках сидели парочки и компании. Ночью на берегу около купальни начинались костры, дискотеки из магнитофонов и драки.
Жизнь кипела, и пустело наше поле только в дождь.
Через дорогу от поля находилось сразу два любопытных здания. Одно – вытрезвитель. Некогда внушительное здание голубого цвета, но при мне уже в полуразрушенном состоянии. Около него иногда появлялась, видимо, по инерции, ветхая милицейская машина. Мне не запомнилось, чтоб вытрезвителем пользовались по назначению, ни разу я не видела, чтоб туда партиями завозили пьяных для исправления, (хотя в Сосновом их можно было грузить в машину практически оптом). Парадоксально было то, что пьяные и вообще всякие антисоциальные элементы сами тяготели именно к этому месту. Они массово тут напивались и купались в речке в одежде и без. Как будто насмехаясь над утратившим силу местом исправления порока. Ни один нормальный человек на пляже у вытрезвителя не купался, и мы – тоже.
Напротив, на другом берегу речки, располагался лепрозорий.
Кто не в курсе, это место, где лечили больных проказой. Странно, что в маленьком поселке для больных проказой выделили отдельное здание. Остаётся предположить, что либо больных было очень много, либо, что Сосновое, по странному стечению обстоятельств, являлась районным центром по борьбе с этим заболеванием. На моей памяти лепрозорий выглядел, как и вытрезвитель, уже доживающим свой век. Красивое ярко-синее старинное деревянное здание с резными кружевными ставнями давно не красилось и существенно покосилось. За забором буйно рос неухоженный сад. И иногда я видела краем глаза старух-привидений без носов, в платках и с клюками, выходящих из калитки. Меня завораживали их изуродованные лица, похожие на лики смерти с косой. Но они шли, всегда опустив головы, и мгновенно скрывались за калиткой. Мимо лепрозория мы ходили каждый день в наш вечерний поход за молоком из-под коровы. Увидеть, пусть даже мельком, старуху без носа, единственное, что радовало меня в этом ритуале.
Наша стандартная ежедневная прогулка обязательно включала в себя железнодорожную станцию. Это был, в каком-то смысле, центр Соснового, и нас неизбежно влекла сюда центростремительная сила.
Перед станцией располагалась небольшая площадь, на ней стоял памятник Ильичу с рукой, указывающей направление в светлое будущее, прочь от станции. На руке и кепке вождя всегда густо сидели голуби и другие птицы. Вокруг памятника некогда были клумбы, но цветы там годами не высаживались, и сейчас население использовало их просто как урны и пепельницы. Две скамейки по обе стороны памятника сожгли практически до металла, но на них все равно отдыхали.
Сама станция нас не сильно интересовала. Обшарпанное здание непонятно какого цвета со следами поджогов и нецензурными надписями. Внутри примерно тоже самое, плюс пара окон для продажи билетов, лозунг: «Слава железнодорожникам!» – под потолком, плакат «Первые действия при пожаре» – на стене и общественный туалет без дверей, что в принципе никого не беспокоило, если бы не запах, которые беспрепятственно разносился из туалета в здание станции и далеко за ее пределы.
Однако, мы со странной регулярностью обходили это здание кругом и двигались дальше.
Рядом находился единственный на все Сосновое Универмаг. Его полки всегда пустовали. Иногда, разве что, обнаруживалось детское или хозяйственное мыло, полотенца неопределенного цвета из дерюги, трусы огромного размера, гвозди, пластмассовые мыльницы, черные калоши сорок пятого размера. Смотреть было явно не на что, но мы ежедневно приходили и смотрели. А вдруг.
Кстати, интересно, что любой маломальский центр цивилизации, как то магазин, или станция сразу привлекал к себе пьяных, они липли к стенам и углам и тут же метили территорию.
Дальше на нашем пути располагалась аптека, она сильно пахла лекарствами, хотя лекарств в ней было не так уж и много, явно недостаточно для такого сильного запаха. Находилась она в окружении нежно-зеленых пихт, рядом стояла достаточно приличная скамейка, не ломанная и не обгоревшая, что являлось редкостью. Видимо, аптека внушала трепет, и алкоголики обходили ее стороной.
Около аптеки стоял памятник неизвестному солдату. В единственной клумбе цвели петуньи. Их никто не рвал. Это был почти настоящий скверик, и нам нравилось во время ежедневного обхода проводить тут побольше времени. Если мне везло, я уносила домой веточку пихты с шишечкой. Они почему-то падали очень редко, и повезло мне, в итоге, считанные разы.
Больше достопримечательностей, до которых можно было запросто дойти до обеда, мы не обнаружили.
Имелась еще церковь, построенная без единого гвоздя, но от нее нас отделяло полдня ходьбы. И не могу сказать, чтобы родители особенно любили церкви.
А на плотину мы ходили только с целью искупаться.
Поэтому, обойдя все пять наших привычных мест, мы возвращались обедать.
Но, если вам кажется, что теперь вы знаете все про Сосновое, это будет заблуждением.
Я расскажу вам о молоке.
Цена молока
Без похода за молоком каждый день в восемь вечера рассказ о Сосновом получается совершенно не полным.
Как многие городские взрослые, мои родители придавали чрезвычайное значение питью натурального молока. В иерархии их ценностей молоко прямо из-под коровы стояло бок-о-бок со свежим загородным воздухом. Особым любителем молока выступал мой папа, видимо, он и внедрил практику походов к корове.
Идти приходилось достаточно далеко, через весь поселок. Корова и прочая живность водилась у Альбины, крупной женщины, пахнувшей молоком, курами, коровами и всем, что росло и обитало на ее участке.
Все, что водилось за этим забором было ко мне крайне враждебно. Начиная от озверевшего от цепного содержания черного волкодава, цепь которого каждый раз заканчивалась в миллиметре от меня, и заканчивая гусями, которые стаей на меня набрасывались. Не отставали от зверей и дети. Мальчик и девочка Альбины, примерно моего возраста, но, конечно, намного более рослые и, что называется «кровь с молоком», каждый раз исподтишка дразнились, пользуясь тем, что меня крепко держали за руку мама или папа. Началось это с того, что меня привели в смешной зимней шапке посреди лета. Объяснялось все просто, я страдала от постоянных отитов. Злые дети, естественно, подняли меня на смех. Альбина шикнула на них, но потом пошла по хозяйству и они продолжили. С тех пор каждый мой приход они сопровождали демонстративным шушуканьем и взрывами смеха.
Главной проблемой являлись не дети и не животные, а мое отвращение к молоку. Я ненавидела любое молоко, но деревенское, желтое, с пенкой и запахом коровы – еще сильнее городского.
Питье происходило из единственной, привязанной за веревочку эмалированной пол-литровой облупившейся кружки. Я всегда задумывалась, моют ли ее между приходами новых посетителей.
Я долго готовилась морально, потом решалась и, борясь с приступами тошноты, с трудом выпивала половину кружки. Папа жадно взахлеб допивал остаток.
После этого мы шли обратно домой. Я несла в себе отвращение, тяжесть, молоко и насмешки детей.
Назавтра все повторялось.
Как-то раз, помимо всего этого случилось кое-что по-настоящему страшное.
Среди разного хлама, останков велосипедов, бюстов из папье-маше, шин и тряпок я обнаружила голову коровы.
Она буднично лежала на земле, в ореоле мух и ос. Ее стеклянные глаза смотрели в никуда, и по ним тоже ползали осы.
Жужжание и запах сливались, влекли к себе помимо воли, я стояла как вкопанная, в смешной зимней шпке посреди лета и не могла отвести взгляда. Мне казалось, что внутри меня все умерло, оборвалось, и дальше, после такого, со мной уже никогда не случится ничего хорошего.
В тот вечер я не смогла пить молоко. И на следующий день отказалась есть мясо.
Никто так и не узнал, что случилось. Просто решили, что мое безумие приобрело новые формы.
Лагерь «Ласточка»
Где-то параллельно от нас, через дорогу, за покосившимся забором жил в это время своей жизнью пионерлагерь «Ласточка», в котором на износ работала бабушка, чтобы мы с родителями могли отдыхать летом в отдельном элитном доме на всем готовом.
В отряд я не ходила, по той же причине, почему не пошла в садик. В эти детские учреждения не брали ненормальных детей. Медкомиссия меня явно бы не пропустила, не стоило и пробовать, а то, чего доброго, еще и отправила бы меня в сумасшедший дом.
Все свободное время в Сосновом я проводила с родителями. Они по очереди тратили свой отпуск на дежурство со мной. Бабушка работала и категорически отказывалась параллельно следить за психически больным ребенком. Родители особо не роптали.
Единственную сложность составляла еда. Так как родители пребывали на лагерном обеспечении, мягко скажем, не официально, а по-простому, на халяву, бабушка таскала кастрюли тайком. Получалось это с трудом. Тернистый путь из столовой до нашего дома был, как на зло, крайне долог, сначала он пролегал мимо центральной и единственной лазилки, потом шел через аллею из скульптур пионеров с горнами, затем ускорялся по крутому спуску под гору к воротам лагеря, и всегда на этом бесконечном и безальтернативном пути бабушке кто-то встречался. И все, конечно же, спрашивали: «Сима, куда это ты собралась с кастрюлями?» В зависимости от того, от кого исходил вопрос, бабушка или обрушивалась с матом, или очень ласковым голосом говорила: «Лене несу, психически нездоровому ребенку, она же у нас детей боится, да и не ест ничего. Несу на своих больных руках». (Хотя по объему кастрюль было не похоже, что у меня плохой аппетит). Такая длинная и вежливая речь обычно предназначалась только охраннику. Директор лагеря Любовь Михайловна была дамой не самой приятной, поэтому, пустыми вопросами себя не утруждала. Хотя, под настроение, могла фыркнуть что-то вроде: «Столовую надо устраивать в столовой!», как бы намекая, что она в курсе бабушкиной двойной жизни. Хотя, положа руку на сердце, такую жизнь вел практически весь персонал. В комнатухах ютились мужья и взрослые дети, а питание им передавалось раз в день под покровом ночи. Они терпели такие невзгоды ради чистого воздуха и объективно бесплатного питания, хоть и с некоторыми трудностями. Бороться с этим вторым фронтом еще никому не удавалось. Каждая распоследняя уборщица собирала что-то в столовой в разные по размеру кульки, якобы для собачек и кошечек.
Любовь Михайловна тоже, кстати, не отставала, у нее жила на таких же правах целая семья, взрослые сын, дочь и муж.
На территории лагеря у бабушки располагалась веранда для работы, она примыкала к лагерной кухне и столовой. Окна на веранде бабушка держала открытыми нараспашку, ей вечно было жарко. Перед окнами веранды стояла ржавая скамейка-качель. Дети там побаивались качаться, за исключением новичков. Побаивались, потому что бабушка гоняла их со скамейки, ей мешал скрип и детское веселье. А вот бродячие собаки облюбовали площадку прямо перед верандой для своих свадеб. Иногда собиралось по десять-пятнадцать собак всех мастей и начиналась церемония. Дети волей-неволей собирались вокруг и активно обсуждали процесс, собаки истошно лаяли. Бабушка отчаянно матерясь, перегибалась через стол, вылезала наполовину из окна и длиннющей деревянной линейкой пыталась достать до собак с криком: «Я вам покажу развратничать! Это детское учреждение!» Помогало. Собаки, скуля уходили на новое место. Толпа детей – за ними.
В лагере мы с родителями появлялись редко, только, когда происходило что-то экстраординарное, например, концерт в честь родительского дня или День Нептуна.
Лагерных детей я побаивалась, бабушка говорила, что они все больны ветрянкой и чесоткой, и, кроме всего прочего, заражены вшами.
Хотя, глядя иногда, украдкой, как они играют все вместе в догонялки, бегают всей толпой, смеются, мне, не смотря на страх, хотелось веселиться с ними.
В такие моменты мне становилось особенно грустно, что я не такая как все, что мне нельзя к ним.
И я побыстрее отворачивалась и уходила с родителями. Зато у меня было всё Сосновое, а у них – только забор и лазилка.
Мое личное
Говоря о том, что у меня есть все Сосновое, я, в первую очередь, имела в виду природу. Ту, что находилась за территорией лагеря, и которую лагерные дети могли лицезреть лишь через решетку забора. Могли ли они через эту решетку почувствовать ее?
Хотя, если подумать, природа в Сосновом тоже была не простая.
Моя дружба с с многочисленной живностью Соснового сразу не сложилась. Начнём с собак, они тут водились двух видов, цепные и бездомные. И те и другие крайне крупные и злые на вид. Категория милого пса-домашнего любимца напрочь отсутствовала.
Кошки были сплошь хищными, драными и агрессивными.
Коровы, козы и овцы норовили боднуть, пнуть боком, укусить.
Лошади тоже производили впечатление абсолютно диких. Молодые цыгане скакали на них без седел по песчаным улицам, поднимая шум и пыль. Лошадей купали прямо на пляже, они повсюду оставляли лепешки, которые служили отличной пищей для мух и слепней.
Индюки, гуси, утки и куры свирепо охраняли свою территорию, клевались и носились за непрошеными гостями.
Ну и главный мой страх, это, конечно, насекомые.
Мухи летали полчищами. Сколько родители не клеили коричневые и белые липучки, похожие на сморщенные новогодние конфети, количество мух не уменьшалось. Живые и дохлые мухи были в лампах, между окнами, в еде, в питье, на стенах, на столе, на полу. Как-то в лесу на меня обрушилась паутина, битком набитая дохлыми мухами. Этот кошмар преследовал меня всю жизнь. Пауки, паутины, комары, осы, шмели, пчелы, оводы оккупировали все вокруг, казалось, невозможно было найти места, где не жужжала и не ползала бы какая-то живность. Бабочки и стрекозы на этом фоне уже не радовали, а тоже вызывали ужас.
Бабушка не сдавалась. Без нее мы бы давно опустили руки. Она инициировала забить окна по периметру марлей, марлю приделали на канцелярские кнопки. Сами мы всегда натирались пижмой, бальзамом «Звездочка» и еще парой заменяющих друг друга средств, которые в дальнейшем отменялись, как неработающие. Кульминация ежедневных мероприятий по борьбе с насекомыми у нас всегда приходилась на вечер и тоже инициировалась бабушкой.
Перед каждым сном бабушка, минут по сорок, финально лупила по всем насекомым, которые ей попадались, полотенцами, книгами и даже палкой от швабры. Для каждого случая у нее находилось отдельное оружие. Иногда она впадала в азарт, и охота затягивалась. Однако, темными августовскими ночами требовалось быстрее гасить свет. Во-первых, свет привлекал внимание всяких сомнительных личностей, что было не безопасно, а во-вторых, на свет слетались стаями новые насекомые, которые плевать хотели на марли и липучки.