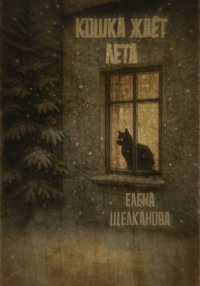Полная версия
Две Луны и Земля
Бабушка в порче имущества мне не уступала. Во время скандалов она повырывала с петлями все картонные межкомнатные двери. Отдельно она выкорчевала из всех дверей ручки с мясом. Выбила окно в кухонной двери, переломала все имеющиеся телефонные аппараты. Поэтому, все в нашей квартире держалось на честном слове, было по сто раз приклеено «Моментом», привязано веревками, прикручено. Окно в кухонную дверь долго не вставляли, но запахи с кухни могли привлечь внимание жителей подъезда, (тут и до грабежа, и сглаза рукой подать). Особенно разносился повсюду запах перетапливаемого масла, которое везлось из лагеря и дома приводилось в вечно-хранимое состояние. Пришлось вставить вместо стекла картонку, а потом мама принесла с работы пластиковую штуковину, на которую наклеили пленку а-ля витраж. Ее никому так и не удалось выбить.
В какой-то момент мама открыла для себя и другую клейкую пленку, которую можно было лепить на мебель с целью реставрации. Стоила она, судя по всему, копейки, так как мама накупила ее в промышленном масштабе и обклеила ею всю квартиру. Все двери, все столы с потрескавшимся лаком, все дверцы деревянных шкафов. Даже термос мама обклеила этой пленкой, темно-коричневой, похожей на сгнившее дерево под названием «темный орех». Мама так разошлась, что даже под страхом расправы, все равно умудрилась декорировать и в бабушкиной комнате всю мебель этим «темный орехом», пока бабушка уезжала на лето. Маме повезло, бабушка ничего не заметила, иначе страшно представить, как мама бы получила за то, что вторглась без спроса в комнату и еще что-то делала с мебелью.
Наверное, больше всех вещей в бабушкиной комнате меня манила коробка с пуговицами. Коробка хранила истории о людях и вещах, которые уже давно ушли. В эти пуговицы я играла в войну.
Про войну я знала много.
Бабушка родилась в Минске, она закрыла квартиру на ключ и ушла за два дня до начала войны с женами своих братьев и их детьми. Восьмилетнего Мишу облили бензином и сожгли фашисты, его маму Рахильку пристрелили (она очень сильно кричала, когда сожгли Мишу, даже фашисты не смогли выдержать этот крик). Бабушка, Соня и девятимесячная Мара чудом спаслись и добрались к 1945 году до Ленинграда.
Бабушкиного первого мужа Борю, за которого бабушка выходила замуж в ночной сорочке (другой одежды по случаю у нее не было), убили в первый день войны, ему было шестнадцать.
В 1945 году в Ленинграде бабушка на вокзале повстречала своего второго мужа, с простреленной рукой и практически гангреной, она его выходила, и у них появилась моя мама. В 1946 году.
Истории о войне я слышала с пробуждения и до укладывания спать. Военные песни были моими колыбельными. Мне снилась война, я играла в войну, собственно, в моем детском мире война не начиналась и не заканчивалась, она просто шла где-то рядом, в параллельном измерении. И это измерение часто давало о себе знать то снами, то какой-то смутной тревогой, то вспышками картин войны средь бела дня. Я никогда не чувствовала себя в полной безопасности и знала, если войны не видно, это не значит, что ее нет. Здесь в бабушкиной комнате эта связь нашего мирного времени с теми временами, что минули до нас, чувствовалась особенно остро.
И вся наша квартира от этого, тоже ощущалась каким-то порталом, вход в который начинался в бабушкиной комнате. Везде царил дух ушедшего, но при этом навеки оставшегося.
Четыре подруги
У бабушки было четыре лучшие подруги.
Софа, Мина, Анна Ивановна и Мария. Они так и дружили впятером уже лет сорок.
Еще была Фаня, жена брата бабушкиного последнего, третьего мужа. Бабушка дружила скорее с Мариком, братом мужа, а Фаня шла в нагрузку. Ее бабушка недолюбливала, но общаться все же приходилось из-за Марика.
Софа
Софа была главной героиней моих кошмаров. Именно Софой меня пугали, когда других детей пугали бабайкой, бабой Ягой, милиционером и лешим. Если я плохо себя вела, бабушка снимала трубку телефона и говорила: «Все, звоню Софе, пусть вызывает психуЧку! Пусть санитары тебя упрячут в смирительную рубашку!» И бабушка наглядно демонстрировала руки, завязанные за спиной. В психушку не хотелось. Я почему-то досконально ее представляла, хотя знала о ней только с бабушкиных слов. Ватные серые стены, я – в смирительной рубашке до пола, абсолютно беспомощная, руки связаны, и санитар делает мне укол, который погружает меня в мучительный бесконечный сон.
Софа, надо отметить, знала, что бабушка пугает меня ею, но не только не обижалась, а была явно польщена такой ролью. Когда она приходила к бабушке в гости, она всегда принималась искать меня, (я естественно, пряталась), и находя, спрашивала: «Ну что, снова расстраиваешь бабушку? Звонить мне врачам?»
Софа, кстати, если брать только внешность, производила впечатление вполне благообразной женщины с абсолютно круглым лицом, похожим на лицо улыбающейся совы.
«А вот моя Марфуша», – заливалась Софа, и понеслось. Марфуша была не Софиной внучкой, а внучкой ее лучшей подруги Анки. Своих детей и мужа Софа почему-то не завела и посвятила себя совместному выращиванию сначала дочки, а потом внучки подруги. Марфуша, естественно, росла идеальным ребенком. Она хорошо ела и никогда не расстраивала Софу и родных маму с бабушкой. На фоне чудо-ребенка Марфуши мои прегрешения казались особенно чудовищными.
– Софа, вот скажи мне: «Марфуша обзывает тебя матерными словами?»
– Что ты, Сима?! Да она только: «Спасибо, бабулечка! Пожалуйста, бабулечка!» И все спрашивает: «Бабулечка, я тебя не расстроила?» А чем она может меня расстроить? Это же ангел, а не ребенок!
Бабушка при этих словах свирепо смотрела в ту сторону, где по ее мнению могла крутиться я. Могла, но не крутилась, я обычно пряталась. Место для укрытия я выбирала такое, чтобы все слышать, но находиться в безопасности. Неплохо подходил огромный шкаф в бабушкиной комнате. Тот самый, трех-дверный, набитый шубами и антимолью. Один раз я просидела там полдня и меня вообще никто не искал. Пришлось, в итоге, выйти самостоятельно.
Софа с бабушкой обменивались и другими любезностями. Бывало, Софа скажет с порога:
– Сима, как тебя полнит это платье!
– Полнит? Да, чтоб враги мои так толстели, Софа! Это болезнь меня полнит, а не платье! – сокрушалась бабушка.
А другой раз бабушка встречает Софу на пороге и сходу:
– Софа, эта помада тебе не идет! Очень старит!
– Господи, Сима, да мне шестьдесят пять, куда молодиться?!
– Ну, не в гроб же ложиться на радость детям раньше времени, Софа! У тебя своих детей нет, тебе повезло, потому, что дети, Софа, это колорадские жуки, только и ждут твоей смерти. Думают, комната, наконец, освободится. Не понимают, что зарастут в собственном говне.
Мина
Была еще Мина. У Мины мне особенно запомнилась длиннющая тонкая коса практически до пола. За огромными очками скрывалось личико, похожее на мордочку мышки, остренькое, улыбчивое и доброе, под стать самой Мине. Мина никогда меня не обижала и не грозилась вызвать психушку. Минин сын Петька и моя мама дружили в детстве. Мина с бабушкой в те времена вместе работали в пионерском лагере, а мама с Петькой ходили в отряд пионерами. Но со временем Мина перестала ездить в лагерь, а бабушке пришлось продолжить, потому что, кто, если не бабушка вывез бы на свежий воздух великовозрастную дочку, а потом меня – ребенка-инвалида. Петька рано женился на девушке по имени Лариса. Так как мама с сыном жили душа в душу, Мина не препятствовала браку, и как выяснилось, совершенно напрасно. После брака роли в семье сразу перераспределились. Петька, который раньше полностью слушался маму, теперь беспрекословно делал, все, что говорила Лариса. Мина оказалась к такому повороту совершенно не готова. И казалось бы, скорое появление внука Леши могло осчастливить семейство, но не тут-то было. Это был явно не тот ребенок, который мог сделать хоть кого-то счастливым. Дурные гены сразу свалили на Ларису и ее плохую наследственность. На этом все успокоились и втроем поволокли свой крест. А через пятнадцать лет после рождения Лешки бабушка неожиданно разделила горе подруги, потому что внучка у бабушки тоже родилась недоделанной. Виной всему и в этом случае явились дурные гены, на этот раз моего папы. Скрепленная одним несчастьем дружба бабушки и Мины стала еще крепче. Созванивались подруги каждый день. Как раз после моего мучительного завтрака.
– Здравствуй, Мина!
– Здравствуй, Сима!
– Как ты, Мина?
– Плохо, Сима!
– Старость не радость, Мина.
– Не говори, Сима.
– Мина, я к зубному ходила, к Асмусу.
– Что он тебе сказал, Сима?
– Подожди, Мина, – бабушка подходит к серванту и достает зеркало, (дальше уже с открытым ртом), – «Пятерку удалить, четверку депульпировать. На нижние шестерки – мост».
– Будешь делать, Сима?
– Если мне хватит здоровья, Мина. Я уже кровью харкаю от такой жизни. Быть прислугой великовозрастным детям…
Я бегу к зеркалу около входной двери, открываю рот:
– Так, пятерку удалить, четверку депульпировать. На нижние шестерки – мост.
– Что ты там бубнишь? – кричит сквозь закрытую дверь своей комнаты бабушка.
– Я уже кровью харкаю от такой жизни, – кричу я в ответ.
Бабушка возвращается к Мине:
– Мина, ты слышала? Кровью она харкает! Где, скажи мне, ребенок в три года мог этого набраться?
Анна Ивановна
С Анной Ивановной бабушку объединяла давняя трудовая дружба, которая началась сразу после войны. А с Линой, младшей дочкой Анны Ивановны с детства дружила моя мама.
Бабушка и Анна Ивановна негласно соревновались друг с другом.
Соревнование началось с карьеры, Анна Ивановна стала завстоловой, а бабушка всего лишь бухгалтером. Потом Анна Ивановна снова победила. Она вышла замуж и родила двух дочек-погодков. А у бабушки первый муж погиб, второй муж ушел, и дочка родилась всего одна.
Но в одном забеге бабушка все же одержала верх. Победу ей принесла моя мама.
Мама с рождения была не по годам крупной, увесистой девочкой, с очень густыми кудрявыми волосами. А Лина и Анфиса, напротив, крохотными, тощими, с тифозными стрижечками, из-под которых проглядывал череп. И это при совершенно одинаковых возможностях. Ибо и бабушка, и Анна Ивановна работали в общепите и таскали на равных. «Не в коня корм», – говорили про Лину и Анфису и разводили руками.
Бабушка втайне гордилась, что так откормила маму. В одиночку, после войны, в чужом городе. Анна Ивановна поджимала губы. Победа бабушки в области материнства была на лицо, и все карьерные и личные вершины, которые покорила Анна Ивановна при этом меркли и отступали на второй план. На школьном фото мама и Лина выглядели как Винни-Пух с Пятачком. Говаривали, что Лина и Анфиса так мало весили, что у них в положенное время не начался переходный возраст. И тут уж Анна Ивановна взялась за дело и начала откармливать дочек чистой сметаной (странно, что она так затянула с этим делом, бабушка так откармливала маму с рождения). Дело пошло на лад. Сестры стали набирать вес, и переходный возраст не заставил себя долго ждать. А мама, наоборот, в восемнадцаь лет взяла и села на диету. Тут-то подруги и сравнялись в весе. Теперь бабушке и Анне Ивановне на время стало не в чем соревноваться. А бабушка, мне кажется, так никогда и не простила маме это злонамеренное снижение веса и такое жестокое обесценивание ее материнской победы.
Кроме соревнования бабушки и Анны Ивановны и дружбы мамы с младшей дочкой Линой с семьей Голубевых нас связало следующее обстоятельство, муж старшей дочки Анфисы – Гриша оказался другом моего будущего папы. На одной из домашних посиделок мои мама и папа познакомились и как-то само-собой соединились в семью.
Так что, Голубевых-Станицких мы считали почти что родственниками. Анна Ивановна всегда ассоциировалась у меня с Полботинка из книжки Эно Рауда «Муфта, Полботинка, Моховая Борода». К своему почтенному возрасту она почти полностью облысела и отличалась суровым нравом. Из всех подруг она была старшей по возрасту и по должности.
Я любила тетю Лину, она была доброй и красиво одевалась, а тетю Анфису терпеть не могла. Она вечно приставала ко мне, то почему я не здороваюсь, то почему не смотрю ей в глаза (если меня все-таки заставили здороваться). Кстати, здороваться только с теми, кто мне нравится, являлось моим личным правилом, которого я строго придерживалась. Но Анфиса активно продавливала сложившуюся линию обороны. Мое терпение подходило к концу. Как-то на семейном торжестве я дождалась, когда все разговоры затихли на пару секунд и громко спросила: «Тетя Анфиса, а почему у тебя такой длинный нос?»
Стол замер. Такого поворота событий никто не ожидал. Анфиса, надо отдать должное, быстро справилась с потрясением, она, как и все, не ожидала такого от трехлетнего ребенка. С достоинством безвинно пострадавшей Анфиса выдержала паузу и назидательно ответила: «Нос у меня хоть и длинный, но не такой любопытный, как у Буратино». Несмотря на то, что она быстро нашла, что ответить, шоковая терапия явно сработала.
Не припомню, чтобы Анфиса после этого ко мне как-то откровенно лезла, скорее исподтишка. Слава ребенка с диагнозом с тех пор стала от меня неотделима Зато официально можно было не здороваться, если мне кто-то не нравился. Все понимали, что может быть и похуже.
Мои родители долго обсуждали тот случай, насколько я оказалась испорченным ребенком уже в три года. И каждый раз вспоминалась при этом еще одна дальняя родственница с папиной стороны, которая еще младенцем плевала из коляски во всех, кто в эту коляску заглядывал. Видимо, как пример, что в нашей семье такое уже случалось. Но и как назидание. Судьба у той девочки оказалась не завидной, она сошла с ума окончательно и бесповоротно уже в восемнадцать лет и, наконец, попала в дурдом. Мне сулили ту же участь.
Мария
Мария, еще одна бабушкина подруга, хотя подругой в женском роде ее даже язык не поворачивался назвать, скорее столовский боевой товарищ, прямой, суровый, но готовый подставить плечо, когда это понадобится, с копной коротких жестких кудрявых волос, которые не брала седина и лицом индейца. Юбка на ней смотрелась также инородно, как если бы висела, скажем, на лошади. Однако Мария, как все женщины за шестьдесят того времени, ходила в юбке, смиряясь с традицией. При ее скорости перемещения юбка выглядела на ней к тому же явной обузой.
Звонили по телефону Мария и бабушка друг другу редко и только по делу.
– Здравствуй, Мария!
– Здравствуй, Сима!
– Мина празднует день рождения. Какие будем делать пирожки?
– С картошкой, яйцом и рисом, и рыбой.
– С рыбой?
– Мина любит рыбу, Сима.
– Не ерунди, Мария. Какую рыбу? Считай: «Десять с картошкой, десять с яйцом и рисом, и давай еще десять с капустой».
Я прикладывала ладонь к уху, как будто говорю по телефону, и тоже разговаривала с Марией:
– Мина празднует день рождения. Какие будем делать пирожки?
– С картошкой, яйцом и рисом, и рыбой.
– С рыбой?
– Мина любит рыбу, Сима.
– Не ерунди, Мария. Какую рыбу?
Фаня
Бабушкина родственница Фаня, как я уже писала, шла довеском к Марику, брату третьего и последнего бабушкиного мужа. Фаня и Марик были парой с первого класса. Именно этим бабушка объясняла, что красавец и умница Марик связался с такой глупой и бестолковой Фаней. Фаня была доброй мирной бабушкой, уютной и безобидной, но без огонька в глазах, который бабушка ценила в подругах.
Она всю жизнь провела за крепким плечом Марика и оттого совершенно расслабилась во всех отношениях, жутко располнела, никогда не огрызалась на колкости и вообще за жизнь не билась, а плыла по ней мягко и без сопротивления.
У Фани и Марика родилась дочка Катя. Она, к сожалению, рано умерла, потому что попала под пригородный поезд, осталась только внучка Полина. Поля, в отличие от меня, росла нормальной девочкой. Но, так как бабушка недолюбливала Фаню, Полю мне не ставили в пример и особо не нахваливали. Хотя она явно этого заслуживала не меньше тех, кого мне приводили в пример. А именно всех.
Мне исполнилось три года, а Поле – четыре, когда Фаня с внучкой впервые пришли к нам в гости. Полина ходила в детсад и этим вызывала массу бабушкиных опасений. Перед встречей бабушка раз сто по телефону переспросила: «А есть ли у Полины вши? А есть ли глисты? А нет ли в садике карантина коклюша? Скарлатины? Кори?»
– Фаня, Лена – аллергик, у нее нет прививок! Я не перенесу очередной коклюш!
– Ну что ты, Сима! Какие вши? – Фаня долго смеялась всем телом, – Сейчас же не война.
– Это у тебя не война, Фаня! А у меня война не кончалась. Война за жизнь, если хочешь знать, – бабушка обдумывала, не всплакнуть ли ей. Нет, не при дуре Фане. Что она понимает.
В итоге, после всех приготовлений и допросов, они пришли.
На Полю я даже не взглянула, она сразу показалась мне мало интересной на фоне Фани. Фаня потрясла меня своей толщиной. Бабушка весила девяносто пять килограмм при росте сто пятьдесят пять. Но в сравнении с Фаней она казалась стройной.
Сразу поняв, что Фаня не опасная, а даже наоборот, добрая, я неожиданно охотно пошла на контакт и уже через десять минут взвешивала Фанину ногу на напольных весах: «Объявляется рекордный вес! Нога весит семнадцать килограмм! Больше меня, тетя Фаня!»
Тетя Фаня сидела на диване в гостиной, на котором она еле помещалась, и добродушно смеялась, а я хлопотала вокруг гигантской ноги.
«Грязную ногу – чистыми руками!» – бабушка начала набирать в легкие воздух для душераздирающего крика. Но тут же обнаружила еще большую напасть. Поля хватала руками все мои игрушки. Бабушка вначале понадеялась, что я отгоню ее сама. Но я так увлеклась ногами тети Фани, что напрочь забыла о захватчике моих игрушек.
– Полечка, посиди на стуле, не трогай игрушки! – максимально нежно сказала бабушка, выдохнув сквозь зубы воздух, набранный для крика.
– Но почему тетя Сима? Я хочу играть!
– Сима, дай ребенку поиграть, даже Лена не против.
– Плевать! – сказала бабушка, махнув от отчаяния рукой. – Пусть играет! Потом все положу в марганцовку, а потом пройдусь хлоркой! Играй, Полечка!
Не припоминаю, чтоб они к нам еще приходили.
Однако на бабушку никогда никто не обижался. Просто я оказалась такой дикой, что не подружилась с Полиной.
Бабушкины подруги были единственной бабушкиной отрадой. Только они ее понимали, поддерживали и помогали ей выжить после смерти мужей, когда она, помимо своей воли, попала в услужение к великовозрастным детям.
Глядя на то, как бабушка дружит с ними, мне тоже смутно хотелось иметь кого-то задушевного, кто стал бы и моим утешением. В том, что жизнь тяжела и безрадостна, я ни секунды не сомневалась, поэтому, без друга и мне было никак не обойтись.
Сосновое
Моя жизнь в детстве делилась на две части. Зимне-демисезонная городская проходила на проспекте Третьего Интернационала (переименованного вскоре в проспект Суслова, снова в проспект Третьего Интернационала и, наконец, в Удачный проспект ) и летняя – загородная – в поселке Сосновое.
В Сосновом бабушка уже почти сорок лет работала бухгалтером в пионерском лагере «Ласточка». И каждое лето она вывозила нас в Сосновое, потому что дачу мои родители в силу своей бесхозяйственности так и не завели, а больному ребенку требовался свежий воздух.
Сосновский мир был огромным, особенно после нашего тесного и понятного городского мира. Тут за три месяца я проживала отдельную большую жизнь и потом только удивлялась, как эта жизнь умещалась в маленькую синюю мыльницу, куда я складывала засушенные летние воспоминания: домик улитки, хитин от кокона бабочки, пихтовую веточку с зеленой шишкой.
Итак, мы едем!
Наши сборы напоминают по масштабу эмиграцию. Берется с собой фактически все, нажитое непосильным трудом. Вся одежда полностью, включая зимнюю, ее, конечно, не так много, но с учетом четырех человек и четырех времен года, все-таки набирается прилично. Также упаковывается стратегический запас посуды, игрушек, лекарств, горшок и стул для кормления, одеяла, подушки. Маленькие старые чемоданы не справляются, на помощь приходят мешки, авоськи, тюки, их начинают, плюнув на приличия, перевязывать всевозможными веревками, состыкованными в разных местах узлами и поясами от платьев. Выглядит наш багаж устрашающе. Часть его мы отправляем в грузовике, который бабушке по дружбе выделяет лагерь, а часть берём с собой на поезд. Обе части одинаково внушительны.
Уезжаем мы каждый раз как навсегда. Присаживаемся перед дорогой, осматриваем готовящийся осиротеть дом, вдыхаем пыльный, душный, уже летний запах квартиры. С грустью закрываем двери, на шесть замков в общей сложности, по три на каждой двери, сдаём квартиру на сигнализацию и, наконец, выходим. Лестничная клетка не вмещает все тюки, да и лифт не готов принять их за один раз, и мы делаем пять-шесть заходов. Тут стоит еще одна задача, отъезд надо провести незаметно для соседей, дабы не навлечь грабителей и, естественно, сглаз. На опустевшую квартиру – масса желающих. Можно по приезду обнаружить не только следы разграбления, но и новых жильцов. А как выехать не заметно, если во время любого совместного дела у нас всегда разгорается скандал, а во время дела глобального, каким являлся сбор вещей, скандал, естественно, тоже разгорается вселенского масштаба. В квартире – скандал, у подъезда – грузовик, на лестнице – чемоданы. Не лучшие условия для незаметного выезда. Да и вообще, сделать в нашем доме что-либо незаметно – практически невозможно, по причине крайне высокой населенности.
Квартиры набиты битком, на лестничных клетках всегда кто-то курит и выпивает, на скамейке перед домом тусуются гопники и бабки.
– В Сосновое собрались? – спрашивают они.
– Нет, – говорит бабушка, – с чего вы взяли? На день-два максимум. Кто нас там ждёт?
– На день-два с грузовиком, – неодобрительно качают головами соседи.
– Чтоб вам пусто было, – ворчит бабушка. – Сглазят. Ни дна вам не покрышки. На дорогу как раз, еж твою мать!
И в таком приподнятом настроении мы, наконец, отбываем. Бабушка – в грузовике для контроля багажа. А мы, налегке, (всего с четырьмя или пятью чемоданами самого ценного и хрупкого, того, что нельзя грузить в багажник) – на метро и на поезд. По пути к метро настроение у нас начинает подниматься, и мы топаем веселее. Уже без пяти минут дачники.
Я любила ездить на электричке. Путь предстоял не близкий, но сидячие места нам обычно доставались. Я радовалась смене пейзажа за окнами, исподтишка, с большим интересом наблюдала за пассажирами. Пассажиры обычно были такими же будущими или уже дачниками, которые отвлеклись на пару дней и возвращались в деревню. Городские разительно отличались от дачных. Дачные всегда с каким-то инвентарем, какой-нибудь живностью в сумке, с рассадой, саженцами, в одежде прямо с грядки. А городские, еще цепляясь за привычки города, одетые для предстоящей дачи нелепо. Мужчины иногда даже бывали в серо-коричневых костюмах, городских стоптанных ботинках, почти как в свое КБ или на завод. Дети нарядные, в чистом. Женщины тоже в чистом, с макияжем и при сумочках, помимо тюков и мешков.
Хотя наряжаться в поездку весьма не разумно. Скамейки были довольно грязными, исписанными нецензурными надписями, со следами поджогов, тамбуры заплеваны и тоже исписаны. По проходам курсировали цыгане, продавцы газет, юродивые, музыканты и другие развлекающие пассажиров личности.
Когда мы ехали без бабушки, поездка всегда проходила без приключений. Разве что, какой-нибудь пьяный расскандалится, и начнётся драка. Папа в такие моменты мог пару раз подскочить на месте и сделать попытку кинуться растаскивать драчунов, но мама всегда его сразу останавливала. Вообще папа любил вытаскивать пьяных из канав, лезть разнимать драки и принимать участие во всяких происшествиях с упорядочивающей миссией. Мама, напротив, резко выступала против всего, что влекло за собой потенциальную опасность.
Если мы ехали в поезде с бабушкой, она затмевала всех бродячих артистов. Она громко комментировала все, что попадалось в ее поле зрения, со всеми вступала в диалог или в слух вела монолог, если не находила достойных собеседников.
Мы сидели притаившись, пережидая тайфун.
Однажды бабушка с неподдельным интересом рассматривала пару на противоположном сиденье. Бабушкино внимание привлек странный контраст: необычайно импозантный и статный мужчина, а рядом с ним – совершенно блеклая неприметная женщина. Женщина, видимо, давно привыкла к таким взглядам, а может, бабушка смотрела уж слишком красноречиво.