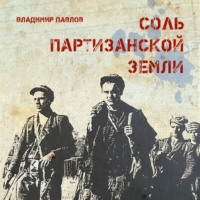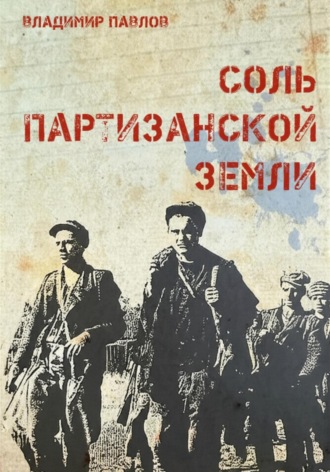
Полная версия
Соль партизанской земли
Постепенно враг начал приходить в себя. На чердаке крайнего дома замерцала звездочка вражеского пулемета. Над головой защелкали разрывные пули. Я почувствовал, как у меня на спине резко подпрыгнула противогазная сумка. У последнего дерева ударил разрыв гранаты. Мелкие осколки обожгли шею – присев, я провел по ней рукой, вырвал из кожи крошечный осколок, – пустяки, царапина. Огонь гитлеровцев становился все гуще, из-за плетней, из-за хат били пулеметы и автоматы врага, раздавались хлопки винтовочных выстрелов, доносились отрывистые команды немецких офицеров.
Но было уже поздно. Горели, чадя черным дымом, вражеские грузовики, полыхали склады, стреляя струями искр. Ревело пламя над бочками с горючим. Десятки вражьих тел недвижно лежали на прелой лесной земле, неестественно повисли на плетнях, валялись на порогах хат, судорожно скрючились на полотнищах палаток.
– Отход! – раздалась команда.
Вместе с Лобецким, перебегая от дерева к дереву, мы двинулись в глубь леса. Мы уже отошли довольно далеко от села, уже встретились с группой, которая громила вражеский штаб, уже перевязали тяжело раненого десантника по фамилии Дедов и перезарядили диски автоматов. А стрельба позади все не утихала.
– Ишь разворошили осиное гнездо! – усмехнулся Лобецкий. И добавил, впервые обращаясь ко мне на «ты»: – Ты что это, дорогу метишь?
Я оглянулся. Из коробки противогаза, развороченной разрывной пулей, на росистую траву сыпался мелкий порошок активированного угля.
– Выброси его к черту! Здесь, в тылу, противогаз все одно не пригодится. А ты в рубашке родился! Возьми немец на полсантиметра ниже – был бы это твой последний бой!
Младший лейтенант слегка толкнул меня локтем в бок, чего никогда не позволил бы себе в мирное время, на его возбужденном всем пережитым лице разлилась улыбка.
– Ну, как? Видал – и немцы умеют бегать, когда их возьмешь за мягкое место… Так-то, сержант!
Я шел и чувствовал себя равным среди равных оттого, что не спасовал в этом бою. Я чувствовал себя счастливым. И знал: буду ли я жив или сгину в боях, – матери моей, близким и друзьям, которые переживут войну, не придется за меня краснеть…
* * *
Как выглядел тыл гитлеровской армии в то первое военное лето сорок первого года?
Эх, и хлеба стояли на колхозных полях! Оно могло быть добрым, небывало урожайным, то лето. А обернулось трагедией для тысяч и тысяч людей.
Гитлеровские солдаты с засученными рукавами и важные офицеры в высоких щегольских фуражках ехали и шли нашими дорогами. Упивались победами и властью, что обрели над чужими жизнями и чужой землей. Смеялись над нашим горем. И, радуясь даровой жратве и награбленному добру, орали «хайль».
А на городских площадях ветры уже раскачивали трупы повешенных. Над придорожными канавами и противотанковыми рвами, в которые сваливали тела расстрелянных, кружило воронье. Из ворот наскоро сделанных лагерей для военнопленных возами вывозили замученных, уморенных голодом и жаждой, затравленных собаками, забитых прикладами тяжелых маузеровских винтовок советских людей.
Таков был «новый порядок»…
Но несмотря на террор, на то, что повсюду уже шарили всевозможные «айнзацгруппы» и «зондеркоманды», предназначенные для установления этого самого «порядка», на дорогах, на проселках, на тропах кипело великое хождение. Возвращались горестные толпы беженцев, которых обогнали немецкие танки. Пробирались к своим группам и в одиночку красноармейцы и командиры, вырвавшиеся из окружения и бежавшие из плена. С боями двигались к фронту целые советские воинские части, не успевшие вовремя сняться с оборонительных рубежей и оказавшиеся по ту сторону фронта. Шли разведчики, посланные советским командованием выполнять первые боевые задания во вражеском тылу. Шли посланцы партии к подпольщикам и партизанам, оставленным на полоненной земле…
В селах русские, белорусские, украинские тетки, чуткие к чужой беде, вздыхая по сынам и мужьям, ушедшим в армию, да так и не подавшим весточки, загодя, еще днем расстилали на полах в хатах и избах чистую солому и чугунами варили картошку. Знали: к вечеру непременно попросятся на постой прохожие люди…
На этот-то нелегкий путь выпало ступить и мне. Впрочем, не сразу. Июль и часть августа наша 214-я воздушно-десантная бригада продолжала боевые действия во вражеском тылу. Первое нападение на вражеский штаб (в селе Рудня, если не ошибаюсь), о котором я рассказал, послужило добрым началом. За ним одна за другой последовали боевые операции, почти неизменно приносившие удачу. Что ни ночь – громили мы гитлеровцев на станциях и в райцентрах, нападали на вражеские колонны, взрывали склады, жгли мосты, устраивали засады на шоссе и большаках. Каждый бой прибавлял нам уверенности, раскрывал что-то новое в повадках и тактических приемах врага. Немало трофеев побывало в руках каждого десантника. Что нам только не попадало! Вороненые, горбатые автоматы Шмайсера; пулеметы «универсал» в длинных дырчатых кожухах; непривычного вида – голый ствол торчит из массивной рукоятки – пистолеты «парабеллумы» в глухих, как чемодан, черных кобурах из толстой кожи; ручные гранаты с длинными деревянными ручками, похожие на ножки от стульев, солдатские ремни, на алюминиевых пряжках которых красовались орел со свастикой в когтях и надпись «Готт мит унс»; не боящиеся ни воды, ни пыли швейцарские часы со светящимися циферблатами, сделанные, как рассказывали, в Швейцарии, по специальному заказу Гиммлера для войск СС.
И не раз после операций мы возвращались на место расположения бригады на мощных трофейных мотоциклах «Циндап» и на захваченных в бою военных грузовиках. Словом, постепенно мы превращались в партизан.
Где-то неподалеку от местечка Осиповичи, бригада повстречалась с прославленной дивизией генерала Галицкого, в полном составе, с техникой и вооружением, пробивавшейся к фронту.
Это была последняя регулярная советская воинская часть, которую мне пришлось видеть до того бесконечно счастливого дня в сорок четвертом, когда наше партизанское соединение дважды Героя Советского Союза А. Ф. Федорова встретилось с разведкой наступающей Советской Армии. Но от этого часа меня отделяли еще многие дни и ночи, проведенные во вражеском тылу…
Разумеется, гитлеровское командование вскоре установило, что дерзкие нападения, приносившие оккупантам немалый урон, совершаются десантной бригадой. Против нас были брошены крупные силы. По слухам – целая дивизия… В это время мы находились в непрерывном движении. Шли преимущественно по ночам. Днем, выбрав подходящий лес, останавливались на отдых.
Куда мы шли, какие решения принял комбриг – этого я не знал. Ведь я был простым сержантом. Боевой приказ Лобецкого на задачу, которую требовалось выполнить немедленно – вот все, что мне было известно на ближайшее будущее. И даже маршрут очередного перехода я узнавал, когда он оставался позади. Иначе нельзя. Этот первейший закон войны в тылу врага – глубокую конспирацию каждого шага и замысла, комбриг полковник Левашов неукоснительно соблюдал…
Обстановка тем временем осложнялась. Ночью, на марше впереди загремел бой: то ли разведка, то ли боевое охранение наткнулись на вражеский заслон. Мы свернули в сторону, стараясь оторваться от преследования, но гитлеровцы, видимо, уже засекли бригаду. С раннего утра в лес, где мы остановились, двинулись танки. За ними – густые цепи автоматчиков. Над головами, корректируя огонь артиллерии, закружили, сменяя один другого, зловещие «фокке-вульфы», впоследствии прозванные солдатами и партизанами «рамами». Со всех лесных опушек доносился отрывистый лай тяжелых минометов. Лес, раскатывая гулкое эхо, гремел от выстрелов и разрывов.
Судя по ярости, с которой враг рвался в лесную глубь, – гитлеровцы решили одним ударом покончить с бригадой.
Но наши командиры тоже были не лыком шиты. Комбриг, хладнокровно маневрируя батальонами, ротами и взводами, все время перебрасывал их из одной части леса в другую, как только там возникала опасность прорыва. Десантники стояли насмерть, не отступая без приказа ни на шаг. Где бы гитлеровцы ни поднимались в атаку – их всюду, из-за каждого дерева, встречал убийственный огонь автоматов и пулеметов. Бой шел без перерывов весь день. Множество скошенных пулями тел в серо-зеленых мундирах усеяли просеки. На лесных дорогах, чадя дымным пламенем, догорали танки и бронемашины, подбитые нашими сорокапятками. Десятка три пленных, захваченных во время контратак, уныло столпились у штабной полуторки, ожидая решения своей участи. А гитлеровцы, несмотря на бесчисленные попытки, так и не сумели зажать нас в кольцо… Поздним вечером, когда немцы, вдосталь навоевавшись за день, отошли, как говорится, на «исходные позиции» и бой затих, Левашов приказал свернуть лагерь и приготовиться к маршу. Перед тем, как выступить, полковник выстроил бригаду. Помню некоторые его слова, произнесенные сильным, слегка глуховатым голосом:
«Мы с вами крепкая, боевая воинская часть, действующая в тылу противника, – говорил комбриг. – Что мы уже сделали, сколько врагов положили, сами знаете. А потери, как видите, понесли совсем незначительные. Значит, тут воевать можно. И мы еще повоюем, наделаем немцу шороху. А выполним задачу – двинем через фронт. И запомните, товарищи, наши войска не разбиты, как об этом пишет враг в своих листовках. Правда, Красной Армии пока приходится отступать. Но зря враг радуется нашему отступлению. Нам придется биться долго, и впереди предстоят еще немалые испытания. Только не враг, а мы с вами будем праздновать Победу!.. Не мои это слова – партия так говорит. А раз говорит партия – значит, так будет. Запомните на всю войну!».
Слова полковника А. Ф. Левашова сбылись в точности. Но этому замечательному человеку не довелось дожить до победы. В ночь на 23 февраля 1942 года, будучи уже командиром 4-го воздушно-десантного корпуса и генерал-майором, он снова вылетел во вражеский тыл. Самолет, на котором летел командир корпуса, атаковал ночной истребитель врага. Крупнокалиберная пуля, пробившая обшивку кабины, наповал сразила Левашова…
О его гибели я узнал после войны. Я и сейчас вижу его перед строем бригады – спокойное, обветренное лицо, крепко сбитая фигура, пилотка, гимнастерка, туго перетянутая ремнем, четыре шпалы в голубых петлицах…
С этого памятного боя с гитлеровской дивизией враг преследовал нас по пятам. Пришлось бросить автомашины, орудия, походные кухни. В непрерывных стычках таяли боеприпасы… Насколько я мог судить о маршруте, мы шли на юго-восток.
Но вот, неподалеку от местечка Паричи, нас подстерегла беда: при попытке перейти железную дорогу бригада наткнулась на засаду. Случилось это ночью. Наша рота, которая шла в головном охранении, первой попала под огонь. Никогда не забуду того рокового места – поросшего редкой лещиной, освещенного ледяным светом ракет, сплошной, почти в упор треск очередей, разрывы мин и гранат. Мы залегли, прижимаясь к земле. Прямо передо мной среди ветвей бились вспышки автоматов и пулеметов… Что-то – не то осколок, не то пуля ударила в автомат, заклинила затвор.
– Назад! – сквозь гром донесся до меня голос Лобецкого.
Не поднимая головы, я принялся отползать. Руки наткнулись на что-то мягкое: передо мной лежал человек, широко раскинув руки. Он был мертв, в правой руке зажат пистолет. Я осторожно высвободил оружие, сунул его в карман. Потом, пригибаясь, побежал к лесу, что темнел неподалеку. На опушке уже собралось немало уцелевших десантников. Тут же были Лобецкий и командир роты Хотеенков.
– Берите людей и вперед! – перекрикивая пулеметы, приказал мне командир роты. – Будем выходить по азимуту сто тридцать семь!
При свете ракет, которые, не переставая, бросали гитлеровцы, я разыскал трех человек из своего отделения и, поглядывая на светящуюся картушку компаса, двинулся по азимуту, указанному Хотеенковым. Мы шли километра четыре. Стрельба стихла. Ракеты погасли. Нас окружала кромешная тьма. Моросил мелкий дождь. В сапогах противно хлюпала слякоть. Несколько раз, чтоб убедиться, следуют ли за нами остальные, я посылал связного, и он всякий раз возвращался, лаконично докладывая: «Идут». Но вот связной не вернулся. Я остановил бойцов – Зверева и другого, имени которого не помню. Некоторое время мы ждали. Потом сами двинулись назад. Никого. Кинулись влево, вправо – тот же результат. Продолжать поиски в такой темноте бессмысленно.
– Будем отдыхать! – решил я.
Мы свернули в лес, углубились в чащу и, завернувшись в плащ-палатки, забылись тревожным сном на мягкой лесной земле…
А недели через две я остался совсем один… Сначала тяжело заболел Зверев. Его начала бить лихорадка. Накануне утром, когда мы покидали место нашей ночевки в лесу, Зверев сказал:
– А мне сегодня голые бабы снились…
– Ну и что?
– Значит, быть приступу. Малярия…
– Ерунда, – не поверил я. – Все эти приметы – пустые россказни. Пошли!
Зверев, не сказав более ни слова, зашагал рядом. Я искоса поглядывал на него. Был он маленького роста, коренаст и жилист. На смуглом лице со слегка приплюснутым носом и выступающими скулами заметно выделялись широко расставленные темно-карие глаза в косых, монгольских разрезах. Зверев – его звали Демой, был родом из Сибири, откуда-то из-под Читы. До войны охотился в тайге, некоторое время, как он говорил – «старался» – добывал золотишко. Дема умел все: развести костер в проливной дождь, освежевать барана, испечь картошку, починить сапоги. Я ни разу не видел, чтоб он устал, стер ноги, не слышал, чтоб он пожаловался на голод, когда случалось подолгу оставаться без пищи. Мне казалось, с Демой никогда ничего не случится. И вдруг, на тебе! Какая-то малярия!
К середине дня Зверева затрясло. Он опустил крылья пилотки на уши, поднял воротник гимнастерки, хотя день был теплым. Лицо его побледнело, приобрело нездоровый желтый оттенок, на губах появилась синева, зубы выбивали дробь. Я взял у него вещмешок и плащ-палатку. Но и налегке он не мог идти. Мы остановились. Сжавшись в зернышко, зажав руки между колен, Зверев старался унять бившую его дрожь. Потом вытянулся, лоб его покрылся жарким потом, у него начался бред. Мы стояли рядом, не зная, чем помочь. К вечеру приступ прошел, и Дема уснул. Волей-неволей нам тоже пришлось остаться на месте. Но следующий день не принес облегчения: Зверев так ослаб, что не мог ступить и шагу.
– Мне б на печь, согреться, – тихо проговорил он. Неподалеку виднелось село. В этом селе мы оставили Зверева, как он того просил, у каких-то добрых людей, взявшихся вылечить бойца.
Некоторое время глухими проселками, избегая больших дорог, мы двигались, направляясь к Киеву, где, как рассказывали, продолжались бои. Но однажды расстались: мой спутник приглянулся молодой вдовушке – солдатке в попутном селе, в которое мы завернули поесть. Вместо обычной картошки, вдовушка устроила нам целый пир: нажарила яичницы с салом, угостила наваристым борщом, нарезала колбасы, раздобыла самогонки, которой я до того еще не пробовал.
– Остался бы ты у меня, хлопче, – ворковала она, усиленно подливая в стакан моего спутника и прижимаясь полной грудью к его плечу. – Без мужика в доме, – сам знаешь, каково одной горе мыкать. Поможешь хлеб с поля вывезти, травки накосишь. А у меня и кабанчик есть и коровка непоганая… Перезимуешь, а там видно будет!
– Ну, как? – спросил мой спутник, отводя взгляд.
– Сам думай… – отозвался я, видя, сколь велико искушение. – Так остаешься? Он молча кивнул.
– Вы не обижайтесь, – подхватила вдовушка. – А я уж вам хлебца дам на дорогу, сальца заверну…
Я не дослушал, вышел, не прощаясь. А что мне еще оставалось делать? Накануне выяснилось, что к Киеву идти незачем – встречный люд, который в оккупированных районах заменял газеты и радио, донес последнюю нерадостную весть: в город вступили гитлеровцы.
Как быть? Воевать в одиночку? Но что я могу сделать с единственным пистолетом? Эх, отыскать бы партизан! Да где ж их найдешь? Пораскинув умом, я решил все-таки идти на северо-восток, к Брянску. По слухам, там еще держался фронт. Но если слухи эти и неверны – в Брянских лесах непременно есть партизаны!
Я выменял в селе свой комбинезон на ватник, который надел поверх гимнастерки, к ватнику пришил внутренний карман для пистолета и двинулся в путь.
Теперь идти стало трудней – в селах появилась полиция. Гитлеровские коменданты усиленно вербовали в нее всяких подонков: уголовников, «бывших людей», имеющих собственные счеты с советской властью и просто людишек с мелкими душонками, которые уверовали в непобедимость фашистской армии и торопились занять теплое местечко при «новом порядке».
Первого новоиспеченного полицая я повстречал на берегу Днепра, в каком-то прибрежном селе. Чтоб продолжать путь к Брянским лесам, мне требовалось во что бы то ни стало перебраться через Днепр. Сделать это было непросто: мосты и паромные переправы тщательно охранялись, гитлеровцы обыскивали чуть не каждого, требовали документы и без долгих разговоров ставили к стенке всех, кто вызывал малейшее сомнение, а иной раз и без всякого повода.
Полицай – здоровенный дядя в кепке с пуговкой, на рукаве – белая повязка с надписью «Ordnungpolizei», имел лодку и за плату перевозил через Днепр.
– А тебе зачем на ту сторону? – спросил он, окидывая меня подозрительным взглядом маленьких, как булавочные головки, глаз. – Куда идешь?
– До дому.
– А иде тот дом?
– Под Новгородом-Северским, – назвал я город, что пришел на ум. – Да ты не бойсь, дядя…
– А на що мне бояться? Заплатишь? Меньше, як за сотню я и весла мочить не стану.
– Нет у меня денег.
– Рубаху отдашь?
– Ладно.
«Ну подожди же, – подумал я, усаживаясь в плоскодонку. – Заработаешь ты у меня рубаху!»
Ловко управляя веслами, полицай погнал плоскодонку к противоположному берегу. Не доезжая, бросил грести.
– А ну сымай!..
Делая вид, будто впрямь собираюсь раздеться, я нащупал в кармане пистолет и быстрым движением выхватил его.
– Вперед, гнида!
Дрожащими руками полицай сделал несколько судорожных гребков. Под днищем зашипел песок. Лодка остановилась. Не опуская пистолета, я перешагнул через борт и боком, так, что лодка все время оставалась в поле моего зрения, выбрался на берег.
– А теперь пошел назад! – крикнул я. – Плату спрашивай со своего Гитлера!
Полицай не заставил себя ждать. Но когда кусты тальника, густой щетиной покрывавшего низкий песчаный пляж, сомкнулись за мной, на реке, один за другим, хлопнули два револьверных выстрела: предатель был вооружен. Я хотел ответить, но пожалел патрон… Самое главное – я был на левом берегу Днепра. Не буду рассказывать подробности нелегкого двухнедельного перехода, который я совершил, останавливаясь только на ночлег. Вечером тринадцатого октября я был почти у цели – в Злынковском районе Орловской (ныне Брянской) области, в котором начиналась юго-западная часть знаменитого Брянского леса, известная среди партизан под названием Злынковских лесов или Софиевских лесных дач…
В этот день я вместе со случайным попутчиком заночевал в деревне Карпиловка.
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Многие более поздние события я начисто забыл, этот день четырнадцатого октября свеж в памяти, как вчерашний.
Пробуждение потрясло меня. Я сидел на «полу» – так называют в этих местах дощатый настил меж стенкой и печью, свесив босые ноги и молчал, не в силах произнести ни слова от огорчения, от обиды, оттого, что не знал – что же мне делать?
Мой случайный попутчик, с которым мы вместе ночевали, сбежал ночью, а вместе с ним «сбежали» мои кирзовые сапоги. Ботинки, которые он оставил – заскорузлые и рваные, оказались малы и не лезли даже на босую ногу.
Казалось бы, подумаешь, великое дело – сапоги! Но за окном кружили крупные белые снежинки, устилая раскисшую от долгих дождей землю тонким и непрочным марлевым покрывалом – в тот год снег выпал рано. В трубе пронзительно выл холодный северный ветер, предвещая скорый приход зимы. Нет, для меня сапоги были величайшей ценностью. Я обезножел…
Несколько раз в хату заходили какие-то женщины, сочувствовали, говорили разные успокоительные слова. Одна из них подробно рассказала, что ранним утром видела вора – он пробирался огородами прочь из села и даже подумала: «Що за человек?» Но сочувствия меня не утешали. Один, среди чужих людей, на земле, по которой рыскают враги, и где повсюду подстерегает гибель… Мало ли перевидал я за четыре месяца войны безвестных солдат, чьи тела истлевали в придорожных канавах и под кустами, болтались на виселицах, нашли последний приют в наскоро вырытых могилах, которые никогда не отыщут родные? Что ждет меня? К горлу подкатывал комок. Будущее представлялось чернее ночи. «Хорошо еще, что ватник с пистолетом в кармане я положил под голову и спал, не раздеваясь, в брюках и в гимнастерке, – мысленно успокаивал сам себя. – А то бы, пожалуй, остался совсем нагишом…»
В хату вошла хозяйка Фекла Васильевна Лысуха, – так ее звали, как я узнал позже, – пожилая женщина в темном платке. В руках она держала лапти и два больших куска серого домотканого полотна.
– Вот, принесла, – мягко улыбаясь, сказала она, протягивая мне лапти. – Придется поносить нашу крестьянскую обувку.
И, видя, что я не шевелюсь, прибавила:
– Ничего, сынок! Не одному тебе – всему миру о такую пору горевать приходится. Вот и мой Дорош на фронт ушел. Может, уж голову сложил. А может, бродит, как ты, неприкаянный… Поживешь у нас, смотришь – придумаем что-нибудь…
– Некогда мне оставаться, мать, – с трудом выдавил я. – К своим надо подаваться…
– Есть когда или нет когда – придется обождать, – строго сказала Фекла Васильевна. – А свои… Кто его знает, где они ближе? На фронте, здесь ли?
– Вы про что? – чувствуя какой-то скрытый смысл в ее словах, вскинулся. – О каких это своих речь?
Хозяйка промолчала.
Прошло несколько дней. За это время я кое-как научился обувать лапти. Впрочем, их так и не пришлось долго носить – хозяйка добыла мне откуда-то старые латаные-перелатаные сапоги, выменяв их на пуд жита.
– Сходи-ка ты, парень, в Мостище, – сказала она однажды. – Сестра моя там живет родная. Повидать тебя хочет… Тоже Феклой ее звать. В старое-то время, знаешь как? Имен не придумывали, не то что нынче. Кем поп наречет – тем и будешь. А наш батюшка сильно зашибал. По престольным праздникам так и вовсе не протрезвлялся. Вот и окрестил сестру так же, как и меня…
Фекла Васильевна-младшая, что жила в недалеком маленьком хуторке Мостище, до войны работала в Злынке на фабрике «Ревпуть» укладчицей спичек. На хуторе ее знали мало. И уж вовсе никто не знал, что с приходом немцев она стала связной районного партизанского отряда.
Я пришел к ней поздним вечером, когда солнце село и в окнах загорелись тусклые огоньки. Фекла Васильевна приняла меня как старого знакомого, усадила за стол, налила миску молочного крупяного супа, нарезала хлеба.
Это была еще не старая, красивая женщина – ясные, живые глаза, продолговатое румяное лицо со слегка вздернутым носом, полные губы и светлые волосы, стянутые в тугой пучок на затылке.
– Летчик? – спросила она, покосившись на мои замызганные голубые петлицы, которые я упорно не хотел спарывать.
– Десантник. Парашютист…
– Парашютист? – с неподдельным интересом переспросила Фекла Васильевна. – Расскажи, как же ты забрел в наши края? Все расскажи. Может, помогу тебе…
Я сразу же безоговорочно поверил этой женщине. Отчасти, конечно, потому, что в моем положении попросту не было иного выхода. Но, скорей всего, потому, что вся ее открытая внешность, голос, слова располагали к доверию. Что бы там ни было, я поведал ей всю свою историю. О том, что родом из Москвы, о том, как воевал в бригаде и как переправлялся через Днепр. И даже пистолет ей показал.
Фекла Васильевна-младшая выслушала меня внимательно, не перебивая.
– Так ты, значит, думаешь через фронт? – спросила она, когда я кончил.
– Через фронт ли, в партизаны – мне все равно…
– Добре, – сказала она, вставая и принимаясь стелить постель. – Ложись-ка спать.
– Но вы обещали… – начал было я.
– Ложись, ложись! Утро вечера мудренее!..
Ночью меня разбудил какой-то неясный шум. Открыл глаза – за столом, освещенные тусклым светом самодельного каганца, сидели трое вооруженных людей в штатском. Откуда мне было знать, что в тот раз на чердаке хаты Феклы Васильевны-младшей дневали партизанские разведчики? И что весь наш разговор они слышали от слова до слова.
– Крепко же ты спишь! – улыбаясь, сказал один из разведчиков, могучий дядя, заросший жесткой щетиной. – Мы уж будить собирались… Одевайся, брат, присаживайся. Дело есть! Давай знакомиться – Николай.
Командиром и одним из организаторов Злынковского районного партизанского отряда, в который я попал, был директор Софиевского спиртзавода Петр Андреевич Марков.
Вот как сложилась его партизанская судьба.