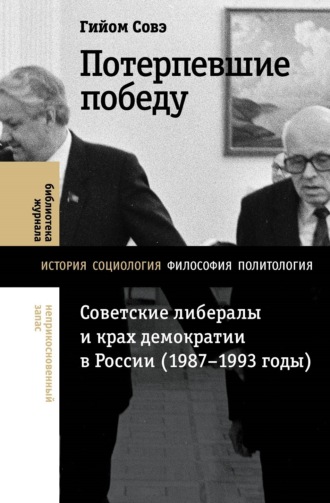
Полная версия
Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)
Начиная с 1987 года революционная моральная критика либеральных интеллектуалов стала преобладать в общественном дискурсе в ущерб реформистской и консервативной точкам зрения. Главным следствием этого изменения в общественном мнении явилось то, что мощное и неясное ощущение морального кризиса было обращено против коммунистической системы. Это явление укрепляет образ политики как чего-то направленного не на создание новых структур и разработку новой идеологии, а на демонтаж старых структур и на отказ от всякой идеологии, чтобы дать возможность выразить естественные моральные принципы человека и общества. Этот освободительный проект заставляет некоторых аналитиков российской политики говорить, как мы уже упоминали во вступлении, о том, что демократическая мобилизация, проведенная либеральной интеллигенцией, была по существу негативной в том смысле, что кроме свержения сложившейся системы она не предложила серьезной концепции будущего. В свете вышесказанного эту интерпретацию следует уточнить. Негативный характер либерального проекта объясняется тем, что его основные цели носят нравственный характер и формулируются в типично романтической манере в противовес институциональным и идеологическим конструкциям, которые считаются искусственными. Более того, эти стремления не поддаются доктринальной формализации, поскольку предполагается, что они просто выражают требования «нормальной жизни». Однако, строго говоря, они не являются негативными в том смысле, что якобы лишены какого-либо существенного содержания. Напротив, они несут в себе некоторые из самых мощных современных устремлений, одновременно рационалистических и романтических, десятилетиями оживлявших советскую культуру.
Изучение моральной концепции высвечивает особенность советского либерализма того времени в более широком контексте политической мысли XX века и призывает уточнить интерпретацию, согласно которой идеи советских либералов были якобы результатом разрыва с «советской идеологией», за которым последовало более или менее окончательное обращение к западному либерализму. Действительно, как признает историк Игорь Тимофеев, чей анализ тем не менее следует этой триумфалистской интерпретации, существует «определенное нелиберальное качество в мышлении [советских либералов], потому что они считают, что человек и общество должны стремиться к определенной цели, толкователями которой они считают самих себя»146. Аналогичным образом историк идей Анджей Валицкий, заявивший, что идеал свободы, который движет Горбачевым, – понятие «либерального здравого смысла», утверждает, что это понятие не до конца осознано советскими интеллектуалами, ведь им все еще свойственен «моральный фундаментализм», вынуждающий путать индивидуальную свободу с общественным моральным порядком, способным предоставить каждому бесчисленные возможности для самореализации147. Эта особая черта соответствует тому, что современная англосаксонская политическая философия называет политическим перфекционизмом: идея о том, что государство должно проводить реформы, чтобы создать условия для нравственного развития граждан148. Тенденция отвергать перфекционизм и отстаивать нейтральность государства по отношению к любому содержательному определению блага149 доминирует среди западных либеральных теоретиков с 1970‑х годов; вот почему Тимофеев и Валицкий говорят о том, что речь идет о нелиберальной идее. В данном вопросе советские либералы отличаются от своих западных коллег в одном важном аспекте: они перфекционисты, что подразумевает трепетное отношение к вопросу морали, необходимой для функционирования различных институтов.
Как мы уже видели, эта особенность советского либерализма была обусловлена в основном реификацией моральных обещаний гуманистического социализма. Однако было бы упрощением видеть в этом интеллектуальном наследии атавистическое мышление, которое якобы препятствовало развитию истинного либерализма в России. При рассмотрении этого вопроса в более широкой исторической перспективе становится очевидным, что подобный перфекционизм был распространен среди либеральных мыслителей в XIX и начале XX века, но во второй половине прошлого столетия история его оказывается более сложной и разделенной. В то время как он оставался влиятельным среди российских и восточноевропейских интеллектуалов, на Западе его влияние снизилось, и в рамках либеральной политической теории ему остается верным лишь меньшинство150. Поэтому если бы мы рассматривали моральный проект советских либеральных интеллектуалов как наивную или незрелую форму западного либерализма, то нас можно было бы справедливо обвинить в презентизме и западоцентризме. Мы предлагаем рассматривать его скорее как особую ветвь либеральной традиции, сформировавшуюся как реакция на усилившееся ощущение морального упадка в советском обществе, который ассоциировался с распространением лицемерия, цинизма, расчетливости и т. д. Вот почему особенность советского либерализма – и, несомненно, одна из причин его успеха – заключается в том, что он соединил модель западных либеральных обществ с устремлениями времени, отмеченного апогеем политического романтизма в СССР.
Иное толкование заключается в том, чтобы рассматривать использование либеральными интеллектуалами идей и верований времени как риторический прием в духе дискурсивной мимикрии, сознательно выбранной для того, чтобы подорвать режим изнутри, как это утверждалось по поводу диссидентов, возродивших социалистический легализм151. Это стратегическое измерение нельзя исключать, но его недостаточно для объяснения беспрецедентного масштаба самоотверженности либеральных интеллектуалов и мощного социального резонанса их моральной критики. Кстати говоря, многие из них призна́ются позже в своем горьком разочаровании в состоянии нравственности в капиталистической России в 1990‑е годы, отмеченной расцветом неприкрытого цинизма, что само по себе свидетельствует об искренности их предыдущих надежд на моральное восстановление. В любом случае независимо от того, основана ли эта критика на расчетах или на убеждениях, результат тот же: по мере углубления горбачевских реформ либеральная интеллигенция получает возможность популяризировать либеральные идеи, связывая их с моральными обещаниями советской модерности.
Глава 3
Мнения и истина
Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость.
Григорий Померанц, 1990 год152В начале 1987 года Горбачев инициировал серьезный политический сдвиг, вдохновленный идеями либеральной интеллигенции. Причин для такого поворота было много, в том числе и стремление к сближению с США для заключения соглашений по разоружению. Кроме того, на основе опыта первых двух лет перестройки было заключено, что партийно-государственная система не способна повысить уровень производительности труда путем ужесточения контроля, поскольку принуждение часто оказывается неэффективным и даже контрпродуктивным, как показала антиалкогольная кампания, а также потому, что сопротивление реформам во многом исходит из рядов самой Партии-государства.
Демократизация и консолидация общества
Признав этот провал, Горбачев мог бы пойти на попятную и попытаться найти компромисс с бюрократическим аппаратом, как это делали до него Хрущев и Брежнев153. Но убеждения Горбачева и его окружения побудили его идти вперед и углублять реформы, придав им революционную направленность. С этого момента сам Горбачев стал называть перестройку революцией, подобной той, что произошла в 1917 году. Он разработал новую программу, которую представил как возвращение к Ленину, но при этом проникся идеями либеральной интеллигенции: представительная демократия, рынок, правовое государство, разделение властей, гарантия прав личности и т. д. Конечно, приписывать либеральной интеллигенции непосредственное авторство новой горбачевской политики было бы переоценкой ее авторитета. В то время у большинства из них не было политических рычагов, которые позволили бы оказывать давление на власть. Вместо этого влияние либеральной интеллигенции осуществлялось опосредованно, через общественное мнение, через распространение новых концепций, которые могли быть взяты на вооружение командой реформаторов партии. Политолог Арчи Браун, который настаивает на исключительной роли Горбачева в руководстве реформами, признает, что «многие реформаторские концепции встречались сначала в трудах ученых-специалистов и только потом в выступлениях партийных лидеров»154. Так, например, в горбачевском дискурсе произошло качественное расширение понятия «общечеловеческие ценности», которое первоначально обозначало то, что объединяло человечество перед лицом глобальных угроз, таких как ядерная война, а затем постепенно включало экономические и политические принципы, воплощенные в западных странах, такие как экономическая конкуренция, частная собственность и представительная демократия155. Аналогичным образом в декларациях Горбачева трансформировался смысл понятия «перестройка»: из программы ускорения развития советского общества путем усиления контроля и мобилизации норм коммунистической морали оно превратилось в обязательство повсеместно демонтировать «административно-командную систему» путем демократизации и введения «экономических механизмов», то есть определенной формы рынка. Эта новая программа, впервые изложенная на пленуме ЦК в январе 1987 года, была подтверждена на пленуме в июне того же года, а затем полностью изложена в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», подготовленной летом того же года156. Окончательно новая политическая стратегия оформилась в решениях XIX партконференции в июне 1988 года, которая предусматривала демократизацию политической системы.
Целью демократизации, как и гласности, для Горбачева было преодоление сопротивления реформам со стороны консервативных элементов партии путем мобилизации общественного мнения и активности граждан для формирования единого фронта в поддержку перестройки. Интеллигенция с самого начала была призвана сыграть ведущую роль в этой масштабной мобилизации. Горбачев регулярно приглашал ведущих представителей интеллигенции – писателей, ученых, редакторов журналов – на заседания ЦК партии, где предлагал им встать на сторону перестройки и включиться в гласность для обличения проблем режима. Однако вскоре стало ясно, что гласность дает непредвиденный эффект – диверсификацию и поляризацию мнений. Коммунисты и консервативные националисты, первоначально с энтузиазмом воспринявшие реформы 1985 и 1986 годов, стали все более враждебно относиться к горбачевским реформам, когда те взяли курс на сближение с Западом. С 1987 года в среде интеллигенции возникли различные лагеря, которые вступили в противостояние через средства массовой информации, возрождая в новой форме старое противостояние западников и славянофилов XIX века: первые выступали за реформы по западным образцам, вторые отстаивали идею исторического пути, характерного для России. Особенно ярко этот раскол проявился в Союзе писателей СССР, который должен был олицетворять совесть художественной интеллигенции, но стал бастионом коммунистического и националистического консерватизма, что привело к оттоку либеральных членов. Гласность, не создав единого фронта в поддержку перестройки, привела к публичному выражению ранее полускрытых ценностных конфликтов.
Горбачев был очень обеспокоен этой поляризацией. На регулярных встречах с представителями интеллигенции Генеральный секретарь партии настаивал на необходимости консолидации общества. В своей книге «Перестройка» Горбачев признает наличие конфликтов, но преуменьшает их масштабы: «Среди литераторов на почве гласности действительно проявились групповые пристрастия, нетерпимость. Был момент, когда страсти среди писателей накалились». Выступая за плюрализм мнений, он тем не менее настаивает на недопустимости раскола: «Мы довели до них точку зрения ЦК: было бы очень печально, если вместо консолидации творческой, художественной интеллигенции разгорится перебранка и ее участники начнут использовать гласность, открытость, демократизм для сведения счетов»157. Однако проповеди ЦК уже не имели прежнего эффекта, поскольку гласность позволила высказывать критические мнения. В последующие годы конфликт ценностей должен был стать еще более острым.
Для либеральной интеллигенции горбачевский поворот в 1987 году стал долгожданным шансом завершить десталинизацию, начатую Хрущевым около тридцати лет назад, но прерванную Брежневым. Травма той первой неудачной попытки тяжело отразилась на сознании либеральной интеллигенции, которая, соответственно, стремилась гарантировать «необратимость» перестройки. Ухватившись за протянутую руку Горбачева, многие из них взяли на себя обязательство безоговорочно поддержать его, чтобы помочь устранить все препятствия на пути перестройки, которые принято называть «механизмами торможения». Эта первоначальная стратегия поддержки реформатора нашла свое отражение в часто повторяемых заявлениях о том, что «нет альтернативы Горбачеву» и «иного не дано», как это провозглашено в названии знаменитого сборника либерально-реформаторских текстов, изданного Юрием Афанасьевым летом 1988 года158. За стратегию безоговорочной поддержки ангажированные интеллектуалы получили эпитет «прорабы перестройки», который поначалу носил уничижительный характер, но затем вошел в обиход.
Для небольшого числа высокопоставленных интеллектуалов, таких как социолог Татьяна Заславская, экономист Олег Богомолов и экономист Леонид Абалкин, приверженность перестройке выражалась в консультативной роли в команде Горбачева. Но для всех тех, кто не имел привилегий быть услышанным высшим партийным руководством, приверженность перестройке происходила в средствах массовой информации, в борьбе за умы и сердца миллионов советских людей. Борьба за общественное мнение считалась решающей, поскольку, как утверждал в 1988 году журналист Лен Карпинский, самые важные «силы торможения» перестройки находятся именно в нравственной сфере159. Для Карпинского и многих его коллег важнейшей задачей был не демонтаж сталинских институтов административно-командной системы, а борьба с унаследованными от сталинизма взглядами, идеями и убеждениями: эгоизмом, цинизмом, догматизмом, предпочтением сильной власти, недоверием к личной инициативе. Короче говоря, задача состояла в том, чтобы с помощью критики и убеждения создать моральные условия для согласия и успеха реформ. В общем речь идет не о чем ином, как о «настоящей культурно-психологической революции в обществе, которая бы затронула корневые структуры самосознания миллионов людей и помогла им в полной мере приобрести способность к суждению»160.
Политический плюрализм и моральный монизм
Эта цивилизаторская миссия, сильно пропитанная духом Просвещения с его верой в совершенствование человека и убедительную силу рационального слова, в условиях гласности испытывала внутреннее осложнение. С одной стороны, идеал полного и искреннего выражения личной совести предполагал признание в публичной сфере плюрализма обоснованных мнений. Для большинства либеральных интеллектуалов этот идеал выражается в категорическом отказе от цензуры и партийной монополии на истину в пользу переоценки личных убеждений как легитимного объекта публичных дискуссий. С другой стороны, эти интеллектуалы склонны были считать, что в основе перестройки должен лежать единый, непротиворечивый набор так называемых общечеловеческих ценностей, которые сами по себе позволят обществу развиваться естественным путем. Выражаясь в терминах современной политической философии, можно сказать, что их перфекционистский проект основан на моральном монизме. Монизм не в том смысле, что для них существует только одно высшее благо, а в том, что различные ценности, отстаиваемые советскими либералами, образуют, по их мнению, целостное и непротиворечивое видение мира, которое должно быть единственной основой политических принципов в ущерб конкурирующим представлениям о мире. Безусловно, многие ценности, отстаиваемые советскими либералами, являются психическими установками, такими как честность и искренность, которые могут быть предметом консенсуса между гражданами с противоположными политическими взглядами. Но другие ценности, которые они отстаивают, предполагают содержательное определение нравственной жизни и социально-политического порядка, который делает ее возможной: например, искреннее выражение личной совести и первичная принадлежность к человечеству, реализуемые в представительной демократии и рыночной экономике. Но эти ценности весьма спорны в советском обществе, где вступают в конфликт с такими ценностями, как патриотизм, классовая принадлежность, партийность и доктринальное соответствие марксизму-ленинизму. Короче говоря, в этом обществе «общечеловеческие ценности» далеко не универсальны; по сути, они являются лишь одним из наборов ценностей, которые вступают в конфликт на общественной арене. При этом советские либералы склонны считать эти «общечеловеческие ценности» единственно верными принципами жизни общества, призванными вытеснить те, которые отстаивают их коммунистические и консервативно-националистические оппоненты. Эти оппоненты, в свою очередь, отвечают взаимностью, считая, что перестройка должна опираться исключительно на коммунистическую мораль или отечественные традиции. Отсюда – неустранимая конфликтность советской общественной жизни с того момента, когда допускается высказывание критических суждений, противоречащих официальной доктрине. И именно поэтому, вопреки надеждам Горбачева, демократизация и либерализация общества привели не к консолидации, а к его фрагментации по линиям разлома, долгое время скрывавшимся цензурой.
Если моральный монизм был относительно распространенной чертой политической мысли этого периода, то в политической мысли либеральных интеллектуалов он был более проблематичен, поскольку вступал в прямое противоречие с их идеалом полного выражения совести. Это противоречие проявлялось в неоднозначном отношении к мнению оппонентов, разрывавшихся между признанием плюрализма мнений и непримиримостью морального монизма. В обществе, привыкшем к ритуальному выражению единодушия, где различия в убеждениях принято оставлять для частных бесед, публичное столкновение ценностей вызывает беспокойство, и не только у Горбачева. Действительно, многие интеллектуалы задаются вопросом: не погубит ли раскол общества перестройку, ведь она должна опираться на широкую народную поддержку? В таком случае насколько конструктивны яростные дискуссии, которыми наполняется общественная жизнь? В связи с этим возникает вопрос о степени легитимного плюрализма в гласности: идет ли речь только о противостоянии множества мнений в общих допустимых рамках общечеловеческих ценностей, которыми руководствуется перестройка с 1987 года, или о множестве ценностей, то есть подвергая сомнению новые принципы перестройки? Являются ли мнения, идущие вразрез с идеями советских либералов, по выражению Карпинского, легитимными «вариантами перестройки» или опасными «вариантами без перестройки»161?
В 1987 и 1988 годах эти опасения ощущались лишь смутно, поскольку речи об открытой политической борьбе еще не шло, а гласность, как правило, сводилась к тому, чтобы «говорить правду» и бороться с ложью, что, казалось бы, дает очевидный критерий для различения легитимных и нелегитимных высказываний. Однако это предположение основано на наложении двух аспектов просветительской миссии гласности: эпистемологической борьбы с догмами при восстановлении фактической истины с помощью научного метода и нравственной борьбы с эгоизмом и цинизмом путем восстановления моральной истины через искреннее выражение личной совести. Для многих либеральных интеллектуалов две формы истины идут рука об руку или представляют собой две грани одной и той же Правды. Поэтому им кажется естественным отвергать мнения своих оппонентов не только как ошибку в суждениях, которую можно исправить, но и как заведомую ложь, с которой нельзя мириться.
Эпистемологическая цель гласности – замена догматических представлений истинным знанием, основанным на научном изучении общества. Это подразумевает не только исправление знаний о прошлом, избавление от всех мистификаций и упущений официальной истории, но и предложение точного анализа современного советского общества и необходимых реформ. Это стремление нередко порождало иллюзию объективности, о чем спустя несколько лет свидетельствовал Александр Яковлев, правая рука Горбачева в годы перестройки: «Создалась иллюзия, что нужно собрать как можно более полную и достоверную информацию, проанализировать ее строго научно и [затем] действовать соответствующим образом – тогда все пойдет в нужном направлении, будет найдена честная и разумная политика. Это иллюзия, которую я тоже разделял»162. В силу этой иллюзии казалось, что о человеческих делах можно говорить так же объективно, как говорит наука о природе, если избавиться от мифов, стереотипов и других «идеологических» искажений163.
В среде либеральной интеллигенции это позитивистское видение проявилось прежде всего в единодушном доверии к «объективным законам экономики», сформулированным некоторыми советскими экономистами, писавшими в то время в средствах массовой информации. Наиболее известным из них был, безусловно, Николай Шмелев, чья статья «Авансы и долги», опубликованная в 1987 году, имела огромный резонанс164. В этой статье Шмелев представляет рынок как объективный и естественный способ регулирования экономики. К «объективным законам» экономической жизни, утверждает Шмелев, относятся «складывавшиеся веками и отвечающие природе человека стимулы к труду»165. По его мнению, их действие столь же объективно, как и действие законов физики:
Кто будет вдалбливать всем нашим хозяйственным кадрам сверху донизу, что время административных методов управления экономической жизнью проходит, что экономика имеет свои законы, нарушать которые так же непозволительно и страшно, как законы ядерного реактора в Чернобыле, что современный руководитель должен знать эти законы и строить свои деловые решения в соответствии с ними, а не вопреки им?166
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Для удобства чтения мы используем термин «Россия» для обозначения как Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), так и Российской Федерации, которая стала ее преемницей после распада СССР.
2
Nivat G. De la Russie libérée à la Russie libre // Esprit. 1996. Juillet. № 223. P. 97.
3
Поскольку советская либеральная интеллигенция долгое время оставалась привязанной к социализму, она не была либеральной в том смысле, в каком ее обычно понимают на Западе. Мы вернемся к этому вопросу позднее.
4
Из беседы с Машей Гессен. Gessen M. Dead Again. The Russian Intelligentsia After Communism. London: Verso, 1997. P. 4.
5
Экономист Отто Лацис, которого цитирует Виктор Шейнис в статье «Уроки августа: демократам важно осмыслить просчеты и ошибки, совершенные до и после ГКЧП», Яблоко, 2006, https://www.yabloko.ru/Publ/2006/2006_08/060818_mn_scheinis.html.
6
Мы воспроизводим здесь слова антрополога Жанин Ведель для описания этапов отношений, направленных на оказание западными странами помощи Восточной Европе, включая Россию. Wedel J. Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989–1998. New York: Palgrave, 2001. P. 7.
7
Lewin M. The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation. Berkeley: California University Press, 1989; Ferro M. Les origines de la perestroika. Paris: Ramsay, 1990.
8
Fish S. Democracy from Scratch. Opposition and Regime in the New Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 28.
9
McFaul M. Russia’s Unfinished Revolution. Political Change from Gorbachev to Putin. Ithaca: Cornell University Press, 2001. P. 63.
10
Weigle M. Russia’s Liberal Project. State-Society Relations in the Transition from Communism. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000; English R. Russia and the Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals and the End of the Cold War. New York: Columbia University Press, 2000.




