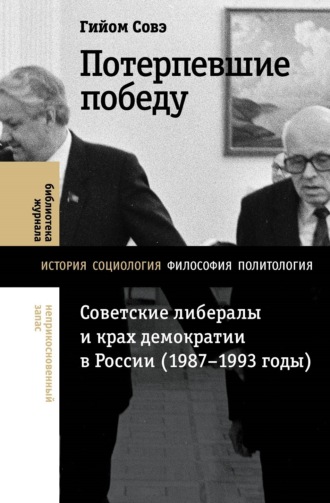
Полная версия
Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)
К тому же у Юрия Карякина и Алеся Адамовича меланхолия по поводу естественного прогресса является результатом усвоения понятия нравственной чистоты, пропагандируемой Коммунистической партией, которую они интерпретировали как личную совесть, которая приобретает всемирное значение в контексте борьбы за мир и ядерное разоружение. В 1960‑е годы Карякина, воспитанного на социалистическом идеале моральной непримиримости и на отказе идти на компромисс по принципиальным вопросам, все больше беспокоила безнравственность советского руководства113. Он отказался от марксизма-ленинизма – но еще не от социализма, – а его духовными учителями стали Достоевский и Солженицын, научившие его судить о мире в соответствии с критерием личной совести, основанной на абсолютном требовании честности, правды и искренности. Однако он считает, что совесть основана не на традиционных ценностях, а на идее единого человечества, сплоченного угрозой ядерного уничтожения. В начале 1980‑х годов Карякин вместе со своим другом, писателем Алесем Адамовичем, начал принимать участие в движении за мир и ядерное разоружение114. В статье, опубликованной в самом начале перестройки115, Карякин утверждал, что возможность ядерной войны ставит человечество в такую ситуацию, когда совершенно необходимо преодолевать свои разногласия и строить политику на основе морали. По его мнению, ядерная угроза подтверждает смертельную опасность любого нарушения «объективных нравственных норм», которые, как он считает, так же абсолютно объективны, как законы физики. Карякин находится, похоже, под сильным влиянием трудов Лихачева, которого он с одобрением цитирует, описывая нравственную сферу как экосистему, которая должна быть восстановлена для собирания «всех жизненных, жизнетворческих сил для борьбы со смертью». Так же как Адамович в это время116, он с возмущением осуждает «бункерную психологию», которая заставляла многих людей беспокоиться о личном выживании, вместо того чтобы пытаться спасти человечество в целом. При этом Карякин и Адамович осуждают эгоистический индивидуализм с такой же силой, как и в годы своей сталинской молодости, но теперь они утверждают, что нравственность зависит от личной совести, которая является не носителем какой-либо доктрины или идей партии, а неотъемлемым атрибутом человечества, а угроза ядерного уничтожения придает актуальность такой позиции. Поэтому прогресс человечества требует, по их мнению, восстановления общечеловеческих ценностей, которые гарантируют функционирование моральной экосистемы.
Краткое описание этих четырех авторов дает лишь ориентиры для исследования истоков романтической чувствительности либеральной интеллигенции эпохи перестройки. Тем не менее эти элементы интеллектуальных биографий позволяют нам наблюдать общую тенденцию к реификации идеалов, изначально ассоциировавшихся с социализмом. Мы позаимствовали концепцию реификации (naturalisation) у историка Шейлы Фицпатрик117, которая использует ее для обозначения процесса, уже почти завершившегося, по ее мнению, к середине 1960‑х годов. Благодаря этому процессу советский человек больше не рассматривается как неопределенный идеал, который еще следует воплотить в жизнь; теперь он предстает как данность, с которой нужно считаться118. По мере того как прометеевский пафос формирования нового человека исчезает, черты советского общества все чаще представляются как универсальные свойства, истинность которых выходит за рамки исторического контекста классовой борьбы. Так мы увидели, что начиная с 1950‑х годов коммунистическая мораль упоминается в официальных документах как лучшее воплощение общечеловеческой морали. Эта точка зрения нашла большой отклик среди советских интеллектуалов, которые благосклонно относились к десталинизации, настаивали на универсальном значении социализма и впоследствии оказались в авангарде либеральной интеллигенции, приверженной перестройке. Их растущее разочарование в социализме, особенно после подавления в 1968 году Пражской весны с ее обещанием «социализма с человеческим лицом», а также встречи с глубоко романтическими интеллектуалами-националистами, такими как Солженицын и Лихачев, привели их к углублению реификации своих идеалов, отныне связанных не с универсальным характером проекта построения коммунизма, а с либеральными идеями парламентской демократии и рыночной экономики, которые, как им казалось, лучше воплощали естественное развитие общества. Даже когда моральные обещания советской модерности исчерпали себя, идеалы самореализации и интеграции в общество, развивающееся естественным путем, сохранились, но их романтическое восприятие обострилось настолько, что стало вызывать меланхолию: эти ценности были, кажется, утрачены на пути строительства коммунизма. Эта меланхолия, в свою очередь, побуждает к типичному романтическому протесту против искусственной системы, отвергающей эти ценности.
Чувство системы
Согласно марксистско-ленинской доктрине моральный упадок позднесоветского общества объясняется, как мы видели, прежде всего эпизодическими нарушениями со стороны коррумпированных личностей. С этой точки зрения нравственная критика является, по сути, реформаторской, поскольку основывается на активизации фундаментальных ценностей общества, в данном случае норм коммунистической морали. В отличие от такого подхода, концепция морали либеральной интеллигенции, основанная на тоске по общечеловеческим ценностям, осуждает советское общество с абсолютно внешней для него точки зрения: человечество, цивилизация, природа, жизнь. Эта моральная критика в основе своей революционна, поскольку направлена на демонтаж системы, которая создает условия для совершения индивидуальных нравственных проступков. В лексиконе того времени этот подход к социальной реальности назывался «системным» (сегодня мы бы сказали «структурным»), и в этом смысле либеральные интеллектуалы считали его более глубоким и последовательным, чем реформистские подходы, изобличающие «негативные явления» в советском обществе.
Статьи Юрия Буртина имеют большую ценность для понимания системного подхода либеральной интеллигенции, потому что представляют собой размышления о роли социальной критики и ее возможностях. Для большинства интеллектуалов, вовлеченных в дебаты в СМИ, подобный вопрос носит очевидный и, следовательно, имплицитный характер: их яростная критика редко бывает рефлексивной. Буртин же стремится разъяснить собственные размышления, поскольку считает очень важным передать наследие своего поколения, политизированного в контексте хрущевской десталинизации, молодому поколению, которое знало только брежневский застой. «Но что знает об этом времени – о наших 60‑х годах – основная масса современных читателей, те, кому сегодня 30–35, а тем более 20? Рискнем утверждать, что почти что ничего»119. Чтобы исправить ситуацию, он с 1987 года начинает публиковать серию статей120, в которых не только выстраивает системную критику советской действительности, как многие его коллеги и друзья, но и объясняет, как это следует делать. При этом Буртин не претендует на то, чтобы предложить новый метод, а просто хочет показать молодым советским людям, что́ означает настоящая критика для поколения, к которому он принадлежит.
С самого начала Буртин признает, что советская пресса не испытывает недостатка в критиках. Напротив, многие газеты и журналы с готовностью обличают всевозможные социальные проблемы, будь то поведение местных партийных руководителей, алкоголизм некоторых рабочих или плачевное состояние окружающей среды. Однако, говорит Буртин, большинство этих критических высказываний носят частичный характер, потому что рассматривают отдельные проблемы, не замечая тайные связи, которые существуют между ними. Настоящая критика должна быть «системной», то есть должна выявить структурную причину зла, которая лежит за всеми отдельными и частными проблемами. Буртин называет такое отношение «чувством системы» и приводит в качестве примера Николая Добролюбова, родоначальника жанра, известного в XIX веке как «реальная критика»121:
Решительное преимущество Добролюбова заключалось, если сказать одним словом, в системности его понимания окружающей действительности <…>. Там, где другие находили лишь массу больших и малых частностей и случайностей, случайно же соседствующих или сцепленных между собою, конгломерат отдельных, разрозненных явлений, процессов, социальных групп и сил, он видел нечто внутренне однородное, подчиняющееся общим закономерностям. Иначе говоря, видел систему <…>. Именно благодаря этому «чувству системы» едва ли не каждая по видимости локальная литературная тема воспринимается Добролюбовым как характерное и знаменательное проявление общественного целого и тем самым как бы «достраивается» до этого целого, осмысляется в своем полном социально-нравственном значении122.
В этом отрывке Буртин говорит именно о литературной критике, но упоминание «чувства системы» очень хорошо согласуется с тем, как он и его либеральные коллеги критикуют советское общество. «Системный» характер их подхода особенно очевиден в их размышлениях о Сталине и его наследии. Стремясь выйти за рамки хрущевской критики культа личности, они настаивают на осуждении не только одного Сталина, но и созданной им системы – сталинизма. И снова Буртин высвечивает эпистемологические и этические особенности такого применения системной критики. В статье 1989 года123 он утверждает, что подобная критика необходима для того, чтобы вынести окончательное и объективное суждение. После XX съезда и до сегодняшнего дня, напоминает он, размышления о Сталине касались в основном его личности. Это породило бесконечные споры между теми, кто, подобно Анатолию Рыбакову124, изображает Сталина подлым и коварным человеком, и теми, кто, как Константин Симонов125, представляет Сталина мудрым и проницательным стратегом. Буртин осуждает слабость этих психологизирующих аргументов: «Как совместить эти две правды между собою, как привести их к какому-то общему знаменателю? В рамках „личностного“ подхода задача, по-видимому, не имеет решения»126. «Чувство системы» позволяет преодолеть эту двойственность образа Сталина благодаря урокам, которые можно ретроспективно извлечь из робких реформ Хрущева и Брежнева, показавших, что «суть не в лицах и даже не в тех конкретных формах, которые может принимать выкованная Сталиным система бюрократической диктатуры, – суть в самой этой системе»127. Знание этой губительной и единственной причины, по мнению Буртина, привносит в критику Сталина объективность, которой ей не хватало. «Однако нынче уже стал возможным совершенно другой взгляд на предмет затянувшегося спора – оценка исторической роли Сталина на основе такого решающего и вполне объективного критерия, как характер созданной под его руководством системы общественных отношений. <…> И вот если с такой точки зрения мы посмотрим на Сталина, то при самой полной объективности не останется места никакой двойственности в оценках»128. Для Буртина и многих других критика Сталина является не просто историческим вопросом. «Чувство системы» направляет протесты, вызванные различными социальными проблемами, против советских институтов, которые в их глазах все еще представляют собой сталинскую систему. Лен Карпинский считает это самоочевидным: «беглого взгляда», говорит он, достаточно, чтобы увидеть, что все препятствия на пути перестройки имеют «один ветвящийся корень, который воплощен в сталинизме»129.
Системный подход либеральных интеллектуалов отдаляет их от формы реформизма, особенно распространенной среди националистических интеллектуалов, а именно от идеи о том, что моральная деградация общества проистекает из индивидуальной трусости тех, кто отказывается следовать своей совести. Если либеральные интеллектуалы сходятся во мнении со своими националистическими «коллегами» по поводу первостепенной важности следования совести – понятие, которое они широко используют, – то они считают, что ее искреннее выражение проявляется в активизации не российских традиций, а универсальных ценностей, общих для всего человечества. Более того, они утверждают, что индивидуальная трусость не является основным объяснением морального упадка, а сама обусловлена искусственной и деспотичной системой. Вот почему, по их мнению, тезис о том, что нужно прежде всего «начинать с себя», не совсем верен.
Так, в статье 1987 года Буртин пытается исправить картину морального разложения, нарисованную в недавнем романе националиста Валентина Распутина «Пожар». В этой книге пожар, который опустошает сибирскую деревню, подпитывается безразличием, эгоизмом и продажностью жителей, которые забыли о древних традициях взаимопомощи. Эта книга – крик отчаяния по поводу упадка русской деревни, испорченной современными индивидуалистическими ценностями. По этой причине роман был дружно одобрен литературоведами и советским руководством за критику советской действительности. Буртин, однако, считал, что причитания Распутина и его комментаторов по поводу морального падения не раскрывают суть вещей.
Самая распространенная среди критиков мысль о том, что «спрашивать приходится только с себя» и что «мы слишком много перекладываем на плечи общества, забывая о персональной ответственности», носит, думается, весьма односторонний характер. Что «с себя» – это, конечно, правильно, иначе любой разговор о современных проблемах лишается нравственно-обязывающего смысла. Однако почему же только с себя <…> когда речь идет о «народе», о глубоких сдвигах в нравственном облике больших человеческих масс? <…> Писатель [Распутин], и не он один, похоже, представляет себе дело так, что требования личности к себе и ее же требования к обществу как будто оспаривают друг у друга одну и ту же площадь, чем больше места занимают одни, тем меньше остается другим130.
По мнению Буртина, различие между личной моралью и моралью общества – это иллюзия. Во-первых, потому, что каждый человек является не только тем, кем хочет быть, но и суммой социальных отношений. Во-вторых, и это самое главное, потому, что нравственное качество совести измеряется среди прочего интересом, проявляемым к благу общества. В отличие от «стоической» позиции Солженицына и Лихачева, которые выступают за добродетельную жизнь даже в оковах, Буртин выражает сомнения в способности к самосовершенствованию того, кто приспосабливается к любой социальной ситуации. Короче говоря, пробуждение совести является необходимым, но недостаточным, так как не влияет на губительную систему, которая поощряет индивидуальный компромисс. Моральная критика должна быть расширена от субъективных недостатков до структурных причин. Леонид Баткин высказывается в том же духе:
что там ни говори, главная проблема – не «инерция внутри нас», не то, что перестройку «каждый должен начинать с себя». В этих клише заключены, конечно, верные психологические наблюдения, но мы не такие дурачки, чтобы подменить политику психологией и надеяться самовоспитанием выиграть борьбу с мощной бюрократической машиной131.
Для Буртина и Баткина, как и для большинства либеральных интеллектуалов, приверженных демократизации, восстановление нравственности требует прежде всего разрушения структурного источника отдельных нарушений. Эта идея об искусственной системе, искажающей сознание своих субъектов, выражена в концепции «административной системы управления», которая стала чрезвычайно популярной в то время.
Критика административно-командной системы
Концепция «административно-командной системы»132 была создана весной 1987 года экономистом Гавриилом Поповым. Она сразу же получила общественное признание и быстро стала самым распространенным определением – и, следовательно, толкованием искусственной системы, которую перестройка была призвана разрушить. Для проведения анализа современной советской административной системы Попов использует образ типичного сталинского руководителя, описанного Александром Беком в его романе «Новое назначение»133. Эта система, утверждает Попов, является источником морального упадка общества:
Многим кажется, что стоит вернуться к методам руководства сталинского типа, и разом удастся покончить и с недисциплинированностью на производстве, и со срывами планов, и с погоней за легкой наживой, с корыстолюбием, с наркоманией <…> Но некоторые люди [в том числе и сам Попов. – Прим. ред.] считают, что истинные корни всех этих явлений лежали именно в Административной Системе, они росли и пускали все новые побеги именно в те годы, когда Система процветала и укреплялась134.
Эта система, утверждает Попов, основана на централизации решений и их слепом исполнении чиновниками низшего звена, которые низведены до ранга покорных и циничных исполнителей. При этом экономист отвергает критику бюрократа, развращенного наслаждением власти, что, как мы видели, типично для официальной нравственной доктрины марксизма-ленинизма. Для Попова бюрократ – это жертва системы, винтиком которой он является. Требование слепого повиновения вызывает у его исполнителей «разлад мысли и дела, чувств и их проявлений»135. Иначе говоря, речь идет о системной двойственности.
Западные наблюдатели советского общества неоднократно подчеркивали этот феномен раздвоения мысли, речи и жеста, чтобы отметить способность его граждан адаптироваться к самым серьезным социальным и политическим требованиям и противостоять им136. Это героическое видение двойственности основано более или менее имплицитно на концепции личности, широко распространенной в западных социальных науках и особенно в политологии, которая утверждает, что цельность индивида предшествует его отношениям с обществом и с властью, с которыми он поддерживает отношения, основанные на сопротивлении или подчинении. Уинстон, герой романа Джорджа Оруэлла «1984», является парадигматической фигурой этой способности сохранять цельность своей личности, используя рациональные стратегии сопротивления тоталитарному господству. Но в отличие от Уинстона, чья трагическая судьба выдает пессимизм Оруэлла на фоне апогея сталинского режима, советские люди одержали, похоже, победу в защите индивидуальной целостности своей личности. Действительно, перестройка часто рассматривается как момент, когда индивидуализм советских людей, долгое время скрывавшийся под личиной конформистского коллективизма и ритуальных проявлений лояльности, проявился в полной мере137. В свою очередь, гипотеза о таком скрытом индивидуализме объясняет легкость, с которой советские люди приняли и разделили основные принципы западного индивидуализма, в частности идею о неотъемлемом достоинстве личности138.
Однако смысл моральной критики, которой Попов подвергает системную двойственность, не в этом. Он далек от восхваления адаптационных способностей бюрократов, которые могли бы сохранить свою совесть в условиях сильнейшего давления, и осуждает пагубное воздействие этой двойственности на развитие их личности и, следовательно, на общество в целом. Позаимствовав научные термины у биолога Павлова, экономист описывает шок, вызванный двойственностью, как когнитивную дисфункцию коры головного мозга, которая причиняет сильные страдания тем, кто ее испытывает (в данном случае это первое поколение советских руководителей Системы, которые были искренними коммунистами). Попов признает, что руководители Системы следующего поколения настолько свыклись с двуличием, что их не мучают угрызения совести. Но в глазах Попова отсутствие психологических страданий не делает их цинизм более легитимным, потому что он представляет угрозу обществу. В данном вопросе экономист разделяет широко распространенное в то время опасение по поводу моральной интоксикации коррумпированных меньшинств. Таким образом, по мнению Попова, структурный цинизм бюрократов вреден, потому что деморализует общество в целом, принося такие бедствия, как «замедление темпов экономического развития и научно-технического прогресса, многочисленные нравственные потери, нигилизм среди молодежи»139.
Критика административно-командной системы не подтверждает распространенность скрытого индивидуализма в СССР; она обвиняет советский режим в отчуждении личности, которое социалисты всегда изобличали как структурный продукт капитализма. Однако Попов не отказался от социализма (пока, по крайней мере), но упрекает его в том, что тот не выполнил свои моральные обещания. В знаменитой статье 1987 года Попов осторожно указывает на то, что двуличие руководителей системы «противоречит самой социалистической идее, в центре которой – человек, его духовный мир и нравственный облик»140.
Вывод, который следует из этой радикальной критики, подразумевает крутой поворот в стратегии реформ перестройки: Попов призывает не к усилению дисциплины и принятию новых принудительных мер (касающихся, например, употребления алкоголя), а к демонтажу административной системы и переходу «на экономические и демократические методы и формы»141. При этом он опирается на дихотомию, распространенную среди советских экономистов-реформаторов с 1960‑х годов, между неэффективностью «административных механизмов», используемых бюрократией, и эффективностью «экономических механизмов», присущих отношениям обмена, которыми являются материальные и нравственные мотивации. Но в отличие от экономистов 1960‑х и 1970‑х годов, которые стремились рационализировать систему планирования на основе кибернетики и математической экономики, Попов, отвергающий механическую искусственность бюрократического государства, пытается представить научную объективность как возвращение к законам природы. Он описывает административную систему как «идеально точную машину», которая превращает людей в «маленькие винтики в огромном государственном механизме», что противоречит «правде жизни»142.
Либеральная интеллигенция сразу же высоко оценила концепцию «административно-командной системы» и приняла ее как наиболее распространенную характеристику сталинизма, преодоление которого стало бы непременным условием установления демократии и рынка. Некоторые авторы, такие как Буртин и Афанасьев, открыто и с одобрением цитируют Попова143, но большинство используют понятие, не указывая его автора144, что говорит о его очевидном характере. В 1991 году один журналист заметил: «Словосочетание „административная система“ стало столь устойчивым и привычным для нас, что, употребляя его, мы и не вспоминаем об авторстве Г. Х. Попова, „создателя“ этого термина»145. Исключительная популярность этой концепции объясняется тем, что она отражает и укрепляет широко распространенное среди либеральной интеллигенции мнение о том, что советское общество страдает – особенно в нравственной сфере – от излишнего государственного контроля, а не от его недостатка или неадекватного характера. Таким образом, конечная цель перестройки заключается не столько в построении лучшей системы, сколько в демонтаже существующей, для того чтобы вернуть общество, основанное на общечеловеческих ценностях, таких как демократия и рынок, в русло «естественно-исторического» развития.
Специфика советского либерализма
Три концепции морали, которые мы представили в этой и предыдущей главах, иллюстрируют различные значения политического дискурса о морали в эпоху перестройки. Можно заметить, что для некоторых этот дискурс носил реформаторский характер, для других – консервативный, а для кого-то еще – революционный. С точки зрения марксистско-ленинской концепции морали, которой придерживались руководители партии в течение первых двух лет перестройки, нравственная критика является, по сути, реформаторской. Речь идет об ускорении развития общества путем активации его фундаментальных норм, воплощенных в коммунистической морали. Усвоение этих норм рассматривается как необходимое условие для самореализации. Таким образом, меры по нравственному оздоровлению – просвещение, контроль и активация – направлены на лучшее усвоение этих норм. Консервативная концепция морали также присутствует в политическом дискурсе перестройки. Она направлена на восстановление или сохранение традиционных российских ценностей, отчужденных модернизацией СССР. Таким образом, националистические интеллектуалы выражают свою глубокую романтическую тоску по идеализированному прошлому России, в котором человек якобы был духовно интегрирован в общество. Помимо призыва к духовному пробуждению – «Начать с себя!» – у националистов есть разные политические предложения: консервативные националисты требуют уничтожения западного влияния путем усиления партийного контроля, в то время как либеральные националисты делают акцент на продвижении и сохранении национальной культуры. Наконец, существует также концепция морали, которую можно назвать революционной, поскольку она направлена на демонтаж коммунистической системы в том виде, в котором она существует, во имя общечеловеческих ценностей, которые до 1990 года ассоциировались с социализмом. Либеральные интеллектуалы, продвигающие эту концепцию морали, твердо верят в прогресс и модернизацию, модель которых они видят в западных капиталистических странах. В то же время они испытывают романтический трепет с налетом меланхолии по отношению к «нормальному» обществу, чье «естественно-историческое» развитие было прервано искусственным проектом социальной инженерии. С этой точки зрения их защита демократии и рынка основана на протестах против извращений – цинизма, эгоизма, карьеризма, – спровоцированных механической системой, которая, по их мнению, является препятствием для полной самореализации.




