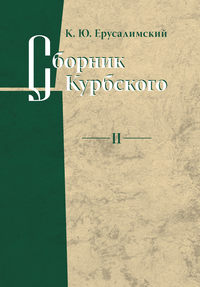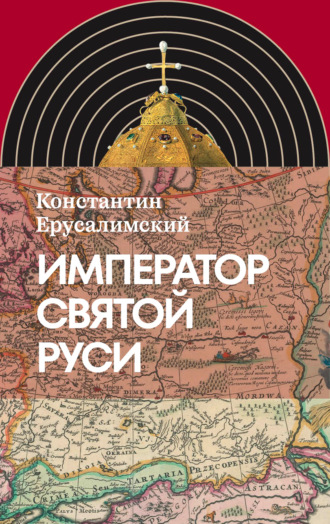
Полная версия
Император Святой Руси
И это, безусловно, неполный список тех, кто причастен. Его можно было бы кратно увеличить. Вокруг множество ученейших коллег, которые помогли обдумывать сюжеты данной книги, но не несут ответственности за ее недочеты или даже прямо указывали на них. Книга выходит в свет благодаря самоотверженной помощи коллег издательства «Новое литературное обозрение». Редакторам серии М. Б. Велижеву и Т. М. Атнашеву и литературному редактору О. П. Панайотти слова моей глубокой признательности за неоценимую поддержку.
Глава 1
Народ Святой Руси
Московский народ
В средневековой Руси трудно найти социальный дискурс как устойчивый комплекс высказываний о способах общежития и их осуществлении на практике. Социальная теория, в частности, не обнаруживается в московских источниках до последних десятилетий XVII в. Но там ли мы ее ищем? Юридическое изучение общества только начиналось в Старом Свете XVI в., и даже известные к тому времени ученые системы не производят на исследователей впечатления сходства с тем, что в классической эпистеме принято называть теорией49. Высоколобые доктрины, приписывающие обществу, народу и государству взаимосвязанные атрибуты, взаимные обязательства и общие рамки существования в форме конституции или утопической модели, характеризуют приход модерного проекта и являются его неотъемлемыми симптомами. Можно ли помыслить вне этого проекта коллективный субъект? Устойчивая субъектность народа – предмет рефлексии модерной эпохи, и исследования в области политической теории и социальной истории оказываются в равной мере крайне неблагоприятными для концептуализации этого понятия не только в не-модерных культурах, но и в тех странах, где модерный проект в той или иной мере осуществился50.
В этом смысле конец XVII в., значительная часть следующего столетия и даже XIX в., несмотря на бурные и многочисленные преобразования, не принесли России существенного обновления:
Российское «гражданское общество образованных» (общество) выросло только в конце XVIII – начале XIX в. и в этот период не было предназначено для описания универсалистского общества, охватывающего всех граждан. Хотя образованные россияне обращались к концептам публика, общество и народ, которые выходили за пределы социального партикуляризма, историки должны быть осторожными, прилагая значения этих категорий, возникшие в XIX в., к социальным отношениям XVIII в. В то же время они должны быть осторожны, прилагая категории социологии и политической теории – например, «буржуазная публичная сфера» Юргена Хабермаса – к историческим контекстам, в которых подобные категории еще не артикулировались.
Историк, который стремится воссоздать голоса людей, сделает лучше всего, если использует язык, категории и концепты, артикулированные самими этими людьми. Это почти невозможно в отношении людей, которые не выражали себя в письме, а что касается тех, кто создавал записи, различимые голоса определенного исторического контекста как манифестации социального действия, то это может столкнуть историков с множеством разобщенных артикуляций51.
Более пессимистичную точку зрения высказала Вера Тольц, отметившая, что формирование российской нации было и вплоть до выхода в свет ее книги оставалось «неудавшимся проектом», в котором имперская доктрина подавила контрактную концепцию нации, а затяжной антагонизм между элитами и массами не позволил сформироваться универсалистским социальным категориям. Примером для В. Тольц служит понятие народ, так и не охватившее в России, по мнению автора, типичного для европейского Нового времени его носителя – буржуазию52.
Из понятий, которыми описывало себя российское образованное общество в конце XVIII – начале XIX в., жителям России и русских земель под властью великих князей московских в предшествующие столетия одно не было знакомо («публика»), другое не использовалось для обозначения общества («общество»). Ближе всего к социальным идентичностям было слово «народ», и нам далее предстоит очертить его семантические слои, чтобы понять, насколько близко они при этом подступают к языку российского образованного общества XVIII–XIX вв. Лексема «народ» была дискуссионным полем, спорной идентичностью, не имевшей устойчивого референта. Питер Бёрк формулирует тот круг вопросов, который лишает историков в наши дни прямого доступа к этому коллективному субъекту:
Для начала: уже в определении предмета заключена трудность. Кто это – «народ»? Все и каждый, или только те, кто не-элита? Если это последние, то мы пользуемся остаточной категорией, и, как обычно бывает в случаях с остаточными категориями, рискуем приписать гомогенность подвергающимся вычитанию53.
Резюмируя работы свои о народной культуре и Роже Шартье по культурной истории, Бёрк отрицает существование до-модерных народных объектов и культурных практик, отмечая, что элиты Европы до середины XVII в. были «бикультуральными», в той или иной мере участвуя в «народной культуре»54.
По наблюдению В. П. Козлова, «народ» российской истории XV – начала XVII в. в «Истории государства Российского» выступает и как общность, не охватывающая духовенство, боярство, войско и государственных чиновников, и как зритель или действующая сила истории:
Однако в ряде случаев это понятие не удовлетворяло Карамзина, и он, стремясь точнее и глубже передать свои идеи, использует другие – «граждане» и «россияне»55.
В философии историографа-просветителя «народ» – это российские граждане, населяющие государство под властью князей и самодержцев. Восставший «народ» в «Истории» иногда выступает как «чернь». Категория толпы, черни, массы людей низкого происхождения известна со времен Античности и служит противовесом тому просветительскому идеалу, который предполагает существование гражданского народа, а на поиск этого идеала обращается историческая наука не без ущерба для самого предмета исследования.
«Русский народ» был открыт и изобретен как агент прошлого историками-популистами XIX в., близкими к славянофильству. Н. А. Полевой выступил против с критикой «Истории» Н. М. Карамзина, отстаивая право народа на прошлое России, узурпированное государством. Тем не менее вопрос о том, в каких понятиях и культурных практиках в Древней Руси получила выражение общность, которую критик называл «народом», остался нерешенным и даже не был поднят, поскольку для Н. А. Полевого важнее было сменить оптику и принять видимое благодаря совершенному повороту как новую «очевидность»56.
Славянофилы в полемике с западниками о путях развития России приложили немало усилий, чтобы обосновать изначальное единство славянских народов, «народность» жизни в России до Петра I, прямое участие народа в политике. Славянофилы создавали язык либерально-освободительной борьбы в противостоянии с имперскими интерпретациями прошлого и свои интеллектуальные истоки черпали в философских доктринах немецких романтиков и гегельянстве. Насколько голословными были исторические построения, основанные на идее широкой горизонтальной общности российского, русского или московского народа, можно видеть, например, из «Истории города Москвы» И. Е. Забелина. Комментируя последствия разорения Москвы Тохтамышем, автор утверждает, что спасение Москвы-города стало возможно благодаря «Москве-народу», иначе Москва должна была захиреть, что и произошло со многими городами Старой Руси (в том числе, по мысли Забелина, с Киевом):
Но с Москвою этого не случилось, потому что вокруг Москвы-города уже существовала Москва-народ, именно та сила, которая впоследствии заставила именовать и все народившееся Русское Государство – Москвою, Московским Государством. А всего с небольшим пятьдесят лет прошло с той поры, как Московские князья укрепили за собою титул и власть великих князей. Нарождению, нарастанию, накоплению Москвы-народа послужила конечно сорокалетняя тишина, которую так умно и настойчиво содержали вел. князья города Москвы. И вот теперь, когда город разорен до запустения, его быстро восстанавливает, обновляет и снова населяет Москва-народ57.
Почему в восстановлении Москвы принимал участие именно «Москва-народ», а не жители московского посада, пригородов и других городов? Почему именно этот народ стал сердцевиной Русского государства? И какими понятиями мыслил себя или мыслился современниками этот «Москва-народ»? Само его существование предпосылалось последующему рассуждению, а не выводилось из анализа источников.
В конце XIV – XV в. русские летописцы нередко пользовались словом «народ» в приложении к большим общностям людей, и было бы важно учитывать, что они понимали, в каком контексте употребляли и какими предикатами, эпитетами, оттенками смысла сопровождали употребление этого слова и его однокоренных. В науке, испытавшей воздействие славянофильского кругозора, эти вопросы не возникали, а сами интерпретации были навязаны как готовое знание. Неутешительный итог историко-терминологическим дискуссиям подвел В. О. Ключевский, когда отметил, что понятие «русский народ» в источниках до XVII в. не встречается, а чувство народного единства выражалось в русских землях «только в идее общего отечества»58.
В украинской интеллектуальной мысли XIX в. понятие «народ», по словам Зенона Когута, «позволило историку противопоставить (украинский) народ (российскому) абсолютистскому государству, тем самым имплицитно подчеркивая обособленность украинской истории от российской»59.
Нэнси-Шилдз Коллманн пишет, что в России раннего Нового времени социальные построения были известны в немногочисленных и слабо распространенных списках таких памятников, как «Тайная тайных», «Домострой», в сочинениях И. С. Пересветова, Ивана Грозного, А. М. Курбского. В целом, по мнению исследователя, названные «теории» «не были систематизированы и не имели значительного влияния»60. Эти и им подобные тексты распространяются в русской книжности во множестве списков только в XVII в. Однако количество списков не вполне отвечает направлению наших поисков. Если не считать редакторскую работу книжников, мы почти ничего не знаем о том, как читали потенциально теоретические тексты в средневековой Руси. Библейское и святоотеческое наследие привлекало большее внимание книжников XVI–XVII вв., чем неизбежно спорные тексты их современников. Обладало ли это наследие теоретическим потенциалом?
Ответ на этот вопрос неоднозначен. Основанные на библейской книге Бытия тексты, посвященные возникновению мира и известные в русских землях по компиляциям и противоречивым комментариям, единодушно умалчивают о создании общества. Общество, если понимать его просто как объединение людей, не попадает в Замысел Творения и является следствием серии его нарушений и сопутствующих им катастроф. В Хронографе 1512 года первое упоминание объединения живых существ обнаруживается в статье «О четырех великих морях»:
«Первое убо море великое начинает от человек, имущих песиа главы» (причем в списке РНБ F.IV № 178 писец создает библейскую рационализацию слов «песиа главы» вариантом «писания главы»)61.
Псоглавцы помещены на карту мира в момент его создания. Эти и подобные им существа, вроде «малой рыбицы ехиния» и «райской птицы сирина», в изобилии населяют просторы вселенной, но их «сообщества», похоже, ничем не помогли бы человекообразному читателю, пожелай он думать на том же языке о своих современниках. Однако модель социальных отношений заложена в предназначении всей «зияющей», «грозноокой», «пестрокожей», «частоопахой», «твердочелой» или «рогобивой» твари:
Обьступаху вся Адама, яко владыку раби, и окружаху и охоповаху родоначалника62.
Вся фауна, возникшая непосредственно перед «венцом творения», оказывается частью универсального объединения, место которого занято в наших ожиданиях понятием «общество». Владыке не требовалось укрощать своих рабов, поскольку они были смирны и безобидны, а Адаму, чтобы царствовать над тварью, достаточно было царствовать над своими страстями. Дальнейшая история человеческого родоначальника и всего его рода свидетельствует в первую очередь о тщетности попыток достичь общественного идеала и о необходимости установлений для пресечения страстей, разбоя, кровопролития и т. д. Действующими силами, помимо отдельных людей, являются при этом «царства», «княжения», «страны», «языци», «народи» («евреи», «египтяне», «еллини» и т. д.). С одной стороны, этого языкового запаса могло быть достаточно читателю начала XVI в., чтобы говорить об общественном устройстве. С другой – эти языковые средства, как представляется, были малопригодны для сравнительного обществоведения и разработки общественных теорий и идеалов. Все рассуждения книжников не могли противоречить тому, что в будущем мире будет Одно Царство, в котором сохранится основа первоначального деления на владыку и рабов.
Предыдущее рассуждение подводит нас к мысли о неизбежности княжеско-монархического общественного идеала библейской традиции в русской книжности. На практике древнерусская тема княжеской власти насыщена сомнениями. Например, усилия древнерусских книжников по перенесению категорий родства, осмысленных в рамках христианской этики, на социальные практики, скорее всего, следует признать тщетными, поскольку ресурс прообраза был значительно ослаблен за счет локальных социальных проявлений «братства» и т. п.63 Вместе с тем категории родства позволяют на всем протяжении русского Средневековья успешно развиваться представлениям о старшинстве и семейных иерархиях в отношениях между властями, а также между властью и подданными.
Другой способ воссоздания социального идеала в западной юридической традиции приводит к осмыслению королевского тела как единства бренного и вечного64. Развитие этой идеи в учение связано с угасанием магических представлений о целительных способностях короля и зарождением теоретической социальной рефлексии. Майкл Чернявский предположил, что специфическим для Руси по сравнению с Западной Европой было признание божественным не только властного тела, но и физического:
На Западе напряжение существовало между двумя неравными целыми, высшим и низшим, божественной и человеческой сущностями. В России напряжение было между божественной сущностью княжеской власти и святостью князя как человека65.
Санктификация княжеской власти, пишет Майкл Чернявский вслед за Георгием Федотовым, отличала русскую культуру не только от католической, но и от византийской и выражала, с одной стороны, признание в князе его индивидуальной святости и обязанности служения обществу, а с другой – причастность русских к языческому поклонению предкам66. Тезис о связи княжеской санктификации с язычеством является предположением, которое невозможно убедительно подтвердить или опровергнуть, тогда как аргументы в пользу святости князей наталкиваются на факт увеличения к XVI в. временных промежутков между преставлением князя и его канонизацией. Святость распространялась на давно умерших князей. Московские великие князья не канонизировали своих ближайших предков, если не считать канонизации царевича Дмитрия Ивановича, хотя ни предшественником на троне, ни предком царя Василия Ивановича он, разумеется, не был67.
Как представляется, Г. Федотов и М. Чернявский были не вполне правы, когда игнорировали специфику московского периода по сравнению с домонгольским и не вносили хронологических градаций и уточнений внутри каждого из них. Рассуждения Чернявского о канонизации московских великих князей опираются на совокупные данные, в которых на равных соседствуют Иван Данилович, Юрий Данилович, Дмитрий Донской, Василий III, Иван IV. Это отчасти анахронично, отчасти неверно (Василий III, Иван IV никогда не становились святыми). Гипотеза Чернявского о том, что Россия идентифицировалась с христианством, в ней отсутствовало светское понимание государства, а следовательно, князь совершал подвиг всякий раз не только ради государства, но и ради Христа, не отвечает на вопрос о том, почему и в каких случаях князья считали допустимым сражаться против единоверцев. С другой стороны, она позволяет автору понять, почему после духовного «падения», а затем и политического уничтожения Византии в России легко был усвоен и прижился византийский идеал царской власти. Однако утверждение о том, что это «усвоение» успешно состоялось, уже неоднократно вызывало критику и не может быть принято без многочисленных оговорок.
А. Л. Юрганов, вновь поднявший вопрос о сходстве западного представления о «двух телах короля» с московским обожествлением власти, видит принципиальное различие между ними в рецепции римского права в первом случае и отсутствии таковой при обожествлении светской власти – во втором68. Однако, во-первых, римское право в его средневековой интерпретации не обязательно ограничивало сакральные полномочия королевской власти, а королевские ритуалы нового времени продолжают подчеркивать мистическую власть юридического тела69. Проблематика «второго тела» царя в русской политической традиции возникает при обращении к «собиранию» земель и титулов московскими государями, к московской рецепции коронационных традиций, к сравнениям власти царя с властью Бога и к вопросу о роли царя в спасении душ его подданных. При этом «второе тело» московского царя с такими его атрибутами, как титулы, церемониальный образ, честь, генеалогия, местнический статус в ряду других правителей, трудно признать продуктом воображения одной только власти – будь то светской или церковной. Применительно к московскому обществу XV–XVI вв. скорее речь должна идти о переходе к особой репрезентации, соответствующей этосу европейского «придворного общества», а абсолютная власть, как показал Норберт Элиас, была не только творцом, но в не меньшей мере инструментом социального воображения, соответствующего этому этосу70. В данной работе будет показано, что новому воображению соответствовало в России представление об особом – обособленном от церкви, святости и духовной харизмы – и вновь освященном пространстве светской власти, которая формировала свою идентичность, занимая и подчиняя своим задачам дискурсы политики и церковного контроля.
Несходства в устройстве знания об обществе и общественной самоидентификации западных и русских сообществ иногда возводят к различию в языковых традициях.
Неудивительно, – читаем в «Соединенных честью» Н.‑Ш. Коллманн, – что в языке Московской Руси отсутствовало слово «общество»71.
Мы могли бы не согласиться: слово в языке существовало, но значило не «объединение людей», а скорее «общение», хотя имеются контексты, в которых слово это означает объединение общающихся между собой людей. – отсутствие историко-культурных исследований языковых реалий не следовало бы подменять констатацией отсутствия самих реалий72. Более сложный момент, что факт такого несовпадения выявляет неразвитость социальной теории в России. Означает ли отсутствие слова – отсутствие единого концепта и словоформ со сходным значением? Были же такие понятия, как земля (Русская, Московская, Новгородская, Псковская, Казанская и т. д.), вся земля, народ, православное всенародство, мир и др.73 Отвечая на этот вопрос, обратимся к лексеме «народ» и ее однокоренным.
Народ русского летописания
Какой именно народ населял русские земли и Московскую Русь? Был ли это Рим или Израиль, можно ли считать, что население нового великого государства – это был подлинный «избранный народ» или «ромеи-греки»? Как определяют себя жители этой империи? Есть ли у них общее самоназвание?
В январе 1644 г. в Москву приехал сын датского короля Кристиана IV Вальдемар Кристиан, чтобы жениться на дочери царя Михаила Федоровича Ирине. У современника и участника тех событий князя Семена Шаховского, направленного в Тверь навстречу датскому королевичу, не вызывало сомнений, что для того, чтобы выдать православную царевну за еретика-лютеранина, ничего не остается, как идти на нарушение заповедей. Причина одна: Россия воплощала единство сакральной Обетованной земли, тленного истинно христианского царства и крещенного в подлинное и исконное христианство народа. А это значило, что равной партии царевне не найти и вопрос о ее замужестве либо отпадает, либо должен быть решен через брак с еретиком с надеждой на его последующее обращение. Второй вариант оправдывался авторитетом апостола Павла (1 Коринф. 7:12–14). Сочинение Шаховского о правилах венчания королевича-протестанта и царевны было в том же году признано еретическим, но, возможно, именно потому, что московские власти выбрали для царевны Ирины Михайловны безбрачие, и само построение Шаховского от этого ничуть не лишается соответствия духу времени, по крайней мере частичного74.
Подобных затруднений просто не существовало до конца XVI в. Если мы обратимся к распространенной в московской книжности XV – начала XVII в. лексеме «народ» и ее однокоренным, нас ожидают семантические трудности, для разрешения которых было приложено немало усилий. Нам не помогут общие соображения о «народных массах», если они обнаруживаются в любых сюжетах летописей, где говорится о скоплениях людей. Важнее то, как именно устроены понятия коллективного участия и насколько мы вправе их во что-то превращать или кому-то присваивать.
В. В. Колесов, ссылаясь на Д. Ангелова, пишет, что в древнерусских письменных источниках
род определяется по общности происхождения – в отличие от других родов; племя – по общности этнической, поскольку эта общность еще остается существенным признаком единения многих родов в эпоху Киевской Руси (не случайно летописец говорит о племенах, а не о родах). […] Народ понимается по общности территории, на которой обитают прежние роды, объединенные в племена. Наконец, и язык – самая новая характеристика, потому что после XIII в. различия в языке оказывались существенным признаком данного народа на данной территории независимо от рода-племени. Однако и в это время народъ – пока еще простое обозначение множества людей. У народа нет еще своего государства, которое объединило бы в общее целое все расходящиеся по сторонам роды и племена, языки и страны75.
Выражение «пока еще…» свидетельствует о том, что В. В. Колесов придерживается представления об эволюции семантики слова «народ» от более архаичной народ как объединение племен на определенной территории и как толпа людей к более развитой народ как государственное объединение родов, племен, языков и стран. Впрочем, затем автор пишет, что и «народ как группа родственных племен только складывался»76. Этой эволюционной схеме, предполагающей развитие общественных идентичностей по магистрали «род – племя – народ – нация», противоречат устойчивые значения понятия «народ» в источниках XV–XVI вв., которые выбиваются из первого набора значений, предложенных Колесовым, и не подходят ко второму77.
Подробная критика историографических дефиниций древнерусской лексемы «народ» представлена в книге Т. Л. Вилкул. Видя в ней аналог современных социальных терминов, исследователи древнерусских социальных представлений обычно не останавливались на бытовании этой лексемы. Исследовательница обращается к обозначениям собраний в древнерусских источниках XI–XIII вв. и обнаруживает в слове «народ» полисемантичность, не позволяющую проводить строгих классификаций участвующих в этих собраниях социальных категорий. В целом Татьяна Вилкул считает его синонимичным слову «людие», но в большей мере связанным с высокой книжностью и библейскими контекстами. Расхождения источников между тем весьма значительны. Книга Бытия и восходящие к ней тексты «народами» называют виды животных. Многократно встречается оно в Новом Завете и воспринято богослужебными текстами. Применительно к группам людей и толпам часто говорится о «народах» в переводных «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрии», византийских хронографах. Однако в летописях это слово является сравнительно редким. Т. Л. Вилкул объясняет это явление следующим образом:
Сложно сказать, с чем связаны предпочтения летописцев. Возможно, дело в том, что составитель ПВЛ ориентировался на славянские переводы Ветхого Завета, где преобладает лексема «людие», и заложил традицию использования этого обозначения. Или же первоначально слово «народъ» для древнерусских книжников ассоциировалось с ‘толпой’ («народъ» в значении ‘толпа’ прослеживается по многим книжным памятникам), а более широкий ряд значений был воспринят постепенно из переводных памятников78.
Семантика слова «народ» столь неединообразна в источниках, что возникает вопрос, в каких точках соприкасаются между собой поля его значений79. Возможность в древнерусском языке идентифицировать словом «народ» множество любых живых существ: «кыян много множьство народа», «народ бесов», «множество народа птиць» или «слон… и прочии народ зверьскыи»80 – показывает, что это слово может служить аналогом древнегреческого ἔθνος81. Впрочем, существовали и многие другие лексические аналогии для народъ в греческом, латыни и разговорных европейских языках. Остромирово Евангелие, славянский перевод жития Андрея Юродивого и ряд других памятников этим словом обозначают множество собравшихся в одном месте людей, чему в греческом тексте соответствует слово οχλος82. Сходно в Геннадиевской Библии 1499 г.: «и изиде Едем противу им с народом тяжком и рукою крѣпкою», ср.: «καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ» (Числ. 20:20)83. Перевод Третьей книги Ездры той же Геннадиевской Библии выполнялся по латинскому источнику, и здесь использовано «и в народѣ его» для лат. in nationibus ejus (Есф. 3:7)84. Впрочем, в русских переводных памятниках встречается народъ на месте лат. populus («от всякого народу», ср.: ex omni populo85), греч. γενος («и оузрѣвше народы мр҃твы лежаща»)86. В начале XVIII в. читается в примечании к чертежу: «Профиль ворот популо или народных» (ср. ит.: «Profilo della porta del popolo»)87.