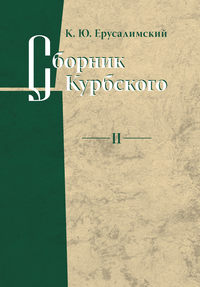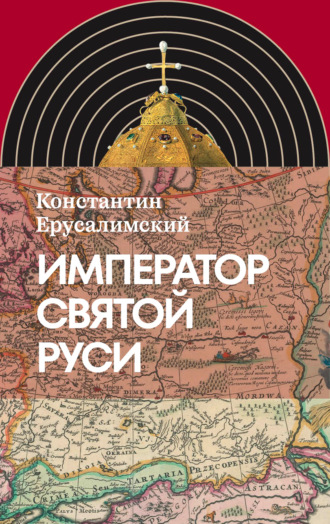
Полная версия
Император Святой Руси
Финальный момент истории раскрыл не-модерные (иначе – средневековые) страхи и ожидания. Цветан Тодоров видит в «открытии Америки» парадоксальный шаг к модерному миру, сделанный экзальтированным средневековым мышлением и возможный благодаря далеким от модерной ментальности Христофору Колумбу (Колону) и конкистадорам, мечтавшим найти земли, известные по пророчествам и фантастическим свидетельствам Ездры и Исайи, Плинию, Марко Поло, Паоло Тосканелли и Пьеру д’Айи, найти новый путь к завоеванию Иерусалима, обеспечить окончательное торжество христианской церкви и процветание новой республики, завоевать колонии для народа Испании, переназвать завоеванный мир и рассказать, подобно Одиссею, историю мира заново17.
Астрология объединяла эсхатологические настроения иудеев, христиан и мусульман и позволяла ученым вычислять даты грядущего апокалипсиса. Это занятие и стало отличительным знаком вхождения в модерную эпоху, его повсеместным выражением в самых разнообразных формах. С исламом православие сближала вера во Второе Пришествие Христа, с иудаизмом – апокалиптическая и имперская в своих аллегориях «Книга пророка Даниила» (в иудаизме – «Sefer Daniyel»). «Гонка апокалипсисов» второй половины XV – XVII в. не обошла стороной Российское государство. В том же 1491/92 г., когда в западном христианстве, иудаизме и исламе наступала или близилась новая эра, по стечению обстоятельств, которые трудно считать чистой случайностью, в России (Русском господарстве), согласно византийскому летосчислению, завершилась Седьмая тысяча лет от Сотворения мира и началась Восьмая тысяча. В этой дате интеллектуалы Северо-Восточной Руси искали тревожные сигналы надвигающегося апокалипсиса.
Последствия этих страхов не раз изучались18. Одно из них относится к середине XVI – началу XVII в., когда сменились поколения Ивана Пересветова и князя Андрея Курбского. В эти годы в России зародился жанр истории. Он будет изучен нами в связи с так называемой доктриной Москва – Третий Рим, распространение которой, как теперь ясно, на протяжении долгого времени было узколокальным, а круг значений далек от привычных для более поздних эпох оптимистических слоганов. Придворные интеллектуалы спорили о чем-то далеком от «исторического выбора», «своего пути» или «оснований Империи». Когда в Россию приехал ученик и последователь фра Джироламо Савонаролы Максим Грек, с его учением, популярным в придворных кругах, пришлось считаться высшим церковным и светским властям, а позднее они вошли в старообрядческий канон, поддерживая апокалиптические настроения и продолжая оказывать влияние на умы благодаря книжной традиции Максима и его учеников (например, полностью переосмысленных сочинений князя Андрея Курбского).
Идеология в любом ее понимании имеет дело с областью активного социального взаимодействия. Это сфера базовых мотиваций, обычно весьма редуцированных и тем не менее важных для сообщества, которое обустроило коммуникации в этой области по каким-то причинам именно так, а не как-то иначе. Когда Россию постигла Смута, поколение князей Ивана Хворостинина и Семена Шаховского оказалось лицом к лицу с проблемами, которые не тревожили их предшественников, да и современники искали ответы на тревожащие их вопросы, нередко не имея под рукой осмысленных решений и образцов. Как пишет С. Ю. Шокарев:
Нельзя, однако, абсолютизировать борьбу мифологем в противостоянии между Борисом Годуновым и Лжедмитрием I. Идеологические аргументы и исторический контекст волновали немногих жителей Российского царства. Базовые представления складывались из более простых понятий19.
Для «широких масс» значима была устойчивость и безмятежная сменяемость власти, отразившаяся, как отметил исследователь, в неизменности формуляров царских указов и прочих форм взаимодействия между властью и людьми. Умами правили не рафинированные идеи, а общие обстоятельства, которые поддерживали не только мыслимую устойчивость, но и некоторую подвижность порядка. Ни избрание Бориса Годунова, ни даже приход к власти царя Дмитрия Ивановича (как Лжедмитрия I, так и последующих претендентов на это имя и титул) не несли в себе непреодолимых потрясений и не меняли «базовых представлений» ни высшей власти, ни социальных низов.
Т. А. Опарина отмечает двойственность в том, как патриарх Филарет Никитич после возвращения из плена в 1619 г. санкционировал заимствования из западной (прежде всего польской и украинской) книжности:
Идея богоизбранности Русской земли выполняла в первую очередь задачи укрепления государственной власти и консолидации общества. Для их решения власть считала необходимым доказать своим подданным исключительность исторического пути России, страдающей за истинную веру. Охранительный курс Филарета означал также возвращение к прежней традиции, принятой в XVI в., – оттуда черпались представления, обосновавшие новый идеал благочестия. Но призывы к возрождению, возвращению к «старине» неизбежно сочетались с новой духовной реальностью20.
По мнению исследовательницы, эта система просуществовала до 1640‑х гг., когда наметился новый виток открытости, который автор связывает с «планами создания русской империи»21. Их застало поколение Афанасия Ордина-Нащокина, ставшее активным участником событий Раскола, Тринадцатилетней войны и создания Государства Великой, Малой и Белой России.
Планы по созданию в России империи запускались неоднократно в конце XV – начале XVIII в., и каждый раз по своим причинам, причем ингредиенты имперских идеологий менялись с течением времени и в связи с пересмотром самих оснований имперской власти. На долю поколений XVII в. пришлись тревоги, вызванные новым надвигающимся апокалипсисом. Эти страхи не исчезали ни в начале XVII в., когда Антихрист занял свое место среди действующих лиц Смуты, ни в 1666 г., когда Антихриста ждали по нумерологическим причинам и видели много знамений его явления в церковной и в государственной жизни, ни 33 года спустя – в 1699 г., когда царь Петр Алексеевич вернулся из Европы, но для многих современников это был уже не прежний царь и даже вовсе не тот человек, который уезжал из Российского царства годом ранее22.
А. П. Богданов анализирует чины венчания на царство как источник по истории идеологии в России конца XV – XVII в. и обнаруживает реализацию идеи «Нового Рима» в Пространной редакции чина венчания Ивана Грозного, а идеи Нового Израиля, Святой земли, Святой Руси в различных памятниках XI–XVII вв., однако в качестве программы, заявленной «на новом идейном уровне» – в чинах венчания царей Алексея Михайловича 1645 г. и Федора Алексеевича 1676 г. Истоками идеологии Святой Руси исследователь считает представления Ивана III, подразумевая «Митрополита Зосимы извещение о пасхалии на Восьмую Тысячу лет» (1492 г.)23.
Судьба ряда идеологем Московского царства станет предметом рефлексии лишь в момент их деконструкции – вместе с самим призраком Московского царства – в поколениях Василия Татищева и Михаила Ломоносова, несмотря на то что ожидаемый апокалипсис ни в конце XVII в., ни позднее так и не наступил.
Конфликтные, нередко между собой, «высоколобые» идеологемы мелькают с различной степенью полноты в источниках, не позволяя точно фиксировать зарождение одних представлений и их смену новыми. В зависимости от исследовательской оптики датировки варьируют нередко на десятилетия и даже столетия. Однако еще глубже латентные формы идеологического, позволяющие власти и подвластным оперировать языками для идентификации и самоидентификации, заявлять о своей принадлежности к общностям и присваивать себе общности.
Сообщества в Российском царстве возникали по различным линиям принадлежности и идентификации. Взрослый человек принадлежал одновременно православию в самом широком смысле и своему отдельному приходу, господарю (государю) и своему непосредственному господину, виделся многократно с членами своей семьи и рода, с духовным отцом и исповедниками, сотрудниками по общему делу, соратниками в походах и сотрапезниками на пиру, наконец, своему поколению, отличному от современных ему детей и стариков, – и имел представления о всех этих кругах своего общения и взаимодействия. Будучи монолитным, идеологическое нередко нигде и никак не эксплицировано. Оно не явлено как целое, потому что оно для всех слишком очевидно. Регламентировать частные стороны этого целого проще именно потому, что на более общем уровне оно не вызывает вопросов. В отличие от сложных мыслительных конструкций, например от научных гипотез, идеология в большей мере связана с опытом реального взаимодействия между людьми. Идеология касается в большей мере не образа мыслей, а дискурсивно воплощенных и связанных между собой форм деятельности.
Эти формы имеют отношение к границам сосуществования между людьми, а потому в первую очередь призваны связать различные виды деятельности в относительно целостное и последовательное взаимодействие. Было бы преувеличением ждать от не-модерной идеологии доктрины тотального контроля. Для этого недоставало не только ресурсов управления, но и самих способов коммуникации, упрощающих проникновение в сознание личности, социальных групп и масс. В московской культуре XV–XVIII вв. огромные символические ресурсы были сосредоточены на годичном календаре с его последовательностью праздников, соединяемых приходскими богослужениями, проповедями, исповедями прихожан. При идеальной сохранности источников нам пришлось бы часто совмещать этот план жизни с тем, в котором возникали мотивации для военных походов и далеких путешествий, отношения с высшей церковной и светской властью, представления о мире и вселенной.
Идеология, выражаясь в актах регулярного осмысления практик, не останавливается на готовых высказываниях и проходит их насквозь, превращая в свои сиюминутные формы, в своих временных союзников и в свои временные же орудия. В отличие от задач интеллектуальной истории исследование идеологии погружено в практики не меньше, чем в идейную борьбу. Ритуальные контакты, никогда до конца не отрефлексированные общие понятия, изменчивые языковые и фигуративные возможности составляют ту исходную площадку, на которой обнаруживаются тенденции идеологического развития. Остановить и закрепить достигнутое на этом пути – задача идеологов. Однако для периода Московского царства фигура идеолога нехарактерна.
Идеология не-модерного типа не опирается на проективную социально-конструктивистскую работу и не выражается в целостных доктринах. Пользуясь подобными понятиями, мы привносим – иногда по необходимости – языки модерного интеллектуализма в интерпретацию Другого. Однако мы не можем обойтись и без своего языка, он направляет нас к выбору ключевых понятий и рефлексии над тем, как они выражаются, встречаются и расходятся в изучаемых текстах, дискурсах и практиках. Наиболее устойчивые из них служат как бы спасательными кругами в океане смыслов. Приемлемые формы служат подспорьем для выявления того, в какие слова и жесты вкладывали современники смыслы, а иногда удается понять и то, как и какие смыслы проявлялись между формами, подталкивая формы к развитию и стимулируя друг друга создавать новые смысловые конструкции.
Специфика идеологии в том, что она, в отличие от повседневного опыта и умственного или научного знания, заметна на поверхности дискурсов. Идеология привнесена и маркирована. Она как бы навязана откуда-то, сверху или снизу, из‑за рубежа или из идей интеллектуалов, но почти всегда понятно, откуда именно. Сознание современника нуждается в ней, но не может избежать мысли о ее чужеродности. Все изучаемые в этой книге идеологические формы не являются естественными порождениями общественной жизни и не являются в буквальном смысле необходимыми, естественными порождениями органического развития общества. Без них можно было, а иногда даже «нужно было» обойтись, например, чтобы упростить коммуникацию с заграничными партнерами, завоевать сердца подвластных или убедить скептиков и противников в своей правоте. Они служат то костылем в распадающейся структуре общежития, то заимствованы за пределами страны и современности, чтобы найти общий язык с этим запредельным миром, то и вовсе чужды сознательной политике и каждодневной жизни, но востребованы, поскольку вторжения в политику и в жизнь сделали их призрачно нужными.
Можно представить себе, что на месте этих чужеродных наростов в идейном мире Северо-Восточной Руси возникли бы иные идеологемы. Но было бы неверно полагать, что от их выбора, кто бы его однажды ни осуществил, не зависело дальнейшее развитие мысли, рамки для коллективных идентификаций населения Московской Руси и специфика споров вокруг этих идентификаций. Идеология вызывает иронию, иногда неуловимую, а иногда весьма бурную. Ирония может проявиться в крайних и чрезвычайных аспектах идеологического, например на допросах, когда следователь прощупывает взгляды подозреваемого, а тот раскрывается или стремится отыграться за уже постигшее раскрытие. Или в эмиграции, когда, выехав за границу и поняв отличия местных условий общения от своего отечества, эмигрант рефлексирует эти отличия и пытается их оценить.
Непросто бывает выявить подобную иронию. Прежде всего, она выступает в формах обращения с прошлым. Джон Покок пишет, говоря о создании исторического мышления в позднем Средневековье и эпоху Ренессанса:
В конце концов именно греки начали писать историю в том виде, какой она по преимуществу и сохраняет: как упражнение в политической иронии – понятный рассказ о том, как людские поступки приводят к иным последствиям, чем было задумано24.
В Италии эпохи Позднего Ренессанса, и особенно в Венеции и Флоренции, как полагает исследователь, наметились сплавы библейского и республиканских языков, ведущие не только к размыванию идеалов античного республиканизма, но и к ревизии библейских идеалов Царства Небесного как идеальной республики. На месте этих форм возникли представления о «новом государе», стремящемся преодолеть «вторую природу» гражданина республики и удержать власть среди людей, привыкших жить в свободе, и возник новый способ говорить о формах республик:
Ирония становилась более явной при взгляде на временное княжество, предположительно основанное апостолом Петром, единственной фигурой иудео-христианского пантеона (кроме, возможно, императора Константина), которой можно было приписать роль законодателя по благодати25.
Подобный язык взаимной подозрительности в отношениях между светскими и церковными установлениями мы обнаружим в Московской Руси, когда обратимся к разногласиям между Федором Карповым и митрополитом всея Руси Даниилом в первой половине XVI в., патриархом Гермогеном и сторонниками избранного царя Владислава Жигимонтовича, патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем или Петром I и патриархом Адрианом. Однако троп иронии, ставший благодаря «Метаистории» Хейдена Уайта актуальной поэтикой истории, оказал и более глубокое влияние на историческое сознание, как если бы одно его вторжение в бытописание привело к подрыву летописания и хроникального изложения.
Возникновение истории (как жанра, как формы мышления о современности и о прошлом, как правило – недавнем) связано в России также с узким отрезком во времени, о котором речь пойдет в этой книге. Как отмечают В. Б. Кобрин и А. Л. Юрганов, свободолюбивые обычаи древности прославлялись в бережно копируемой вплоть до модерной эпохи Повести временных лет, пользовались немалой популярностью у книжников Московской Руси, обладали авторитетом и немалым очарованием, и отказаться от них было невозможно. Это создавало напряжение в отношениях между царем и подданными, которые все еще могли не чувствовать границ, обращаясь (как Василий Шибанов, Василий Грязной или князь Андрей Курбский) к высшей власти так, как если бы были все еще актуальны «пережитки вассально-дружинного менталитета»:
Восприятию же этих текстов способствовала общая консервативность средневековой идеологии, ее настроенность на традицию, «старину», «пошлину»26.
Значит ли это, что холопы иронизировали над царем, опираясь на свою идеологию, а Иван Грозный проявлял иронию в отношении этой идеологии и тоже иронизировал? Недоверчивость исследователей к интонациям источников во многом связана с нашей неспособностью различать за повествовательными структурами живые голоса, плотно продумывать мотивации и взгляды. Если бы мы могли понимать, как движется мысль в изучаемых высказываниях и где наталкивается на непреодолимые препятствия, где включается ценностный выбор и готовность пострадать за свои убеждения, а в какой момент автор ничем не рискует, мы бы лучше понимали те грани идеологии, которые, несомненно, ощущались, но не явлены в источниках или – нередко – неочевидны и вызывают дискуссии. Например, Дэниел Роуленд, поддержав концепцию Э. Л. Кинана о вымышленном авторстве и апокрифичности сочинений Ивана Грозного и князя Андрея Курбского, доказывает, что князь Семен Шаховской для полемики с царем Михаилом Федоровичем
состряпал двух вполне правдоподобных исторических, но вымышленных персонажей, выразительно раздувая защиту противоположных «идеологических» позиций» (т. е., согласно этой концепции, изобретая сочинения Грозного и Курбского)27.
Если исключить такой уникальный источник, как Переписка царя с беглым советником, то останутся ли у нас еще какие-либо следы подобных «идеологических» противоречий в Московском царстве? Впрочем, нельзя считать вполне доказанным даже то, что «идеологические» позиции в сочинениях Ивана Грозного и князя Андрея Курбского сильно расходятся28.
Не вступая здесь в дискуссию о «природе самодержавия», остановимся пока на двух подспудных сторонах этой природы, которые, как представляется, наполняют наши исследовательские логики едва уловимыми анахронизмами. Даже не вдаваясь в терминологические расхождения между сторонниками различных интерпретаций самой «природы» (ее можно понимать, например, как завоевание монархов, как социальную ментальность или как латентный паттерн), мы можем понимать самодержавие как совокупность политических деклараций, как признанную и усвоенную политическую форму. Младший современник Ивана Грозного король Шотландии и Англии Яков Стюарт в одном из своих сочинений поучал старшего сына, принца Генриха, что Бог сотворил его «маленьким Богом, чтобы восседать на Его Троне и править людьми», причем свою миссию этот «маленький Бог», полагал Яков I, должен исполнять «достойно и правдиво», но судить его может не народ, а только сам Бог29. Вряд ли Яков I читал наиболее пространные сочинения Ивана IV, где прозвучали сходные мысли совсем в ином контексте. И не было нужды: нечто подобное можно найти в самых разных культурах, и декларации величия при этом нередко доходят до высот небесных. Было бы странно – а фактически и неверно – делать из этого вывод, что представления Якова I о пределах и полномочиях царской власти совпадали с таковыми у Ивана Грозного.
С другой стороны, вскоре после кончины короля Якова I в Российском государстве на соборе против муромского протопопа Логина, состоявшемся в середине 1653 г., Иван Неронов, другой протопоп, в то время служивший в Казанском соборе на Красной площади, упрекал своего бывшего соратника патриарха Никона, что он «на нас возстал» и говорил, будто на царскую власть плюет и сморкается («Я, де, на нее плюю и сморкаю»)30. Мы не знаем, сыграл ли этот извет протопопа позднее какую-нибудь роль в конфликте между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, но ирония в адрес высшей светской власти звучала не только от имени Никона. Ею наполнены дела о «слове и деле». А. М. Панченко в связи с этими делами говорит о «повсеместном брожении, всегдашней готовности к оскорблению величества» на всем протяжении XVII в. после Смуты31. Изветы, конечно, выполняли функции социальных скреп и лишь непрямо говорят о том, что думалось и произносилось в адрес высшей власти. Чаще всего доносчики вырывали слова из контекста, в котором экспрессивный обмен бранью превращался в череду провокаций, нередко еще и сдобренную алкоголем32. Вместе с тем из чего следует, что власть должна была вызывать у человека XV–XVIII вв. почтительный ужас?
Маршалл По, отвечая на вопрос о причинах добровольного закрепощения российского служилого класса, обращает внимание на условность риторики, которая позднее, уже в модерную эпоху, наполнилась негативными смыслами. В терминологии Московской Руси государь и холоп были аналогом ритуальной придворной схемы суверен и нижайший слуга33. А. Л. Юрганов обратил внимание на то, что формула волен государь в холопе еще в начале XVI в. использовалась в приложении к любым земным суверенам, включая удельных князей34. Корнелия Зольдат, развивая идеи, близкие к концепции Маршалла По, а также к построениям Г. П. Федотова о кенотических формах русской святости, полагает, что, называя себя «рабами», члены московской правящей элиты добровольно уничижали себя перед лицом государя/Бога35. Приведенные концепции, как и идея осознанного противостояния монгольской властной доктрины средневековому вассалитету, представляются уместными, но не исчерпывающими ответ о том, почему в Российском государстве сложилась модель государства как доминирования над холопами. В этом нелепо было бы видеть проявление общей закономерности истории.
Подобный казус уникален по меньшей мере в нескольких его косвенных выражениях. Во-первых, на всем протяжении существования Московского царства не сложилось устоявшейся системы престолонаследия, и природные государи не нашли механизма недопуска своих холопов к высшей власти (цари Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов – это государи-холопы)36. Во-вторых, сами высшие власти допустили и сочли за благо поддержание матримониальных стратегий возведения в высшую элиту своих холопов, тогда как формальные полномочия во власти цариц не были строго отграничены от власти их мужей, что и позволило в этот период женщинам неоднократно вступать в борьбу за высшую власть (показательны примеры цариц Ирины и Марии Годуновых, Марии Нагой и Марфы Романовой, придворная борьба между кланами в правление Алексея Михайловича и после его смерти, а также борьба за наследование трона в последние годы правления царя Петра Алексеевича)37. В-третьих, московская элита смирилась не только с холопским статусом, но и с крайне уничижительными именами, из которых образовалась значительная часть дворянских фамильных прозвищ, и унижение подвластных при помощи пейоративных имен происходило на высшем уровне, о чем говорят отнюдь не развлекательные послания Ивана Грозного и «потешные» лишь по форме наречения Всешутейшего собора царя Петра Алексеевича38.
Власть не была безгранична и оспаривалась не только в названном. Она мыслилась в Москве XV – начала XVIII в. как воля Божья, и не только служилый человек, но и великий князь, царь и великий князь, а затем и император, царь и великий князь, наполняя свои символические ресурсы все новыми доказательствами всевластия, тем не менее понимал, что он носитель власти постольку, поскольку на то воля Божья. Ирония в адрес царя со стороны высшей духовной власти бывала даже вполне уместной, учитывая формальную непричастность светского царства (imperium) к сакральной власти (sacerdotium) в византийской и отчасти наследующей ей русской православной традиции39. Формула власти от Бога учинены суть не отвечает на вопрос о том, как проявляется Божья воля на свержение власти. А в том, что власть может быть свергнута, не сомневались ни летописцы XI в., ни историки начала XVIII в. Кроме того, в самой этой формуле невозможен тот смысл, который приравнивал бы власть земного царя к власти Бога. Такой борец за самодержавие, как Иван Грозный, мог бы удивить как раз тем, что заявил о запрете на подобное сравнение. В послании Стефану Баторию 1581 г. он прокомментировал упреки короля и парировал один из них словами, что в его царстве никому не разрешено называть царя Богом40.
При этом безграничная власть патриарха Никона над священством не выдержала в те же годы, когда прозвучали слова «плюю и сморкаю», испытания расколом церкви, против которого выступал и изветчик патриарха Иван-Григорий Неронов, и Никону пришлось не только уступить царю и другим придворным и региональным властям по вопросу о преступлениях старообрядцев, но и самому покинуть патриарший престол в непримиримом противостоянии с царем Алексеем Михайловичем.
Зримый индивидуализм авторов Московской Руси на фоне коллективных взаимодействий и множества лишенных авторства дискурсов – это конвенция, достигнутая чаще всего путем многолетних исследований и поисков совпадений и расхождений между авторскими и безличными формами идеологического. Нарушение порядка вещей нередко и служило основанием для высказывания. Адресант в письме обращается к авторитетному собеседнику с вопросом: что не так в том, как я это думаю и вижу? Писатель выстраивает рассказ о событиях современности, отмечая расхождения между декларациями и их реализацией, общепринятыми ценностями и их соблюдением. Ирония позволяет в подобных случаях, как и в протоколах допросов, выявить грани между идеологическим и реальным.